Текст книги "Смерть чистого разума"
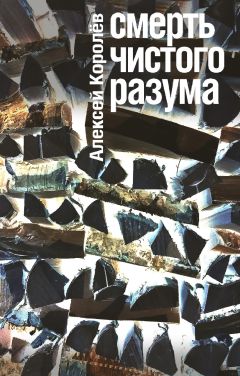
Автор книги: Алексей Королев
Жанр: Исторические детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 31 (всего у книги 34 страниц)
– Отметим этот факт, – кивнул Ульянов, – хотя неизвестно, понадобится ли он нам. Итак, европейская величина не выказала никакого суждения относительно состояния Корвина. Мы с вами не европейские величины, но давайте чуть-чуть порассуждаем. Представим себе на секунду, что есть человек, не заинтересованный в том, чтобы Корвин исцелился.
– Это кто же, например? – спросил Целебан.
– Ну чтобы пока никого и ничего конкретного не упоминать, предположим, что это ваши русские коллеги. Сидя здесь, в Ротонде, под присмотром доктора Веледницкого, Корвин был оторван от практической деятельности. Возвращение к ней вряд ли понравилось бы нашему правительству, пропади оно пропадом. Как вам такой сюжет?
– Правдоподобно, – кивнул Веледницкий. – Собственно, в прошлом году в «Московском телеграфе» была совершенно погромная заметка, не помню за чьей подписью, в которой прямо указывалось, что раз уж невозможно упрятать Льва Корнильевича на каторгу, то хорошо, что сидит взаперти в своём личном бедламе. Так прямо и было сказано – «бедламе». Негодяи.
Инспектор Целебан кивнул в знак согласия с «сюжетом».
– Но должен заметить, – сказал Веледницкий, – что как лечащий врач я не склонен трактовать некоторые, скажем так, смягчения в поведении Льва Корнильевича как признаки серьёзных изменений к лучшему. Да и сам он, кажется, потерял надежду. Во всяком случае, сравнительно недавно – не более двух недель назад – он в очередной раз категорически отказался принимать успокоительное, заявив, что я «трачу его время, которого у него и так немного осталось». Это точная цитата, если что.
– Да? – оживился Ульянов. – Надо же. Две недели назад, говорите? Ну значит, за несколько последующих после описанных вами событий дней в жизни Корвина произошли существенные изменения. Потому что не далее как в прошлую пятницу в записке для Шубина он предстал, по его собственным словам, большим оптимистом относительно своего здоровья.
– Записке? – Веледницкий подскочил. – Какой записке?
– Вот этой, Антонин Васильевич.
* * *
– Вы вовсе не контролировали единолично переписку Корвина, – сказал Ульянов, когда все насладились. – У него был собственный агент.
– Кто же это? – пролепетал Скляров.
– Малыш Жакар. Думаю, кстати, что подобные поручения он выполнял не единожды. И не только Корвина. Например, я убеждён, что чёртов полковник Таланов не раз раскрывал для Жакара свой кошелёк, например, не далее как вчера. Талантливый ребёнок, далеко пойдёт.
– Лев Корнильевич действительно благосклонно относился к маленьким детям, это не секрет – причём это одна из его причуд последнего времени. Ранее он был вовсе не чадолюбив, – сказал Веледницкий.
– Не к маленьким детям вообще, доктор. А именно к малышу Жакару, которому очень ловко удавалось поддерживать связь Ротонды с внешним миром… в тех случаях, когда Корвину не хотелось, чтобы об этом знали вы.
– Ума не приложу, зачем ему бы это понадобилось? – Веледницкий развёл руками.
– Не знаю, право слово, Антонин Васильевич. Не имею не малейшего представления. Но факт остаётся фактом: Корвин немало от вас скрывал. Скажите, вы когда-нибудь задумывались о смысле написанного на внутренних стенах Ротонды?
– Нет, – просто ответил Веледницкий. – Хотя и обсуждал это с Блейлером. Он согласился с моей идеей, что эти надписи представляют определённый интерес для психиатра, но руки заняться ими у меня так и не дошли.
– Вы полагаете это просто бред? – спросил Ульянов. – Нимало. По крайней мере часть надписей это вполне осмысленная вещь – что-то вроде памятной книжки, в которую Корвин заносил, скажем, имена своих посетителей. Они были зашифрованы, как и даты визитов – последние в виде библейских цитат. Например, глава 18, стих 8 означало первое число восьмого месяца восьмого года, то есть первое августа, глава 28, стих 8 – второе августа. Эти надписи он наносил на участок стены перед собственным столом, а по мере наполнения, видимо, стирал – точно так же, как люди меняют памятные книжки, когда чистые страницы закончатся.
– И что же, – в голосе Целебана недоверие чувствовалось так сильно, что скрыть его он даже не старался, – вы расшифровали имена этих посетителей?
– Совершенно верно, – ответил Ульянов. – Корвин записал имена гостей, которые должны были прийти к нему первого августа – их ему сообщил, несомненно, Антонин Васильевич.
– Точно так, – отозвался Веледницкий.
– …а вот второго августа к нему должен был прийти некий «князь» – и у меня есть все основания полагать, что речь идёт о новом друге инспектора Целебана, ныне, думаю, уже покинувшем пределы Швейцарии. Вы же не сообщали Корвину о приезде великого князя и его намерении посетить Ротонду?
– Да я его первый раз сегодня ночью увидел! – в сердцах воскликнул Веледницкий.
– Вот именно, – сказал Ульянов.
– Но как вам всё это удалось? – воскликнул Скляров, хотя этот же самый вопрос читался в глазах и Веледницкого, и Целебана.
Ульянов рассказал как.
* * *
«На доске пять фигур. Хотя нет, четыре, меня можно не принимать в расчёт, я – зритель. Манера, в которой Ильич ведёт партию аккуратно и неторопливо, каждый его ход – выверен. Точно Тарраш. Или даже Стейниц. Его невозможно обыграть, обороняясь. А эти трое именно обороняются, задавая вопросы, отвечая на вопросы, но не атакуя, не дерзя. Сейчас они прилежно слушают его, не понимая, что эндшпиль уже начался».
* * *
– Что же получается? В записке для Шубина – написанной, как и полагается, – правой рукой и, несомненно, самим Корвиным, великий затворник отчётливо выражает желание взять у Шубина эти деньги и даже сообщает, на какие цели и кому именно они пойдут. Послание изложено ясным языком, хотя и с несколько литературными оборотами. И главное – там есть предельно недвусмысленные слова: «советую Вам в ближайшее время обратить особое внимание на новости из Италии». А написанное – в тот же день! левой рукой! – письмо в Гельсингфорс, напротив, весьма таинственно и полно смутных сомнений в перспективах основанного его поклонниками движения. Корвин называет себя в нём человеком чистого разума и чистого духа и ясно выражает намерение не продолжать более активную политическую деятельность. Довольно-таки интересный феномен, как сказал бы Каутский, который, как известно, понятия не имеет, что такое «феномен» в философском смысле. Столь резкая перемена настроения – в течение одного дня! Тут поневоле задумаешься – не опасно ли оставлять в живых столь опасного человека, простите мне мою тавтологию.
– Вы хотите сказать, что кто-то убил Корвина, потому что тот начал окончательно сходить с ума? – в ужасе спросил Скляров.
– Наоборот, – ответил Ульянов. – Потому что Корвин начал понемногу исцеляться.
– Я ничего не понимаю, – сказал Веледницкий.
– Это ничего, – сказал Ульянов. – Сейчас поймёте. У нас есть два документа. Про один мы точно знаем, что он написан рукою Корвина и в нём автор предстаёт перед нами человеком, если ещё и не полностью здоровым, но ясно видящим пути к своему выздоровлению. Второй документ – смутен и неясен, правда, за исключением того, что его автор определённо не здоров. Другое дело, что мы совершенно не уверены, что автор этот – Корвин.
– Как это «не уверены»? – вскипел Веледницкий. – Это его рука, всё что написано им за последнее время, написано именно этим почерком. Простое сличение совершенно вас убедит, Владимир Ильич. Да, есть эта несчастная записка. Я подтверждаю, что её писал Лев Корнильевич, – и я совершенно не понимаю, почему она написана правой рукой. Я никогда специально не интересовался психопатической природой леворукости. Возможно, профессор Блейлер…
– Оставим пока профессора Блейлера, – сказал Ульянов. – Инспектор, скажите мне как специалист, – высказанная мной версия правдоподобна?
– Допустим, – сказал Целебан. – Но кому могло помешать выздоровление Корвина? Моих русских коллег давайте всё же не учитывать, чтобы не затемнять и без того неясную картину. Так кто же? Я подозреваю, что доктор Веледницкий, например, первым бы желал этого исцеления: пусть интерес праздных визитёров к лишённому такой знаменитости пансиону ослабел бы, зато его слава как врача поднялась бы до невероятных высот.
Веледницкий кивнул и улыбнулся.
– Да уж, тогда профессор Блейлер, пожалуй, стал бы отвечать на мои письма с большей оперативностью. Да и вообще, dat census honores.
– Вы плохой логик, инспектор, – сказал Ульянов. – Ваш силлогизм хромает на обе ноги.
– Почему? – спросил Целебан.
– Потому что он звучит так: «Всякий врач, исцеливший Корвина, прославится» – «Доктор Веледницкий врач» – «Доктор Веледницкий прославится». А это ошибочная конструкция.
– Вы передёргиваете, господин Ульянов. Моя вторая посылка звучит по-другому и она логически безупречна: «Доктор Веледницкий – врач, исцеливший Корвина».
– Силлогизм не может быть построен, если хотя бы одно из двух утверждений – неверное, – сказал Ульянов. – Ваша вторая посылка ложна.
«Он, несомненно, гений, – подумал Маркевич. – Острота его ума оправдывает и его грубость и невыносимое чванство. Поэтому он действительно в первую очередь политик и только потом – революционер. Что бы он сам по этому поводу не говорил и не думал. Только политикам прощается всё – и горе тому революционеру, который не сможет вовремя победить в себе хмель борьбы и восстания и превратиться в составную часть того, что принято называть “правящим классом” – со всеми его кажущимися поначалу столь неприемлемыми составляющими».
– Владимир Ильич, – холодно сказал Веледницкий, – вы зашли чересчур далеко. Извольте объясниться.
* * *
Пробило час.
– В этой истории, – сказал Ульянов (он не выдерживал специально паузу, просто новый кофе оказался слишком горячий), – в этой истории есть момент медицинский, есть литературный и есть – философский. Мало кто менее моего сведущ в медицине – если не считать многолетней борьбы с катаром желудка, – но в вопросах литературно-философских, смею надеяться, я кое-что понимаю. Начать придётся, однако же, как обычно, с самого трудного. Скажите, Антонин Васильевич, как часто вы выступаете в периодической печати?
– Я отвечу, Владимир Ильич, хотя делаю это исключительно из ещё сохраняющегося к вам уважения, – Веледницкий, похоже, не врал. – Мои путевые заметки о Палестине и Египте выходили в «Северной Пальмире». Небольшое исследование о положении земских врачей волжских губерний – в «Вестнике Статистического общества». Очерк о профессоре Блейлере – в «Ниве». Вот, кажется и всё, – ну если не считать… кхгм… статей политического свойства, вам, Владимир Ильич, известных.
– Известных, – сказал Ульянов. – Но я о другом. О ваших медицинских трудах.
– Ах вот оно что… Даже в голову не пришло. Да нет, как-то особенно похвастаться нечем. Я ведь практик. Кроме того, так получилось, что большую часть жизни я провёл за границей, а добиться возможности опубликоваться здесь в научных журналах иностранцу… если он не Сербский и не Бехтерев…
– Однако, – заметил Маркевич, – вы говорили, что публиковались в Revue Neurologique. Что-то там о никотине.
– Совершенно верно. Даже дважды. О применении никотина при нервных болезнях, а вторая – о результатах наблюдений за одним из пациентов профессора Блейлера в его клинике. Но это было более семи лет назад.
– Ну, так или иначе, – сказал Ульянов, – в вашем лице Revue Neurologique имеет не только подписчика, но и автора.
– Ну если это можно считать таковым, – развёл руками Веледницкий.
– Можно, можно. Скажите, инспектор, вам знаком термин «схизофрения»?
– Нет, впервые слышу.
– А вам, Николай Иванович?
Скляров помотал головой.
– Ну, у вас, Степан Сергеевич, не спрашиваю. А вы, Антонин Васильевич?
– Что, простите? – Веледницкий отвлёкся на кофейник и потому отвернулся на секунду.
– Вам знаком термин «схизофрения»?
– Ммм… да, да, что-то припоминаю. Это теория профессора Блейлера. Довольно оригинальная, но я, честно говоря, в неё не вникал.
– Отчего же так? – спросил Ульянов.
– Да времени, знаете ли, как-то не было. Я же говорю, я практик. С новинками неврологии знакомлюсь по мере их апробации моими коллегами. А в чём, собственно, дело?
– Степан Сергеевич, вы не могли бы ознакомить всех нас с содержанием заметки доктора Освальда Бумке в последнем номере Revue Neurologique? Судя по всему, это будет крупнейший психиатр[41]41
Я встречался с д-ром Бумке много позже – в его бытность ректором Мюнхенского университета. Среди прочего, он рассказал – конечно, очень тактично и вскользь – о своём участии в лечении Ленина в 1923 году. Так что слова Ильича оказались в известном смысле пророческими – я говорю, «в известном смысле», так как подозреваю, что в двадцать третьем году Ленин не только не вспомнил о том, что он говорил о Бумке в девятьсот восьмом, но и вообще не понял, кто это такой. Насколько мне известно, Бумке жив до сих пор.
[Закрыть]. Я боюсь сбиться. Вы же успели её прочесть за сегодняшнее утро?
Маркевич последовал примеру Веледницкого и налил себе кофе, то же самое сделали Скляров и Целебан – как оказалось, опустошив при этом кофейник. Николай Иванович засеменил на кухню за новой порцией, но ждать его Маркевич не стал.
– Доктор Бумке опубликовал небольшую заметку под названием «Некоторые впечатления от доклада профессора О. Блейлера на собрании Немецкого общества психиатров». Собрание это имело место в Берлине в апреле сего года. Сколь бы невелика была эта заметка, я попробую изложить её ещё короче, а если ошибусь в терминологии, надеюсь, Антонин Васильевич меня поправит.
– Разумеется, – сказал Веледницкий. Он встал, немного потянулся и сел в своё кресло снова.
– Итак, вот что пишет Бумке. В самых вежливых выражениях, со всем почтением, но Блейлер обрушился с критикой на Крепелина с его dementia praecox. Во-первых, Блейлер утверждает, что «раннее слабоумие» Крепелина – вовсе не всегда раннее. Во-вторых, с точки зрения Блейлера, нельзя, как Крепелин, сводить всё и вся только к бреду и галлюцинациям как к главным признакам этого душевного расстройства. Гораздо более выпуклыми синдромами являются утрата ассоциативных связей, волевая неустойчивость, разрыв больного с реальностью и, наконец, чрезмерные эмоции. А главное, пишет Бумке, Блейлер категорически отрицает неизлечимость этого недуга, его неизбежное завершение деменцией и саморазрушительной смертью. В связи с этим Блейлер отринул термин dementia praecox и утвердил новый: схизофрения, от греческих слов «схизо», что означает «разрыв» и «френ», то есть «ум».
– Интересно, не правда ли? – спросил Ульянов, обращаясь к одному Целебану.
– Несомненно, – отвечал инспектор. – Для доктора Веледницкого и его коллег.
– Не скажите. Я, ещё раз напомню, не врач, но кое-что здесь очевидно даже дилетанту. Например, «утрата ассоциативных связей». Не напомните, Степан Сергеевич, как Корвин назвал Тера в записке, адресованной Шубину?
– «Человек этот точно зерно».
– Поэтично, да. Но разве же это не нарушение ассоциативного мышления в чистом виде? Антонин Васильевич?
– Возможно, – ответил Веледницкий.
– Николай Иванович, – спросил Ульянов у только что вернувшегося Склярова, – напомните, как Корвин характеризовал симптоматику своего заболевания?
– Э-э-э… Лёвушка? Сам? Симптоматику?
– Ну да, да. Вы давеча пересказывали. В этой же комнате.
– Ах, да. «Потерял интерес к жизни». Да, я своими ушами от него слышал несколько раз, – сказал Скляров.
– Да, именно так. Можно ли назвать это «волевой неустойчивостью»? Думается, что можно. Про внезапные приступы агрессии – сиречь избыточную эмоциональность – даже мне доводилось читать, хотя я, напомню, никогда особенно жизнью Корвина не интересовался. Однако же – попадалось на глаза. Что там у нас ещё осталось?
– Разрыв с реальностью, – подсказал Маркевич.
– Ну, тут и толковать нечего. Разрыв, да ещё какой. Не хуже, чем у Богданова, которого, однако же, никто в сумасшедший дом отчего-то не запирает.
– У кого? – переспросил Целебан.
– Неважно. У одного моего знакомца. Так, к слову пришлось. Что же, Антонин Васильевич, есть ли – то есть, были ли – у Корвина симптомы этой самой схизофрении? Молчите? Ну да и правильно. Думаю, своеобразный посмертный консилиум профессиональных врачей на основании показаний людей, близко знавших Корвина, провести будет тоже нетрудно. Кроме того, не исключаю, хотя и не могу этого утверждать наверное, что молчание профессора Блейлера связано не только и не столько с его занятостью, сколько с тем, что будучи действительно крупным психиатром он увидел определённые признаки возвращения Корвина к нормальной жизни – признаки, которые его лечащий врач не обнаружил… или утаил.
– Вы предъявляете доктору довольно тяжёлое обвинение, – заметил Целебан, – обвинение в нарушении врачебной этики. Вы ничего не хотите ответить, господин Веледницкий?
– Я бы прекратил эту комедию, инспектор, – ответил доктор. – Но хочу, чтобы это сделали вы – когда, наконец, убедитесь, что бывают на свете безумцы куда более тяжело больные, чем покойный Лев Корнильевич, и один из них сейчас солирует в моем собственном доме[42]42
Подлинные медицинские способности доктора Веледницкого так и остались для меня превеликой тайной, но по крайней мере с моим диагнозом он не ошибся. Правда, и исцеление моё было таким же внезапным и непонятной природы, как и заболевание. И наступило очень быстро после описанного дня.
[Закрыть].
На Ульянова реплика эта не произвела ни малейшего впечатления.
– Покончив с делами медицинскими, – сказал он, – перейдём к вопросам литературным. Сколько там на часах, Степан Сергеевич?
– Без четверти два.
– Прекрасно. Мы пока продвигаемся достаточно быстро. Итак, вторая часть этой истории будет покороче первой. И нам опять поможет Степан Сергеевич. Расскажите в двух словах, будьте любезны, про главу из второй части «Геркулины» и про ваш разговор с Лавровым касательно имён тамошних персонажей. Я, признаться, не в силах запомнить эту белиберду.
Маркевич вновь был послушен – и рассказ его действительно занял не очень много времени.
– Вы выписали на бумажке имена новых персонажей «Геркулины», тех, кто не упоминается в первой части?
– Да, Владимир Ильич. Насколько я смог их запомнить. Вот они: Зей Болл, Пел Зогг, Самм Сари, Ал Гнатт, Валл Седим.
– Действительно, чушь какая-то, – пробормотал Целебан.
– Вот именно! – Ульянов просиял, даже подошёл к инспектору и наставил на него указательный палец. – Вы правы. Совершеннейшая чушь и бессмыслица. Скажите, Степан Сергеевич, вы хорошо знаете английский – это анаграммы? Можно из этих, с позволения сказать, имён составить хоть какие-нибудь английские выражения?
– Мне этого не удалось, Владимир Ильич.
– Допустим, что во втором томе Корвин по каким-то причинам отказался от своей литературной игры, – продолжал Ульянов. – Допустим, что он использовал не английский, а какой-нибудь другой язык. Всё можно допустить. А можно допустить вещь более простую – что, как говорят юристы, всегда более надёжно с точки зрения установления истины. Что если Корвин не писал вторую часть «Геркулины»?
Веледницкий ухмыльнулся:
– Ну да. Это я её написал. Вместе с Николаем Ивановичем. На спор.
Скляров – последние десять минут он сидел словно скифская каменная баба из-под Харькова, на которую был тем более похож своей бородой – встрепенулся, но не успел сказать ровным счётом ничего – Ульянов опередил его:
– Конечно, – устало сказал он. – Именно вы её и написали. Причём подозреваю, что ещё не до конца – оттого и дали товарищу Маркевичу только одну главу. Для чего и выдумали историю про внезапно ставшего левшой Корвина. Вот только о записке для Шубина вы не знали. И ещё многое не предусмотрели – например, чернильницу в Ротонде.
– А что с ней? – спросил Целебан.
– Она не просто пустая – в ней высохли чернила, ей не пользовались очень-очень давно. Записка-то – карандашом написана. А ведь согласно письму, ему чуть более недели. Кстати, письмо это, профессору Устинову, тоже написали вы – более или менее точно рассчитав время, когда оно вернётся назад. И что оно вернётся, были уверены: рю де Александр, 5, она же Александровская улица, она же Алексантерикату – это адрес Гельсингфорсского университета. Я там, между прочим, неоднократно работал в библиотеке в прошлом году. Кто же пишет профессору в университет в июле? Ясно как день, что письмо отправят адресанту.
– Господин Веледницкий? – спросил инспектор, но доктор молчал. Скляров не выдержал:
– Антонин, да не молчи же! Ну допустим, господа, – только допустим! – что продолжение «Геркулины» это литературная мистификация. Что это меняет?
– Ну в общем, – задумчиво сказал инспектор, – это очень похоже на мотив, господин Скляров.
Ульянов обрадовался, как ребёнок.
– Мотив, дорогой товарищ инспектор, простите, господин. Совершеннейший мотив! Сколько, Степан Сергеевич, Корвину принесла «Геркулина»?
– Говорят, более ста пятидесяти тысяч рублей.
– Прелестно, просто прелестно. Это же золотое дно! Клондайк! Эльдорадо! А там и ещё рукописи бы нашлись, не так ли?
– Да, Антонин Васильевич что-то говорил о довольно-таки порядочном корпусе неопубликованных пока текстов. Дневник шестьдесят девятого года, наброски «Диалогов» – правда, всё это не подделаешь, тогда-то Корвин ещё не был «левшой». А вот никогда не публиковавшейся биографический очерк о Скандербеге – вполне.
– Ну, я не исключаю, что в архиве Корвина действительно немало подлинных его рукописей – покойник был необычайно писуч, – возразил Ульянов. – Но вряд ли всё это имело бы значительный интерес – и значительную цену – без второй части «Геркулины». Думаю, обыск корвиновского архива – а, скорее, бумаг нашего доктора – даст нам немало находок, написанных этой так называемой левой рукой.
Он перевёл дух и огляделся в поисках воды. Воды на глаза ему не попалось и он сказал:
– Если бы Корвин продолжал находиться в своём безумном положении или если бы он скончался от своей болезни, – ничего бы не помешало господину Веледницкому осуществить свой план. Но Корвин начал приходить в себя – и совершенно, не исключено, что исцелился бы. Хотя бы на время. А это в планы нашего лекаря нервенных болезней вовсе не входило.
* * *
– Это всё весьма и весьма убедительно, признаю, – сказал Целебан, – но… проклятое алиби, не так ли?
– Вы правы, – кивнул Ульянов. – Давайте уже заканчивать. Напомните мне, Антонин Васильевич, во сколько мадемуазель Марин относила Корвину обед?
– Я не буду с вами разговаривать, Ульянов, – лицо у Веледницкого было серое. – Вы мне омерзительны. Всё, что про вас рассказывают, – даже не половина правды. Вы просто конченый негодяй. От скуки возвести на меня поклёп, придумать какую-то мотивацию, приплести сюда Блейлера… Впрочем, бог вам судья. Qui seminat mala, metet mala.
– Ну не хотите, как хотите. Инспектор?
– Э-э, мадемуазель утверждает, что немного подзадержалась со своими судками, но была в Ротонде никак не позднее четверти первого.
Ульянов встал, сунул большие пальцы за проймы жилета («сотый раз за эти несколько дней», – подумал Маркевич), подошёл к стеклянной двери и несколько секунд смотрел на дорогу. Потом резко обернулся и спросил у Маркевича:
– Не припоминаете вашего разговора с мадемуазель? При котором присутствовала мадам? Интереснейший был разговор.
– Да, – ответил Маркевич. – Интереснейший. Мадемуазель написала на листке il sentait le salvang. Я тогда не понял, что именно это значит и спросил мадам. Она сказала, что это то же самое, что Сильванус, дух леса.
– Я тоже до вчерашнего вечера так думал, – сказал Ульянов. – А потом мне пришло в голову полистать энциклопедию, первую попавшуюся в вашей смотровой, доктор. Так вот. Salvang, Маркевич – это то же самое, что homme sauvage. Дикарь, персонаж легенд. Правда, слово salvang не совсем местное, так говорят севернее, скажем, в кантоне Берн. Откуда родом, как мы знаем, покойный супруг мадам Марин и отец мадемуазель. И откуда, кстати, родом господин Канак, любезно просветивший меня на этот счёт сегодня утром. Входите, месье Канак, входите.
Шарлемань выглядел как пастух, всю ночь в дождь разыскивавший разбежавшееся стадо. Казалось, кто-то старательно, чтобы ни вершка сухого не оставалось, проливал его ушатами самой грязной воды на свете. Текло с его суконной куртки, текло с гетр и, разумеется, текло со шляпы. В одной руке он держал верёвку (как всегда, аккуратно смотанную) и альпеншток, в другой – небольшой заплечный мешок. С мешка тоже порядочно капало.
– Где вы были? – по-французски спросил Шарлеманя инспектор. Тон его был неприязненный.
– Гулял, – ухмыльнулся проводник. – Я всё сделал, господин Ульянов. Прямо где вы описали, там и лежало. Вот.
И протянул Ульянову мешок.
– Что здесь происходит? – спросил Целебан. – Господин Ульянов, что в этом мешке?
– Вы окажете мне громадную услугу, если потерпите ещё пять, буквально пять минут, – отозвался Ульянов. – А вам, мой друг, большое спасибо.
С русского на французский он переходил безо всякой запинки, и Маркевич, уже не раз наблюдавший это, снова поразился.
– «Дикий человек»? – переспросил Целебан. Мешок Шарлеманя его, кажется, интересовал теперь куда менее. – И что это значит в данном случае?
– Дело в том, инспектор, – отвечал Ульянов, – что «дикий человек» или попросту «дикарь» – это не только житель Полинезии или какого-нибудь там Парагвая. Так ещё называется геральдическая фигура, щитодержец. Знаете, по краям щита иногда изображают фигуры в полный рост. Льва, единорога, рыцаря или, как в нашем случае, полуголого косматого дикаря. А знаете, где мадемуазель Марин могла видеть такого щитодержца?
– Господи… – сказал Целебан.
«Если кто-нибудь взялся изобразить эту сцену на холсте, то прилежный каталогизатор описал бы её так: “У окна фигура Ульянова, немного склонённая вперёд с вытянутой правой рукой, указывающей на инспектора Целебана. Целебан застывает с чашкой у самых губ. Напротив в кресле доктор Веледницкий c прямой спиной и лежащими на коленях руками. Его лицо бесстрастно, но это бесстрастность не самообладания, а усталости. На диване Скляров с полуоткрытым ртом и Маркевич, тянувшийся было к папиросам, да так и остановившийся на полпути”. Немая сцена».
– Увы, – сказал Ульянов и, наконец, сел в кресло. – Все ваши построения относительно времени убийства Корвина, инспектор, предельно неточны. Мадемуазель солгала – вероятнее всего, просто от испуга. Ведь Корвин уже давно начал оказывать ей своеобразные знаки внимания, вряд ли ей слишком приятные. Она старалась не заходить к нему, она не видела Корвина как минимум несколько дней, она не видела его и в тот день. Она только слышала запах, как обычно, запах, который слышали все, потому что Корвин, по вашим же словам, доктор, хотя и стригся, но мыться отказывался категорически. А в Ротонде, где наглухо заперты все окна, запах этот мог держаться сколько угодно. Даже я, осматривавший дворик Ротонды вместе с Лавровым в четверг, уловил его слабые остатки, хотя бы дверь была и заперта. Мадемуазель оставляла еду на пороге, прямо под родовым гербом Корвин-Дзигитульских. Описывая своё посещение Ротонды, она описала и Корвина – таким, каким его знают все, таким, каким она действительно видела последний раз – с длинной бородой и волосами до плеч. Подстриженный же Корвин менее всего похож на дикаря, да ещё в костюме-тройке, в который он зачем-то обрядился в свой последний день. Словно готовился в гроб лечь при всём параде. Мбда. Таким образом, можно предположить, что в полдень – точнее, в начале первого часа пополудни – Корвин мог быть уже мёртв, а если это так, то последними, кто точно видел Корвина в живых, становятся участники и свидетели тренировки: Тер, Фишер и… вы, Антонин Васильевич.
– Это всё ещё догадки, – заметил Целебан. – Кроме того, Корвин мог быть убит в любой момент между визитом в Ротонду доктора и появлением там Лавровой. Или в те несколько минут, которые прошли между уходом всей компании в пансион и появлением там великого князя.
– Сейчас вы опять упрекнёте меня в недопустимости моих рассуждений, – возразил Ульянов, – поэтому я заранее напомню вам, что я не сыщик. Да, теоретически вы правы. Но времени, во-первых, чертовски мало. Лаврова отправилась к Ротонде сразу после ухода доктора, Тера и Фишера на тренировку. Да, убить можно за одно мгновение. Но это рискованный, спонтанный акт. А тут мы имеем дело с тщательно спланированным преступлением. И кроме того ваша версия опять вводит в наши рассуждения некое «третье лицо» – а я убеждён, что никакого третьего лица не было. Кроме того, мне больше нет никакого дела до времени убийства. Я уверен, что Корвин был убит в ту самую минуту, когда доктор Веледницкий спустился к нему. Все эти детали про мадемуазель, щитодержца и прочее предназначены убедить не вас или гипотетических присяжных. Они должны убедить убийцу перестать валять дурака и во всём признаться.
– Да, присяжным этого будет маловато, – сказал Целебан.
– Ничего, – кивнул Ульянов, – зато им наверняка понравятся показания мадам и мадемуазель Бушар – как о том, что мадемуазель в действительности не видела Корвина, так и о некоторых царивших в этом доме нравах. Обывателю нравится слушать про чужой разврат – он помогает им легче смиряться с собственным. Нет, инспектор, с сегодняшнего дня это всё уже не догадки, – продолжал Ульянов. – После признаний Фишера я понял, что могу, наконец, представить вам те самые «неопровержимые доказательства», которые устроят суд. И рано утром я поговорил с мадам и мадемуазель, после чего посоветовал им отправиться в Эгль. Оставив предварительно доктору Веледницкому ту самую странную записку. Думаю, часа два назад они закончили давать показания вашим коллегам в управлении кантональной полиции, и если я всё верно прикинул, вот-вот должен появиться капрал Симон, – ну или кто-то другой, кого инспектор Гро-Пьер пришлёт за арестованным.
– За каким арестованным? – прохрипел Веледницкий. Объятия Шарлеманя, в которые маленький проводник заключил вскочившего было доктора, оказались явно железными. – Врёшь, всё врёшь!
– Я впечатлён, господин Ульянов, – сказал Целебан. – Благодарю вас, Канак. Нет, руки господина Веледницкого можно отпустить. Просто постойте пока, пожалуйста, за спиной доктора.
– Я впечатлён, – повторил инспектор. – Но у нас осталось ещё кое-что не прояснённое. Например, орудие убийства.
– Да, револьвер. Это не так сложно, как кажется, и совершенно неинтересно. Да и вообще – тут всю работу проделал Степан Сергеевич, так что опять ему и карты и в руки. А у меня, признаться, немного в горле пересохло.
– Разумеется, лупара была не единственным оружием в этом доме, – начал Маркевич. – Кстати, где она сейчас?
– У Гро-Пьера. Это же по-прежнему вещественное доказательство, пусть и не имеющее, по-видимому, прямого отношения к делу.
– Очень хорошо, – сказал Маркевич. – А то я, признаться, немного неуютно себя чувствовал. Вдруг вы опять её вернули. Так вот. Помимо лупары у доктора был ещё и револьвер и он вам его не отдал, инспектор. Более того. Револьверов было два, и это обстоятельство – самое важное.
– Два? – переспросил Целебан.
– Именно. Вы, конечно, заметили полную идентичность «бульдога», обнаруженного у Тера, и «бульдога», с которым давеча Фишер явился убивать великого князя?
– Ммм, – сказал Целебан, – да, они похожи. Тот, первый «бульдог» сейчас в Эгле…
– Они не похожи, они абсолютно одинаковы. Накладка слоновой кости на рукоятку, а на ней – три серебряных угольника вроде букв V. Точно такие же накладки вы обнаружите и на «веблее» Лаврова.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































