Текст книги "Смерть чистого разума"
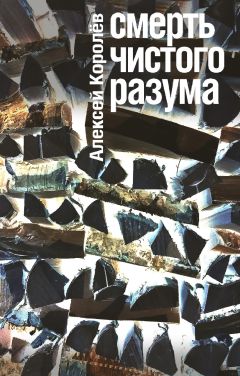
Автор книги: Алексей Королев
Жанр: Исторические детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 34 страниц)
III. Дихотомия
36. Круг чтения цензора Мардарьева
Воинствующий милитаризм и антимилитаристская тактика соц.-дем.
Дипломаты в ажитации. Градом сыплются «ноты», «донесения», «заявления»; министры шепчутся за плечами коронованных манекенов, которые с бокалами шампанского в руках «укрепляют мир». Но «подданные» отлично знают, что если вороны слетаются, значит пахнет мертвым телом. И консервативный лорд Кромер заявил английской палате, что «мы живем в такое время, когда на карту поставлены национальные (?) интересы, разгораются страсти и появляется опасность и возможность столкновения, как бы ни были мирны (!) намерения правителей».
Пролетарий. № 33, 23/VII
* * *
‹Без даты›
Ал. Мих.! Вообразите, сейчас по телефону пригласили меня на ужин – проводы св. Петрова, и невозможно отказаться. Я собирался хоть на 1 час поехать к Бенуа, но уж очень измотаешься: такие расстояния, да и «засидишься» там, «опоздаешь» здесь, и вообще чепуха. Поклонитесь им и извинитесь за мое отсутствие.
Ваш В. Розанов.
С.П. поклон и рукопожатие.
* * *
23. VII. 1908 Царское Село, д. Эбермана
Вы угадали, конечно, дорогая. Мысль моя, как «бес» у Пушкина…
Вон уж он далече скачет…
О, как я ушел от Достоевского и сколько пережил с тех пор… Говорят все, что я очень похудел. Да и немудрено. Меня жгут, меня разрывают мысли. Я не чувствую жизни… Хорошо… Временами внешнее почти не существует для меня. Когда есть возможность забыть о работе, т. е. Округе, а он дает-таки себя знать, – бегу к своим книгам, и листочки так и мелькают, чтобы лететь под стол и заменяться новыми и лететь под стол опять. Я не хочу говорить, над какой вещью Еврипида я работаю и в каком именно смысле – из моего суеверия, которое Вы хорошо знаете. Но если я напишу мою вещь так, как теперь она мне представляется, это будет лучшее, что только когда-нибудь я мог от себя ожидать… А впрочем… может быть, выйдет и никуда не годная дрянь…
А в каких условиях я должен жить, если бы Вы знали. У нас переделки… Стук везде, целые дни, известка, жарaа… Я переведен в гостиную… бумаги меня облепили… Галерея заполнена платьем, пахнущим камфарой, пылью, разворошенными книгами… Приводится в порядок моя библиотека. Недавно происходило auto-da-fe. Жглись старые стихотворения, неосуществившиеся планы работ, брошенные материалы статей, какие-то выписки, о которых я сам забыл… мои давние… мои честолюбивые… нет… только музолюбивые лета… мои ночи… мои глаза… За тридцать лет тут порвал я и пожег бумаги…
Простите, дорогая, что наполнил письмо собою… Так как-то подвернулся этот предметик. Тристан и Изольда… Вы их нынче не услышите… Там есть чудное полустишие
Ich hore das Licht… Sei tu?
Это уж не из Вагнера.
Ваш И. Анненский.
* * *
23.07
Слушайте, Понтик, Вы ничего не имеете против того, чтобы осенью познакомиться с одной нашей знакомой зубоврачихой– разочарованной барыней слегка в декадентском вкусе.
У нее всегда бывает много народа, иногда интересного.
Нас с Асей она, не знаю за что, очень любит и всегда рада всем нашим знакомым и друзьям. Ее гостиную я зову «зверинцем», уж очень разнообразные звери там бывают.
Не ручаюсь, что это общество Вам понравится, но посмотреть стоит. Как полная противоположность ей – у меня есть одна знакомая эсдечка, смелая, чуткая, умная, настоящая искорка.
В ее присутствии всем делается светло и радостно на душе, уж очень она сердечный и искренний человек.
Посмотрите, Петя, познакомитесь – влюбитесь, да мимо нее нельзя пройти равнодушно.
В свою очередь погляжу на Ваших знакомых, т. к., судя по Вашим рассказам, есть среди них интересные. Соня мне говорила, что Вы очень избалованы всеми.
Это правда?
МЦ
Чудесное исцеление
Нам прислано следующее удостоверение за надлежащей подписью: «Сим удостоверяю, что проживающая на мызе Овсянка, Вышневолоцкого уезда, Ясеновской волости, крестьянка Анна Петрова Мазурова, 85 лет, продолжительное время находилась в совершенно болезненном расслаблении, и никакие врачевания и лекарства не помогали ей, – наконец, она, по совету сына своего, Д. Г. Мазурова, попросила меня отслужить молебен с водосвятием домашнему образу Преподобного Серафима, Саровского чудотворца, стала пить освященную воду и совершенно выздоровела. Означенная Анна Петрова страдала кровотечением один год две недели. Молебствие было совершено 1907 г. 26 декабря. Священник Василий Трунев».
Тамбовские епархиальные ведомости
37. Рукопись статьи для Энциклопедического словаря братьев Гранат, подписанная «М. Я-й»
КОРВИН-ДЗИГИТУЛЬСКИЙ, Лев Корнильевич, родился в 1849 г. в помещичьей семье Аккерманского уезда Бессарабской губернии. С 1864 по 1869 г. обучался в Морском корпусе, по окончании которого назначен на клипер «Яхонт». Здесь он обратил на себя внимание командующего отряда контр-адмирала Бутакова и по протекции последнего вскоре назначен исполняющим должность помощника русского военно-морского агента в Париже. Во время франко-прусской войны находился при действующей армии. Во время парижских событий 1871 г., охваченный порывом, примкнул к федералистам, быстро выдвинувшись как офицер в национальной гвардии. 21–28 мая 1871 г. сражался на баррикадах, был ранен и захвачен в плен правительственными войсками. Первоначально выдал себя за румынского иммигранта и был приговорён к каторжным работам в Новой Каледонии, однако в последнюю минуту был опознан своим домохозяином и отправлен под домашний арест в русское посольство. Из-под ареста бежал, жил в Швейцарии и Америке. Вероятно, в этот период начали формироваться его взгляды, в ту пору близкие к Юрской федерации, то есть к окружению Бакунина, с которым К. состоял в длительной переписке. В 1872 г. К. присутствовал в качестве гостя на конгрессе в Сент-Имье, однако ни в какие конкретные организации не вступал. В 1875 г., повинуясь, вероятно, тому же знакомому порыву, принял участие в боснийском восстании. Дальнейшие несколько лет жизни К. известны, главным образом, по его позднейшему сочинению «История одной борьбы», в котором содержатся описание его пленения турками, каторги, побега, а впоследствии – службы на мальтийской фелюке, захват берберскими пиратами в Сирте, жизнь на положении раба и так далее. Доподлинных сведений о его жизни в этот период не имеется. В 1878 г. он объявился под именем Домонтовского на Кавказе и в Ахалкалаки совершил неудавшееся покушение на наместника Кавказского, после чего сумел скрыться. Этим деянием К. приобрёл широкую известность в кругах радикально настроенной молодёжи, многие из которой стали искать с ним встречи. Впоследствии К. утверждал, что около двух лет провёл на нелегальном положении в южнорусских губерниях, а затем в Семиречье, откуда через Китай вернулся в Европу. Последующие 10 лет, имея местом постоянного жительства Лондон, К. много путешествовал с лекциями, в основном просветительского содержания. В это время его взгляды испытали сильнейшее влияние наследия Лассаля и лассальянцев, что, в сочетании с прежним и не угасшим увлечением анархизмом и привело К. в конце концов к формированию его оригинальной философии.
В 1889 принял участие в качестве гостя в учредительном конгрессе Рабочего интернационала, который со скандалом покинул во главе небольшой группы сторонников, ставшей основой его движения. В том же году сенатом окончательно лишён всех прав гражданского состояния, что, однако, незначительно повлияло на образ жизни К., так как незадолго до этого он получил крупную сумму в качестве наследства из неизвестного источника. Избрав местом жительства сперва Францию, а затем Швейцарию, К. посвятил себя литературной деятельности.
В наиболее концентрированном виде мировоззрение К. изложено в его «Диалогах», которые выходили (по-французски и по-русски) в виде отдельных брошюр с 1889 по 1896 г., однако значительный интерес с этой точки зрения представляют также и его наиболее популярные сочинения – «История одной борьбы» (1898) и «Геркулина» (1900). В них К. излагает свои взгляды в более доступной форме.
История человечества, по К., есть история постоянной борьбы за прогресс, сперва – отдельных индивидуумов, затем племён, общин, наций и государств. Прогресс есть единственный инструмент выживания для человечества. Конечная цель человека – абсолютная свобода от внешнего угнетения – может быть достигнута лишь на наивысшей стадии прогресса. Поэтому, полагает К., освобождение угнетаемых не должно сопровождаться отказом от технического и экономического развития и не может осуществляться путём «архаизации» общественных отношений (под которыми К. подразумевает опыты по созданию основанных на утопических принципах парцеллярных коммун) и установления примата экономических форм над конечным результатом. Инструментом угнетения является не целиком государство, как институт, благодаря которому, в том числе, человечество находится на нынешнем этапе прогресса, а современное, буржуазное государство. Следовательно, разрушение государственных институтов должно осуществляться точечно, поэтапно и на каком-то этапе должно быть прекращено, дабы не утерять потенциал для дальнейшего развития.
Соглашаясь с анархистскими взглядами на общину свободных людей как основу идеального мироустройства будущего, К., вразрез с мировоззрением остальных анархистов оставляет в этом будущем место для квазигосударственных институтов, которые он называет «сообществами». Сообщества – по сути федерации общин – вненациональны и экстерриториальны, создаются и ликвидируются свободно с целью наилучшего совместно управления отдельными социальными инструментами, например, внешняя торговля, абстрактная наука, общественное призрение или общественная безопасность. При этом внутренний уклад общины основывается на свободном творческом труде и справедливом распределении продуктов труда, с наилучшим использованием потенциала каждого индивидуума. Вместе с тем К. подвергает едкой критике Кропоткина с его идеей о том, что переплетающиеся между собой на почве взаимных услуг общины превратят все человечество в одно братское общежитие.
Особенный, хотя и, вероятно, нездоровый интерес публики вызвал описанный в утопическом романе «Геркулина» феномен «абсолютно свободного человека», который, по К., должен выделиться уже на стадии формирования общин и сообществ и взять на себя лидерство (главным образом, моральное) в новом совершенном обществе. Сюжет «Геркулины» составляет противоборство, сперва политическое, а потом и военное, двух социалистических систем – собственно Геркулины, в которой реализована подлинно свободная воля граждан с добровольным делегированием ими части функций «сообществу», и радикально-коммунистической Пифагории, основанной на принципах чистого анархизма, без каких бы то ни было государственных настроек. Вожди Геркулины, «абсолютно свободные люди», избираемые согражданами и одновременно полностью зависимые от них и полностью ими управляющие, организуют действенное сопротивление агрессии Пифагории, в которой царит неконтролируемая идейная одержимость. (Любопытно, что в «Диалогах», равно как и в немногочисленных статьях К., выдержанных в строго научном духе, этот феномен не упоминается.)
Энгельс первым применил для описания мировоззрения К. издевательски-абсурдный термин «анархический этатизм», который, однако, вполне прижился и ныне широко используется последователями К. безо всякого негативного оттенка.
Вследствие особенностей системы взглядов К., попытки создать какие-то отдельные коммуны его последователями никогда не предпринимались. Практическая деятельность корвинистов заключается в пропаганде идей своего вождя, в настоящее время живущего в уединении в Швейцарии. «Международное общество анархо-этатизма», иногда называемое также «Корвиновским интернационалом», имеет отделения в большинстве европейских держав и в САСШ.
38. Мудрец поднимает свой посох
«Он меня, разумеется, не помнит. В Париже нас было четыреста человек в аудитории, и я не задал ему за четыре лекции ни единого вопроса. Не то что Троцкий. А меж тем я был среди тех, кто выступал за его приглашение, давил на руководство школы[20]20
Речь, разумеется, о «Русской высшей школе общественных наук» Де-Роберти, Ковалевского и Гамбарова. Рукопись, посвящённая истории этого заведения, была у меня изъята чекистами в восемнадцатом году и, разумеется, скорее всего ими благополучно утеряна. Мне немного жаль её – хотя бы потому, что ничего равноценного у других авторов читать мне не довелось. Учреждение это было, конечно, масонское по духу и так сказать, стилю (что неудивительно, учитывая его учредителей), но пользы России принесло немало. Некоторые разрозненные листы из моих тамошних конспектов уцелели и я иногда перечитываю их с какой-то необъяснимой нежностью.
[Закрыть], грозился студенческой демонстрацией. А на реферат и диспут я не пошёл, потому что свалился с ангиной. Говорят, от Чернова не осталось мокрого места. И на четвёртый съезд я не поехал, хотя был избран. Там-то наверняка познакомились бы. Человек, благодаря которому я выбрал силу, в которую верю, – пусть даже сейчас временно и не с ней. Человек, который сам по себе – сила. Надо записать это вечером, а лучше прямо сейчас, не полениться, подняться наверх к дневнику»[21]21
Эту наспех набросанную карандашом страничку из дневника я вырвал – и надолго потерял. А когда нашёл, решил, что самое место ей – в примечаниях.
«5/VIII.1908
Итак, стоит ли мне уезжать? Решительно не понимаю. Мне нужно привести свои мысли в порядок. Учитель всегда говорил, что всякий раз, почувствовав праздность, скуку или испытав смутную тяжесть сомнений, словом, в любой неясной ситуации следует открывать тетрадь – и писать: всё что угодно, хотя бы стихи или наблюдения за погодой. Погода здесь не стоит и чернил, что будут потрачены на наблюдения за нею; зато есть немало другого интересного, чему как раз и можно посвятить ближайшие полчаса. Итак, Ульянов. Или Ленин, как его всё чаще теперь называют даже за глаза. Кто из обитателей пансиона его узнал? Кто отчётливо понимает, кого именно принесло под крышу “Нового Эрмитажа” в это августовское утро? Про всех нас, “особых гостей” доктора Веледницкого (и разумеется, самого доктора) и речи нет – если даже кто-то из них не видел Ульянова живьём, как видел я. А остальные? Лавров наверняка как минимум что-то слышал, может быть – рассказывал жене. Генеральша не имеет ни малейшего понятия, это наверное. Впрочем, Луиза если и не знала, то теперь как пить дать разузнает всё что можно и доложит. То же касается и Шубина. Или нет? Принимали Ульянова почтительно, это должно возбудить интерес. Ну а что, в сущности, знаю об Ульянове я? За ним идёт половина партии, с которой я связываю самые ясные надежды на революцию – и в которой, несомненно, состоял бы, если бы не известные причины. Не лучшая, возможно, половина – но наиболее деятельная и решительная. Его не любит Плеханов и боится Троцкий – вот и ещё две прекрасные рекомендации. Мне почти физиологически неприятен его стиль, он, несомненно, самый плохой писатель из всех вождей будущей революции – но главные его тезисы абсолютно бесспорны. Все согласятся, что он исключительно умён…»
[Закрыть].
Таким шумным Маркевич не видел пансион ещё ни разу – а может быть, его таким не видел никто и никогда. Сразу после завтрака Лавров довольно настойчиво потребовал от Веледницкого телефонировать Целебану с почты относительно сроков прекращения их заточения, как он почти выкрикнул, сминая салфетку. Веледницкий смиренно согласился, и менее чем через час обитателям пансиона было объявлено, что завтра утром они могут катиться на все четыре стороны (как сказал всё тот же Лавров жене и секретарю спустя некоторое время в комнате). И хотя до отъезда было ещё никак не менее двадцати часов, все вдруг дружно начали собираться. На лестнице Маркевича едва не сбила с ног Лаврова, она мчалась вниз, сжимая в руках какую-то склянку и листок с размашистыми каракулями: её целью, конечно, был кабинет доктора. Мадемуазель пронесла, как полковой штандарт, свежепочищенный костюм Шубина, а Фишер, судя по звукам, доносившимся из его комнаты, выколачивал свою пару самостоятельно. Луиза Фёдоровна мелькнула с горячим утюгом, но заметив Маркевича, притормозила:
– Я кхотела к вам стучаться, господин Маркевич. Вы бы не могли навестить мою хозяйку сегодня сразу после обеда?
– Разумеется, Луиза Фёдоровна. Передайте Анне Аркадьевне, что почту за честь. Кстати, вы не уступите мне позже утюг?
– Вы умеете гладить? – она, кажется, непритворно изумилась. – Разумеется, когда вам будет угодно.
Писал Маркевич стоя, второпях. Что-то мешало ему покойно присесть, что-то тянуло прочь из комнаты, вниз, на воздух.
Ульянов ел. Точнее, не ел, а закусывал: доктор Веледницкий разрешил ему пропустить поданный-таки остальным завтрак, чтобы привести себя в порядок, но ничего стоящего во внеурочное время хозяйки новому гостю предложить не смогли. Несколько канапе с холодной телятиной, пара ломтиков сыра и чай. Впрочем, Ульянова это, кажется, совершенно не огорчало: он поглощал пищу быстро – и не отрываясь от книги. Рядом с сыром лежало несколько четвертушек бумаги стопкой и карандаш, который Ульянов то и дело хватал, чтобы сделать какие-то пометки, отчего трапеза – несмотря на её скудость и скорость, с которой Ульянов уписывал бутерброды – несколько подзатянулась. Впрочем, в ту самую минуту, когда Маркевич пересекал гостиную, имея целью захватить – с папиросой в зубах – последние минуты перед опять надвигавшемся дождём, его и заметили:
– Товарищ Маркевич! Степан Сергеевич!
(Веледницкий представил их всех новому постояльцу, но так бегло и вскользь, что Маркевич был решительно уверен, что Ульянов не запомнил никого. Впрочем, пока все остальные завтракали, доктор уединился с Ульяновым в кабинете, где вполне мог рассказать о гостях ещё раз. Так что Степан Сергеевич совершенно не удивился.)
– Здравствуйте, Владимир Ильич!
«За пять лет, – отметил про себя Маркевич, – Ульянов изменился порядочно». Исчезла борода, а усы из непомерно длинных, немного неряшливых и от того казавшихся редкими стали густыми и аккуратными. Волос на голове поубавилось – в отличие от веса; коренастая фигура выглядела теперь плотно сбитой, какой-то почти купеческой. «Впрочем, я за эти годы изменился ещё сильнее».
– Я вас сразу узнал, хотя и не видел… сколько же лет? Пять? Да, совершенно точно, пять лет назад. Вы ещё почему-то тогда на диспут не пошли в Русской школе. Напрасно, батенька, не пошли, совершенно напрасно. Лекция – дело мёртвое, теоретическое. Да и вообще более полезное для лектора, нежели для слушателя. Вы читали мою брошюру для крестьян? Вот она целиком, так сказать, рождена этими самыми мёртвыми лекциями. А реферат, диспут – это спор, это жизнь. Никогда не упускайте случая с кем-нибудь поспорить. Только так можно научиться отстаивать свою позицию, только так в ней укрепляться. Революция есть полемика, марксизм – теория революционная и потому полемическая по самому своему существу.
– Я заболел тогда, Владимир Ильич. А брошюру вашу, разумеется, читал.
«Сколько же я молчал? Никак не менее полуминуты. Тер говорил, что в боксе есть такое понятие – “грогги”. Вероятно, это оно и было».
– Вот и славно, что читали. Обсудим её позже. Что же, вы всё ещё в плену своих спиритических сомнений? Тень отца Гамлета встаёт между вами и революцией? – Ульянов откинулся на стуле и засунул большие пальцы рук за проймы жилета, пиджак его висел на спинке стула, благо ни доктора Веледницкого, ни мадам – строгих блюстителей этикета – поблизости не было.
– Никаких сомнений я никогда не испытывал.
– «Никогда»? Не бросайтесь словами, это плохая черта для логика. В тринадцать лет вы тоже хотели быть революционером?
«Его уму в наибольшей степени подходит определение “хлёсткий”. Гибкий и быстрый, как плётка. Чернов со своей привычкой всё разжёвывать, пытаясь достучаться до оппонента и слушателей, конечно, не имел против него никаких шансов».
– Что вы забыли в этой дыре? Нервы – вещь для революционера ненужная, предмет роскоши, – Ульянов уже вдевал руки в рукава пиджака. – Лечить их бессмысленно, их лучше вовсе не иметь.
– Уставать я что-то стал быстро, Владимир Ильич. А это уж для революционера совсем никуда не годится, – он улыбнулся.
– Ах так? Прекрасно. Усталость, действительно, отвратительная черта. С усталостью нужно бороться. Как ни странно, прекрасно подходят прогулки по неровной местности. Хотя казалось бы… но, как говорят в народе, клин клином вышибают. Отчего же вы не спросите, что в этой дыре делаю я?
– Посчитал неуместным, – ответил Маркевич.
– Вот ещё одна отвратительная особенность некоторых наших товарищей! Буржуазное воспитание. Неуместно – а точнее, невежливо – с вашей стороны было бы задавать этот вопрос мне первым. Но коль скоро таким невежей – разумеется, исключительно с буржуазной точки зрения, на что мне категорически наплевать, – оказался я, то вам ничего не стоит спросить в ответ. Но мы не будем тратить время: у меня жена неважно себя чувствует. И как настоящая революционерка, вполне разделяет мою точку зрения о бессмысленности лечения. Но! Ничто не мешает заботиться о её здоровье мне. Вот я и приехал к Антонину Васильевичу, который все же не просто врач, но и наш товарищ, социалист, хоть и большой путаник вроде вас. За советом.
– Уверен, что товарищ Веледницкий сделает все, что в его силах. В его компетентности не приходится сомневаться.
– Купились! – Ульянов захохотал так, что из буфетной высунулось недоумённое лицо мадам. – Купились! Ну и хорошо, что купились, ну и славно. Значит, и остальным этого будет достаточно. Пойдёмте на террасу, вы ведь туда собирались. И курите, если угодно, не стесняйтесь. Какая же мерзкая тут погода, того и гляди польёт.
Маркевич, как обычно, примостился у балюстрады, Ульянов же уселся в любимый шезлонг Шубина и, не глядя на Маркевича, – ибо в преддверии дождя Се-Руж была особенно красивой в своей облачной шапке, начал. Вернее, продолжил:
– Да-с, Веледницкий. Он выслушивал меня, кажется, вполне добросовестно. Что же здесь ещё интересного, а, Степан Сергеевич? Виды, кажется, неплохи, да вот дождь, будь он неладен. Воздух чист. Кормят недурно – я, знаете ли, не гурман, да и живу, признаться, на пятьдесят франков в месяц, но перекусил сейчас с удовольствием.
– Вы сами ответили на свой вопрос, Владимир Ильич, – улыбнулся Маркевич.
– Природа природой, – возразил Ульянов. – но главное-то – люди. Здесь что, действительно живёт настоящая генеральша? Силы небесные!
– Представьте себе. Не просто генеральша, а вдова генерал-майора свиты его императорского ничтожества.
– Это самая примитивная публика, – кивнул Ульянов. – В пищевой пирамиде человечества генералы занимают место непосредственно перед радиоляриями и инфузориями. А их вдовы – и того ниже.
– Да я бы не сказал. В остром уме ей не откажешь.
Ульянов пропустил это мимо ушей:
– …я уже сказал Веледницкому, что коли он нуждается в деньгах, так пусть сообщит об этом в ЦК, а не напускает полный санаторий всякой сволочи. Разговаривать открыто не выходит, представьте себе, приходится оглядываться, чтоб не подслушали. Ну да бог с ними. Это, в сущности, всё совершенно неинтересно. Так что же ваша, так сказать, общественная деятельность, Степан Сергеевич? Не соскучились по партийной работе? Живой? Настоящей?
Маркевич помолчал, но совсем недолго.
– Видите ли, Владимир Ильич, для партийной работы необходима партия. А у меня сейчас с этим делом, как вы знаете…
– …знаю, знаю. Ерундистика одна и душевные терзания. Я помню вашу историю. Хотя предпочёл, чтобы её все забыли – и в первую очередь, вы сами. Ну да бог с ней, хоть бога и нет. Партия для партийной работы, вне всякого сомнения, необходима. Если вы, конечно, не Троцкий, который, как известно, сам себе партия. Но в первую очередь для партийной работы необходимы убеждения. Скажите, Степан Сергеевич, вы марксист?
– Разумеется.
– Превосходно. Самоопределение это половина дела. Но о деталях мы ещё поговорим. Сейчас важно другое: товарищ Янский, которого мы все так ценили как пропагандиста в Киеве и как боевика в Москве, человек умный и храбрый, сидит и лечит нервишки в Швейцарии вместо того, чтобы заниматься настоящим делом. И всё из-за пустяковой давнишней обиды на партию.
– Пустяковой? Простите, Владимир Ильич, в таких выражениях наш разговор вестись не может. Да не такой уж и давнишней, право слово.
– Ага! – Ульянов, наконец, оторвался от горных видов и привстал в шезлонге, подняв при этом указательный палец. Привстать в соответствии с законами физики не вышло, шезлонг качнулся назад и вместе с ним назад поехало и тело Ульянова. – Ага! Слово «обида» вы, стало быть, не отрицаете, а оно-то здесь ключевое. Но я приехал не сглаживать обиды. Дела наши, скажу честно, хуже некуда. Хотя единство партии – будь оно неладно – восстановлено ещё в Стокгольме, никакого желания работать с этим сволочами у нас, большевиков, нет. ЦК превратился в палату лордов, причём мы вынуждены делать вид, что вся эта бесконечная говорильня нам страшно интересна. Отток велик. Некоторые организации полностью разгромлены. Правда, недавно с деньжонками стало полегче – и это полностью наши, большевистские деньги. А скоро, надеюсь, станет совсем хорошо. Так что ещё повоюем. Но чертовски мало надёжных людей. Либо преданные, но недалёкие, а зачастую попросту идиоты. Либо погружённые в бесконечное самокопание и самопознание, богоискатели, ешь их с копотью, один Богданов чего стоит… Совершенно разложился как марксист. И огромное количество толковых бойцов в заключении и в ссылке. А ведь дела не ждут. Нужно усиливать пропаганду в маленьких городах, они сплошь захвачены меньшевиками. Нужно идти в деревню, которую эсеры засидели как мухи. Нужно работать со своими. Нужно учить наших – они наивны, они неопытны, они зачастую не знают и не понимают элементарных вещей – нужно учить их бороться с вонючками мартовыми[22]22
Меня так покоробила эта дворовая лексика, что навсегда запечатлелась в моей памяти. Впрочем, грубость не была исключительно ленинской чертой: впоследствии я слышал, как Мартов – причём в присутствии довольно большого количества совершенно посторонних людей – называл Ленина «крокодилом» и «каннибалом».
[Закрыть].
– Что ж, – Маркевич так и вертел в узких веснушчатых пальцах незажжённую папиросу. – Положение дел я себе примерно так и представлял. Но – как я уже сказал давеча доктору Веледницкому, – в настоящий момент моей жизни куда более партийной борьбы меня интересует истина.
– А меня не интересует истина, – голос Ульянова вдруг скакнул до какого-то визга. – Меня интересуете вы, Маркевич. Что вы вытаращились, как монашка на скоромное? Вы нужны мне. Вы нужны нашей партии. И я перетащу вас к нам, как перетащил уже Житомирского, Ольминского, Тимофеева.
– Для чего же я вам так понадобился, Владимир Ильич?
– Во-первых, вы русский.
– Во-первых, я наполовину малоросс, наполовину грузин. Как вам, должно быть известно, – неожиданно Маркевич понял, что вот-вот покраснеет.
– Оставьте эти детали Дубровину и Пуришкевичу. Это их хлеб, не отбивайте его у них. Вы русский, дорогой товарищ Маркевич, хотя, возможно, и не русак. Русским социал-демократам чертовски не хватает русских, ха-ха-ха. Впрочем, разумеется не русских, а умных мало у нас. Мы народ, по преимуществу талантливый, но ленивого ума. Русский умник почти всегда еврей или человек с примесью еврейской крови.
– Ваш любезный конфидент Богданов, например, русский.
– Будет вам. Он обскурант. Изощрённый рыбьеглазый обскурант. От него вреда больше, чем от всех аксельродов и мартовых вместе взятых. И никакой он мне, разумеется, не конфидент. Мы были товарищами, я не спорю. Но тот, кто за прежним товариществом не видит нынешней измены нашему делу, тот – не политик.
– Хорошо же, пусть я русский. А во-вторых?
– Во-вторых, вы марксист, как вы сами изволили сообщить, – и насколько мне известно из других источников. А в-третьих, вы говорите по-английски.
– Не только по-английски.
– Не только. Но в данный момент важен именно этот язык. Я думаю об Америке. У нас нет никого толкового в Соединённых Штатах. Между тем это страна иммигрантов – в том числе и русских иммигрантов. Это пролетарьят, но пролетарьят развитой, узнавший капитализм с его самой приглядной, передовой стороны. Это умные люди. Они носят пиджаки и манишки и не работают по воскресеньям, они ходят в читальни и в кружки. Правда, это кружки не революционные, не марксистские, но всё же. Если такие люди станут нашими, мы заварим хорошую кашу. А мы очень хотим заварить кашу не только в России. На Америку никто не смотрит. Все рыщут из Берлина в Париж, а оттуда в Женеву. Ну-с, значит будем первыми.
– И что я буду делать в Америке? – спросил Маркевич.
– Работать на благо партии. Как Житомирский в Берлине, как Литвинов в Лондоне. Агитировать. Искать деньги. Помогать обустраиваться эмигрантам. А главное – искать людей. Есть и ещё поручения, но о них мы поговорим позже, когда перейдём к частностям. Время не ждёт, товарищ Маркевич. До конца августа переберётесь в Англию. Сядете там на пароход, в Саутгемптоне или в Ливерпуле, деталями займётся Литвинов. Он в таких делах человек опытный и надёжный. С ним же обсудите и финансовую, так сказать, часть. Я же…
Дождь хлынул так, что в одну секунду Маркевич даже потерял Ульянова из виду, хоть он и был на расстоянии вытянутой руки. Чертыхаясь и смешно подпрыгивая на каменных плитах террасы, они ринулись внутрь, но все же успели промокнуть до нитки. Перед тем как затворить французское окно и отправиться к себе сушиться («мы договорим позже, Степан Сергеевич, вот дьявол, даже не знаю, есть ли у меня в чемодане второй пиджак, Надя собирала всё впопыхах»), Маркевич успел взглянуть на то место, где только что была Се-Руж: гора исчезла в плотной грязной вате облаков, словно и не было её никогда.
* * *
«Когда такой дождь шёл в Долгой Просеке, первым делом исчезала дорожка от флигеля к барскому дому, которую громко именовали аллеей. Он и так был еле виден даже из окон детской в мезонине, что-то белело невнятное сквозь два ряда некрасивых тополей и всё. Примерно посередине дорожки стояли два сгнивших столба – всё что осталось от ворот, в старину отделявших барский дом от служб; флигеля в те времена ещё не было. За эти столбы, как за государственную границу, вход мне был категорически воспрещён, оба раза, когда меня по-настоящему там секли, – именно за это. “Тот дом”, ещё он назывался «главным», всегда был необитаем, тем не менее приближаться к нему было нельзя и это было самой необъяснимой и страшной вещью моего детства. Потом я померял: от флигеля до дома было всего триста двадцать восемь шагов – разумеется, шагов взрослого человека.
За пять лет – я помню себя с трёх – дом ожил только один раз. Отчим примчался под ночь, взмыленный не хуже Гнедка, и до рассвета собирал по деревням мужиков и баб – мыть, косить, подновлять. К вечеру следующего дня меня заперли в детской да ещё усадили снаружи Карповну. Старуха, конечно, не выдержала и тихо убежала “смотреть барина”. Глухие, низкие звуки, неясные, но ритмичные доносились с того конца аллеи, пробивались сквозь закрытые ставни. Сон сморил меня тогда далеко за полночь и я ничего, конечно, не помню: ни как отец, пьяный, поднялся в мезонин (Карповну тут же шипяще распекали в два голоса, тоже не очень трезвых), как сдёрнул до половины одеяльце, как долго смотрел и как сплюнул на пол со словами “Нэт. Нагуляла, паскуда”. Всё это много позже я узнал от мачехи: она выхаркивала слова, как куски плохо переваренной пищи, надеясь попасть поточнее и зацепить побольнее. Она не знала главного: что всё это для меня уже не просто факт личной истории, а часть плана, простого до гениальности.
А когда такой дождь шёл в Выхвостове, то жальче всего было цветы, рассаженные Александрин вдоль дома. Неправдоподобно крупные пионы и маки вот-вот грозились лечь под ударами воды и больше никогда не подняться. Но всё равно поднимались и становились ещё краше, точно как их хозяйка. В такой дождь в Выхвостове приятнее всего было сидеть в рабочей комнате Александрин и смотреть на фотографическую карточку матери, единственную, в резной рамке, ателье Крижевского с орлом в нижнем углу. Она стояла на письменном столе, а поскольку Александрин никакой работой никогда не занималась, то захватив этот стол, я добавил карточки Достоевского, Сен-Симона и Клавдия.
Клавдий, честный Клавдий, честный и недалёкий. Мы гуляли с ним по выхвостовским тропинкам часами, забирались в самую глушь, за Сгиб, на горбыли, которые все считали древлянскими курганами, и говорили, говорили, говорили. Клавдий считал, что лучшего места, чем Долгая Просека, и не придумаешь: “Даже делать ничего не нужно. На него может упасть дерево. Или смерть на охоте”. Он искренне полагал, что главное – избавить мир от такой сволочи, как мой отец, что мир станет чище. Чище-то чище, но что проку в банальном убийстве? И в конце концов Клавдий согласился. Он даже съездил в Тифлис на поиски Сосо, но Сосо был уже в Баку, а в Баку была нефть и бешеные лёгкие деньги, которых на склоне жизни так не хватало отцу, так что всё устроилось само собой и как нельзя лучше. Сам Сосо от акции брезгливо уклонился: “Нэ тем у тэбя башка забит”, – но помог – и людьми и деньгами. Клавдий рвался сам, и я склонен был согласиться, но тут князь Варсонофий Степанович Ирунакидзе внезапно убыл в Петербург, и пришлось ждать, а потом Клавдия судили партийным судом чести и мы больше никогда не увиделись, а потом он погиб, и мне пришлось искать Тера и найти его.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































