Текст книги "Смерть чистого разума"
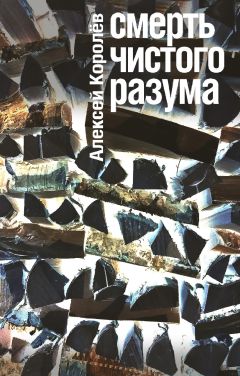
Автор книги: Алексей Королев
Жанр: Исторические детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 34 страниц)
* * *
«Ну вот, не сдержался, обругал возчика. Хотя, в сущности, сам виноват: грязища здесь по осени от века, а осень в этом году наступила как-то неожиданно рано. Из дилижанса всегда следует выбираться аккуратно. Выпью-ка я кофе. Под него всегда хорошо думается, хотя кофе у Пулена не чета не только тому, что подают в самом паршивом женевском кафе, но и даже тому, что варит мать. Но у матери не посидишь спокойно. Итак, что же я позабыл? Словесный портрет разослан. Все станции от Женевы до Эгля предупреждены. То же касается и почты. Уведомить всех кучеров пассажирских дилижансов, конечно, нет никакой возможности, но по крайней мере, кто ездит сюда из Эгля, – в курсе дела. Впрочем, сомневаюсь, что он осмелится воспользоваться дилижансом; поезд – дело другое. Хотя Канак, конечно, прав: несколько дней, а то и пару недель Фишер вполне может отсидеться в какой-нибудь горной хижине. Их здесь за последние десять лет понастроили порядочно. Всё для туристов, будь они неладны. В каждой есть топчан и печка, и запасец дров и свеча, а кое-где даже соль и консервы. Пришёл, переночевал, поел, оставил всё в прежнем виде и ушёл. Проверить хотя бы те, что известны Канаку, – никаких сил не хватит, не дадут мне столько людей ни в Эгле, ни в Лозанне. В Женеву же, а особенно в Берн, обращаться совсем не хочется. Подождём пару дней, никуда он не денется, этот чёртов русский».
51. Меч, рассекающий волос
– Тут неразборчиво, – сказал Маркевичу почтмейстер, возвращая в окошко бланк телеграммы.
– Да? – Степан Сергеевич близоруко сощурился над листком. – Действительно. Малая Морская, вот так правильно.
– Нет, – сказал почтмейстер, – второе слово в тексте. Suivrai или survivrai?[31]31
Наблюдать или выживать (фр.).
[Закрыть] Адрес-то этого вашего Статистического общества я уже хорошо запомнил.
– В самом деле? – рассеянно спросил Маркевич, исправляя. – Поразительная память. Я отправлял телеграмму по этому адресу… когда же? Во вторник? И вы запомнили? Поразительно.
– Ну с одного раза, может быть, и не запомнил бы, хотя на память действительно не жалуюсь, – ехидно ответил почтмейстер. – Но уж с третьего-то точно. Не каждый день у нас телеграммы в Санкт-Петербург отправляют, да ещё и в такое занятное учреждение, как статистический клуб.
– Общество, – машинально поправил его Маркевич. – Статистическое общество. Но я отправлял только одну телеграмму.
– Вы да. Да ваш соотечественник ещё одну. Правда, ему бы больше пошло отправлять телеграмму в Касабланку или Алеппо – я имею в виду, что он более на турка смахивает, нежели на русского. Понимаете меня?
– И когда это было? – спросил Маркевич, даже не пытаясь сбросить предательский липкий холод с хребта.
– А за день до вас. В понедельник, прямо с утречка. Первый пришёл – а ведь я, знаете ли, рано открываюсь, в семь, никак не позже.
– А кому именно, не запомнили?
– Да никому. Как и вы – просто на адрес.
«Пока я спал после ночи, проведённой за письменным столом, Тер отправлял телеграмму моему учителю. Или не ему? В обществе работает полтора десятка человек, любой из них мог оказаться его корреспондентом. Тот же Ермолаевский ведёт обширнейшую переписку, его интересы простираются от Сванетии до Прованса. Да нет, таких совпадений не бывает. Только учитель знает, что такое на самом деле Статистическое общество, только он понимает смысл скучных отчётов, посылаемых на Морскую со всех уголков России и из-за её пределов, держит в руках все нити. И такой человек, как Тер, мог быть связан в обществе только с ним. Что в ней было? Догадаться нетрудно. Если бы в воскресенье работала почта, Тер помчался бы сюда сразу, как только узнал об исчезновении Корвина. Но какое дело до Корвина моему учителю?» Маркевич обнаружил, что стоит на центральной площади Вер л’Эглиз. Собственно, площадью её можно было назвать при наличии изрядного воображения, которым Степан Сергеевич не обладал. Между церковью и «Берлогой» не сумела бы пройти маршем рота солдат в шестиштыковом строю. Люди, одновременно выходившие из церкви и из почты, могли приветствовать друг друга не громче, чем если бы они сидели за соседними кувертами. Почтовая карета и пассажирский дилижанс разъезжались здесь только благодаря виртуозному искусству своих возниц.
Церковь, древняя, приземистая и основательная, как сундук в спальне мадам Марин, понравилась Маркевичу. «В ней есть что-то от дома, а храм и должен быть домом для верующих. В каком-нибудь соборе Святого Петра ты чувствуешь себя гостем, причём нежеланным. Маленьким, раздавленным и совершенно ничтожным. Если бы бог существовал, он презирал бы даже готические соборы с их дерзко попирающими небеса шпилями, не говоря уж о скучной математике ренессансных церквей и приторной лёгкости барочных. Только тут, в какой-нибудь бывшей римской конюшне, надстроенной башней с крестом, ему было бы уютно».
Маркевич задрал голову, чтобы получше разглядеть колокольню, и по своему обыкновению не замедлил шага. Возмездие, как всегда, не заставило себя ждать – Степан Сергеевич сходу на кого-то налетел, едва не сбив с ног, но всё же не сбив.
– Чёрт побери!
Маркевич не успел даже извиниться и тем более сообразить, что сказано это было на языке родных осин – пострадавший (который вовсе не пострадал) оказался тем самым русским, с головы до ног одетым в чёрное, которого Маркевич третьего дня окрестил Подшкипером. Тот улыбался, всем своим видом показывая, что ничуть не раздосадован, – даром что два продолговатых перевязанных шнурком свёртка лежали у его ног, а секунду назад, несомненно, были в его руках. Улыбка, впрочем, была из тех, которые хочется тут же забыть, – словно у кобры, полностью готовой к последнему убийственному прыжку и от того совершенно удовлетворённой, почти счастливой.
Маркевич бросился подбирать, но чёрный человек опередил его на мгновение, ловко подобрав своё имущество так, что Степан Сергеевич даже дотронуться до него не успел. Тогда Маркевич, наконец, извинился.
– Полноте, сущие пустяки!
– Разрешите представиться…
– А я вас знаю, – неожиданно сказал чёрный, – вы Маркевич. Из «Нового Эрмитажа». Мне здешний мэтр рассказывал. Да, впрочем, вы все там теперь знаменитости. А я…
Но назваться он не успел, потому что из дверей «Берлоги» вышли Патрон и давешний усач, что выбегал в залу с револьвером в руке в тот памятный день, когда нашли тело Корвина. От дверей до того места, где стояли они с Подшкипером, было едва-едва шагов десять, но за эти десять шагов с Патроном и усачом сумела произойти разительная перемена. В течение первых пяти шагов это были двое серьёзных мужчин, что-то оживлённо обсуждавших на ходу. Вернее, говорил и жестикулировал один усач, Патрон же с сосредоточенным видом смотрел себе под ноги, слушая и пару раз кивнув с одобрением. На шестом шаге словно по команде они оба посмотрели вперёд – и увидели Маркевича в компании с Подшкипером. Зрелище это, очевидно, несколько поразило обоих, потому что Патрон тут же натянул на лицо улыбку – ещё менее искреннею, чем у Подшкипера, а усач преобразился совершенно. Если бы Маркевич сейчас записывал бы свои впечатления, он не нашёл бы для описания произошедшей с усачом перемены лучшего слова, чем «просиял». Усач точно увидел давно ожидаемого друга – и оттого не может скрыть своей радости. Маркевичу на долю секунды даже показалось, что тот готов распахнуть ему свои объятия – и успел подумать, не знакомы ли они. Но нет, помстилось.
– А вот и господин Герман! – почти заорал усач и принялся трясти Подшкиперу руку, не отводя при этом взгляда от Маркевича.
Их, наконец, представили друг другу.
– Господин Маркевич из «Нового Эрмитажа». Да-да, из того самого. Господин Михайловский, мичман Гвардейского экипажа в отставке, – ни Подшкипер ни Патрон более не улыбались, и оттого даже показались Маркевичу более дружелюбными.
– А я Таланов. Георгий Аркадьевич Таланов. Коллежский советник – тоже, увы, в недалёком прошлом, – весело сказал усач. – Вот и познакомились! (Маркевичу показалось, что он даже подпрыгнул чуть-чуть). – Русские люди заграницею должны держаться друг друга, не так ли. Ухо востро и чтобы никаких помарок в счетах. Вы уже завтракали, Степан Сергеевич?
– Увы, – ответил Маркевич («когда это я успел назваться по имени-отчеству?»). – В «Новом Эрмитаже» это делают едва ли не на рассвете. Собственно, я бы уже, наверное, сидел за обеденным столом, да у нас сегодня печи не топили: все разъехались, хозяйки взяли на полдня выходной.
– Да-а, для обеда в «Берлоге» ещё рановато. Впрочем, по-русски здесь всё равно не отобедаешь, – заметил Подшкипер.
– Отчего же, – живо отозвался Таланов, – можно попросить поросёнка зажарить. Как в печи, конечно, не выйдет, да всё не луковый суп. И шнапс у хозяина преотличнейший. Сливовица есть, абрикосовица, грушовица, яблоне… В общем, всё есть. А? Соглашайтесь, господин Маркевич. Часа через полтора уже будем вкушать, так сказать.
– Благодарю покорно, – улыбнулся Маркевич. – Доктор лишит меня койки, ежели узнает, что я ем свинину и пью водку.
– А мы ему не расскажем, – серьёзно ответил Таланов. – У взрослых мужчин на вакациях должны быть свои маленькие тайны.
– И всё же я откажусь.
– И от кофе тоже? Ну и нравы в этом вашем «Эрмитаже»! Вас там случайно на ночь в кельях не запирают аки монасей на Святой Горе?
– От кофе не откажусь, – улыбнулся Маркевич. – Отслужу постом и молитвой.
«Мы болтаем уже полчаса, второй кофейник на исходе. Сандвичи здесь превосходные… Вернее, болтает один Таланов, да отставной мичман изредка вставит слово-другое. А Подшкипер ушёл, не допив и первой чашки. Мол, нужно написать несколько писем, чтобы успеть к дневной почтовой карете. Как же его назвали-то? Мгновенно вылетело из головы, что ж такое.
Поразительно, что моих собеседников совершенно не интересует дело Корвина. Они даже уверены, что убийца уже пойман – об этом Таланову якобы сказал папаша Пулен. Кроме того, по мнению Таланова, раскрывший дело инспектор – умнейший человек, нам бы таких в сыскную полицию. Мичман вежливо поинтересовался, видел ли я Корвина, но даже мой рассказ не произвёл на них особенного впечатления. Зато о строительстве железнодорожного тоннеля, который вот-вот соединит общину с остальным цивилизованным миром, они говорят с таким жаром, как будто собираются провести в Вер л’Эглиз остаток своих дней.
Трудно сказать, как корректно назвать это качество, или, вернее, умение, но сколько бы они о себе ни болтали, ничего толком я про них не узнал. Таланов, разумеется, в точности совпадает с описанием незнакомца, который сперва тёрся около пансиона, а потом пытался снять у доктора койку. Но он этого совершенно не скрывает и жалеет только, что завтра, самое позднее послезавтра, ему уезжать, а так бы он, несомненно, предпринял ещё одну попытку, тем более что и свободных комнат теперь предостаточно. Куда он едет? Пока что в Женеву, затем, вероятно, в Париж, что и является конечной целью его гран-вояжа. Ведь деньги имеют свойство заканчиваться, а Париж есть Париж. А то так и умрёшь, не побывав. Михайловский на это заметил, что в Париже можно превосходно устроиться за совсем смешные деньги и с завтраком. Особенно если ты с багажом – тогда можно в кредит прожить чуть ли не неделю, пока не пришлют деньги из дома. Кстати, это совершеннейшая правда – вот только не выглядит отставной мичман человеком, которому приходилось так столоваться. Однако бьёт полдень. Пора и честь знать».
Вежливым, но безукоризненно твёрдым был отказ Таланова принять от Маркевича франк. «Не обижайте меня, Степан Сергеевич. Это же я вас пригласил». Было решено отобедать в «Берлоге» на следующий день, причём Таланов вызвался самолично явиться в пансион, чтобы ни у Маркевича, ни у доктора не было соблазна сослаться на диету и распорядок дня. «И доктора позовём. Мне тут скучно отчаянно. В горах у меня головокружение, да ещё и дождь этот треклятый. Хорошо хоть сегодня с утра развиднелось».
– Вы обратно, в пансион, господин Маркевич? – спросил Михайловский, и Степан Сергеевич вдруг сообразил, что мичман впервые за эти три четверти часа соизволил обратиться к нему непосредственно.
– Да, пожалуй, нет. Пойду прогуляюсь.
52. Перестановка утверждения и отрицания
Маркевич любил гулять в одиночестве. Это были самые счастливые минуты в его жизни – он мог беспрепятственно предаваться размышлениям и даже разговаривать сам с собой вполголоса (по этой причине в любом городе – от Киева до Берлина – неизменно избегал людных улиц, где на его бормотание непременно обратили бы внимание). Размышления Маркевича всегда были диалогом с самим собой, вернее – с внутренним своим шутом, имевшим дурацкую привычку ставить под сомнение любые идеи и опровергать очевидное; спорить с ним Маркевич предпочитал по-настоящему, вслух.
Выйдя из деревни, он направился не прямо к пансиону, а выше, в сторону гор, рассчитывая сделать некоторый крюк и потратить на обратную дорогу не четверть часа, а минут сорок. Он прошёл мимо дома матушки Целебан (о чём, разумеется, даже не догадывался), мимо аптеки Фромантена (единственного важного учреждения Вер л’Эглиз, находившегося не на центральной улице, – Фромантены жили в этом доме лет триста, и аптека, разумеется, была устроена тут же, на первом этаже), ещё пары домов – тут-то деревня и кончилась.
(«Итак, глава “Геркулины” и записка для Шубина написаны разною рукой. Или двумя разными людьми или, что более вероятно, одним и тем же человеком, но правою и левою. Факт любопытный, но вряд ли могущий пролить на что-то свет. Алиби Тера бесспорно, да и не стал бы он убивать из-за отказа в деньгах на свои увлечения. Тер искал провокатора. Нашёл ли он его?
Лавров. Тут интереснее. Тер не жил в “Регине”, я писал ему на частную квартиру, Моренштрассе, 9. Запомнил, потому что Mohrenstraße – это Мавританская улица, а если “о” написать с умлаутом, Möhrenstraße – улица станет Морковной. Зачем ему понадобилось врать доктору? Тер, разумеется, был асом конспирации, но такая скрытность нелогична. Неужели Лавров всерьёз думает, что его “бульдог” мог быть украден Тером? Нет, это чистой воды безумие. Но и совпадений таких не бывает. Да и откуда у Тера такая роскошно отделанная машинка? На эту сумму три нагана можно купить, вероятно, а Тер, как ни относись к его горно-велосипедным кунштюкам, был человек весьма и весьма практический»).
Звук, заставивший Маркевича покинуть «чертоги разума», как он это называл вслед за злоязыкой Александрин, был неприятным, клацающим и одновременно каким-то хрустальным, что-то среднее между молоточком ювелира и звоном разбивающегося стекла. Звук этот мозг Маркевича не опознал, но это было и не нужно, потому что в пяти шагах от себя Степан Сергеевич обнаружил велосипед, а на нём – Ульянова всё в том же костюме и шляпе, в которых он приехал в пансион и – эта деталь бросилась Маркевичу в глаза первым делом – в уморительных старых чёрных гамашах поверх брючин. Гамаши, разумеется, предназначались для защиты от брызг грязи и, столь же несомненно, принадлежали покойному мужу мадам Марин – представить такое убожество в гардеробе доктора Веледницкого Маркевич решительно не мог, а то, что Ульянов притащил их с собой в багаже, – тем более.
Велосипед был явно тоже у кого-то взят в Вер л’Эглиз напрокат: допотопный, с рулём-рогами и прежёстким потрескавшимся сиденьем. Ульянов управлялся с ним мастерски: ехал, не как это всегда делал Маркевич, не отрывая глаз от переднего колеса, а уверенно и даже дерзко. Тормозя около Степана Сергеевича, Ульянов даже оторвал руку от руля и приветливо ему помахал: трюк этот показался Маркевичу самым натуральным лихачеством.
– Гуляете? – голос у Ульянова был запыхавшимся, отчего этот вопрос, совершенно риторический и даже бессмысленный, показался Маркевичу особенно до обидного глупым. Однако он ответил.
– Вот и славно, – продолжал Ульянов, спешившись. – Не возражаете против моей компании? Вы куда, в пансион? Прекрасно, прекрасно. Только вы слишком забираете, нужно немного вернуться и взять левее, так, чтобы шпиль церкви был всё время на виду. Нарочно не торопитесь? Я так и думал. Места, тут, конечно, изумительные. Я на рассвете поднялся, даже хозяйки спали ещё. Не хотите бутерброд? Я вчера потихоньку раздобыл. Совершенно свежие, однако. То ли сыр тут особенный, то ли хлеб, то ли и то и другое. И подушечку вот прихватил, да. (Тут Ульянов показал прижатую к седлу немного смятую серую думку.) Посидел с полчаса вот сейчас, полюбовался. Да, изумительные места. Интересно, есть у нас такие? Вы бывали на Кавказе? Ах да, конечно. И что, лучше или хуже?
Да, Маркевич любил гулять в одиночестве. Но от такого общества отказаться не мог.
– Там другое, Владимир Ильич. Больше камня, меньше зелени. Невероятно живописно, но – другое. И не так цивилизованно, разумеется. Тут куда ни пойди – через десять минут на телеграфный столб натолкнёшься.
Они двинулись по указанной Ульяновым тропинке; велосипед его арендатор катил по земле столь же лихо, как и когда сидел верхом: одной рукой держась то за руль, то вообще за сиденье.
– Да, Степан Сергеевич, цивилизация и горы. Я ведь, в сущности, мало знаю Россию. Симбирск, Казань, Петербург, ссылка – и почти всё. Что там в нашем неврологическом заведении? Я нарочно сбежал чуть свет – третьего дня, когда все вдруг решили разъехаться, да не вышло, такой грохот стоял, что ни поработать, ни почитать.
Шмуцтитул пятого выпуска «Диалогов» Ульянов осмотрел без видимого интереса. (Велосипед пришлось положить прямо на траву.)
– Да, занятно. Деньги взял, а личной аудиенции не удостоил.
– Сколь я понял, деньги Шубин тоже не успел перевести. Но не в этом дело. Видите ли, доктор Веледницкий дал мне прочесть рукопись второй части «Геркулины». Вернее, одну главу.
– Второй части? А она существует?
– Да, существует. Так вот: записка написана абсолютно другим почерком.
– Да что вы говорите… – Ульянов был слегка озадачен. – И какое же всему этому объяснение?
– Бог весть. Веледницкий упоминал, что последнее время Корвин ни с того ни с сего начал писать левой рукой. Правша, пишущий левой рукой, инстинктивно начинает наклонять буквы влево, здесь же, как мы видим, всё обыкновенно, а значит…
– Да ничего это не значит, – отмахнулся Ульянов. – Я в своё время практиковался в писании левою рукой. Из конспиративных соображений. Так вот: если в первые попытки буквы действительно норовили завалиться влево, точно анархист, то парой-тройкой упражнений всё это отлично излечивается. Да, почерка разные, хотя и нельзя сказать, что неотличимо. Но все буквы склоняются туда, куда нужно[32]32
Ленин рассуждал абсолютно верно. Впоследствии было точно установлено, что неизбежное склонение букв влево при письме правшами левой рукой – не более чем домыслы.
[Закрыть].
– Владимир Ильич, простите мне мою бестактность, но… Тер ведь был вооружён?
– Что? А. Понятия не имею. То есть лично я ему никакого оружия не вручал. Но коль скоро речь в конце концов зашла об эксе… сами подумайте.
Маркевич – длинная травинка в зубах, рассеянный взгляд – ничего не сказал, и они снова двинулись по тропинке. Медянка, серебристо-стальная несмотря на своё имя, с тёмной полосой вдоль тела лениво пересекла им путь – ей, как и людям, не нравилась эта бесконечная, никак не проходящая сырость. Ульянов на секунду остановился, внимательно посмотрел, как змея скрылась в корнях шиповника, а потом вдруг сказал:
– Я прочёл вашу статью, – он похлопал себя по карману (и действительно, Маркевич заметил там краешек рукописи), – дельная статья. Весьма дельная. Я не зря поверил данным мне относительно вас рекомендациям.
– Чьим рекомендациям? – удивился Маркевич. Он ещё думал о медянке и не сразу вернулся – ни в движение, ни в мысль.
– Ммм… неважно, чьим. Не хотите ли поучаствовать в одном издательском дельце? Я бы составил вам протекцию. Мартов и Потресов сейчас готовят широчайшее издание под названием «Общественное движение в России в начале XX века». Книженция обещает быть презанятной. Первый том, кажется, уже в наборе, но это пустяки, так как он предварительный. А вот во второй том, как мне кажется, обстоятельный очерк о Корвине не помешал бы. Да-с, совсем не помешал.
– Это весьма лестно, Владимир Ильич. Я бы, разумеется, хотел.
– Я напишу Мартову. Хоть он и вонючка.
– Благодарю вас сердечно.
– Не за что, не за что. У меня на вас виды, вы забыли? Так вот. Хороший очерк о Корвине нужен. Да и Гранату тоже. Правда, эту вот вашу статейку они, конечно, не напечатают. Да и я бы не стал.
Маркевич как будто налетел на столб. Он остановился и воззрился на Ульянова с изумлением.
– Ну-ну, – сказал Ульянов, сходя с дороги, чтобы пропустить пароконную повозку (Маркевич замешкался и его лишённые гамашей брюки тут же оказались забрызганным по колени). – Что это вы? Ну посудите сами. Давайте разберём. Подержите машину.
Он вытащил из кармана рукопись, расправил листы, и тут Маркевич заметил, что его рукопись исчёркана вдоль и поперёк красным и синим карандашом.
– М-м-м, так… Ну про Аккерманский уезд можно оставить, хотя решительно непонятно, как этот факт характеризует мировоззрение героя. Я родился в Симбирском, и что проку? Но допустим. Морской корпус. Это важно. Образование закладывает идейные основы на всю жизнь – хотя нам известны и примеры, когда люди и из Пажеского становились революционерами. Но не более ли важно указать, что учился Корвин во время тех самых либеральных реформ, которые значительно изменили дух военно-учебных заведений? Кстати, здесь у вас фактическая ошибка. В шестидесятые годы корпус назывался Морским училищем.
Маркевич сглотнул слюну, но ничего не ответил.
– «Здесь он обратил на себя внимание командующего отряда контр-адмирала Бутакова и по протекции последнего вскоре назначен исполняющим должность помощника русского военно-морского агента в Париже». Чем обратил? Неизвестно? Ну так и не пишите про адмирала. Хотя совершенно нетрудно взять соответствующий том того же Граната и уточнить, что корвет «Яхонт» в 1869 году присутствовал на церемонии открытия Суэцкого канала. Факт сам по себе примечательный, хотя, опять же никакой пищи для понимания идейного развития Корвина не даёт. «Охваченный порывом». Это вы сами выдумали?
– Это написано у него в «Диалогах», Владимир Ильич.
– Так укажите это! Сошлитесь! Вдумчивый читатель сам разберётся, верить ли этим словам Корвина. Про приговор, румына, посольство – всё вычеркнул. Ни к чему это. Ну-с, подходим к главному. «Вероятно, в этот период начали формироваться его взгляды, в ту пору близкие к Юрской федерации». Не «вероятно», а совершенно очевидно! Даже я, Корвином интересовавшийся мало и давно, читал его «Письма из Сент-Имье», которые вы вовсе отчего-то не упомянули. Там бакунизм первостатейный, чистейший бакунизм – и лезет он из каждой строчки. «В 1875 г., повинуясь, вероятно, тому же знакомому порыву принял участие в боснийском восстании». Опять «вероятно»! Степан Сергеевич, это статья для энциклопедии, а не магистерская диссертация по ранее неизвестной научной проблеме! Тем более что его участие в восстании, как и остальные приключения – дело тёмное, о чём вы совершенно справедливо пишете ниже. А вот о чём вы совершенно не пишете – так это об истоках его, будь он неладен, анархо-этатизма. Как он дошёл от беспримесного классического бакунизма к той ерунде, которой теперь забиты головы у его поклонников? Это, это самое важное, а не то, что он получил какие-то деньги «от неизвестного источника». Что в нём неизвестного, кстати? Всем это известно – Скляров дал. Наследство своей американской жены. Про деньги вы пишете, а про идейный генезис Корвина – ни слова! Между тем Энгельс не просто придумал термин «анархо-этатизм», он указал – и совершенно блестяще указал – что «анархизм» и «революционность» Корвина это наносное, внешнее, мишура. А вот его уважение к государству – нутряное, природное, классовое. Клас-со-во-е, слышите?! Корвин не смог полностью порвать со своим классом, скольких бы там наместников он ни убил или не попытался убить. Лассалем тут даже не пахнет.
«Хоть бы дождь опять пошёл, что ли», – с тоской подумал Маркевич, разглядывая небо. «Так и умирают со стыда, наверное».
Они снова медленно шли по дороге, серый купол Ротонды мелькнул в отдалении; пансион, впрочем, был ещё не виден.
– Взгляды Корвина вы излагаете, в основном, правильно, – наконец, сказал Ульянов и в голосе его Маркевичу почудилось что-то вроде извинений. – И большое влияние «Геркулины» в пропаганде корвиновских идей отмечено верно. Но опять же!
Ульянов снова остановился, прислонил велосипед к бедру, полез в карман за рукописью, принялся нервно перебирать листы.
– Вот! А, нет. Вот. «Радикально-коммунистической Пифагории, основанной на принципах чистого анархизма». Вы пишете статью для энциклопедии, которую будет читать врач в Смоленске, присяжный поверенный в Тифлисе, инженер-путеец в Иркутске, какой-нибудь студентик в Казани или Харькове. Эти люди могут не разбираться в тонкостях «измов». Не объясняя ничего, мешая в одну кучу радикализм, анархизм, коммунизм, вы их только запутываете. В то время как вам предоставилась уникальная возможность донести ваши знания и ваши идеи со страниц пусть не бесцензурного, но вяло и благодушно цензуруемого издания. Издания массового, энциклопедии! Как можно было не воспользоваться такой возможностью, чтобы объяснить, что между теми и этими, как бы там не разделял их автор, нет никакой принципиальной разницы, что и те и другие – анархисты, порождение буржуазной цивилизации, чучела революции, враги пролетарьята! Нет, и ещё раз решительно нет: такую статью печатать нельзя. Переделайте[33]33
Двести пятьдесят рублей я, разумеется, так никогда и не получил.
[Закрыть].
Они были уже у пансиона. Ульянов прислонил велосипед к калитке, но внутрь не вошёл, поднявшись по ступенькам прямо на террасу, в этот момент пустовавшую. Подтащил к краю террасы два плетёных кресла, после чего вопросительно уставился на Маркевича. Тому ничего не оставалось, как присоединиться.
– Вы поступили, как младенец, – Ульянов точно не прерывал своего монолога. – Получить такой прекрасный шанс для пропаганды – пускай в завуалированной форме – наших взглядов и так с кондачка к этой работе подойти. Что прикажете с вами делать, если даже вы не понимаете всей важности легальной агитации!
– Отчего же, – ответил Маркевич, – вполне понимаю. Правда, сдаётся мне, что сейчас в России не самая благоприятная почва для наших агитаций.
– Чушь! Чушь и маловерие. Да что ж такое – с одной стороны, нетерпеливые петрушки, на всех углах голосящие о том, что агитировать – значит попусту тратить время, ибо надо, видите ли, действовать. С другой – люди вроде вас, грозящие вот-вот впасть в панику из-за того, что всего-то-навсего сорвалась самая первая попытка. Да и то сказать – «не удалась». Вот и ко мне прилипло это определение, а ведь оно, Степан Сергеевич, сугубо неверно.
– Ну как это «неверно», – улыбнулся Маркевич. – Считать девятьсот пятый год успехом – это, знаете ли…
– Знаю. Знаю! А вот вы – знаете ли вы, сколько теоретической литературы, первоклассной марксистской литературы было издано в России в период революции? Да, пускай в основном переводной, но что же за дело, если она хороша? Такое количество марксистских идей, в такой короткий срок брошенных в девственные, почти незатронутые социалистической агитацией массы, – оно, знаете, не переваривается сразу. Но это зерно не пропало. Оно посеяно, оно проросло и растёт. И оно даст плоды – может быть, не завтра, не послезавтра, а несколько позже, мы не в силах изменить объективных условий нарастания нового кризиса, – но непременно даст. И это тоже исход нашей первой революции, которую вы походя объявили безделицей, даром что пролили на ней свою кровь.
Доктор Веледницкий возник, как обычно, из ниоткуда. Маркевич готов был поклясться, что доктор сменил галстук: утром на нём был темно-фиолетовый, с тонкой розовой диагональю, сейчас же – бордовый однотонный. Маркевич подумал, что Веледницкий сейчас единственный человек на много вёрст вокруг, одетый в шёлковый галстук с булавкой.
– Что, товарищи, опять изнуряете себя голодом, пользуясь тем, что сегодня у нас только холодный стол? – весёлым голосом спросил их обладатель галстука с булавкой. – Ай-яй-яй. Ну да ничего. С завтрашнего дня обычная жизнь вступает в свои права, и подобного самовольства я вам более не спущу! Не желаете ли чаю? Сейчас четверть третьего. Давайте устроим настоящий файв-о’клок, но пяти часов ждать, разумеется, не будем.
И сочтя, по обычаю, молчание знаком согласия, добавил:
– Жду вас ровно в три в гостиной. Да-да, в гостиной, что-то мне надоела эта теснота.
– Файв о’клок, полюбуйтесь на этого англомана, – рассмеялся Ульянов, когда Веледницкий скрылся внутри дома. Интересно, где он провёл сегодняшний день?
– В Эгль мог съездить, например.
– Мог, – задумчиво сказал Ульянов. – Определённо мог. Чай-то пить пойдём? Признаться, я не любитель прерывать хорошую беседу ради печенья.
– А я, честно говоря, проголодался, – улыбнулся Маркевич. – Вероятно, это и называется «нагулять аппетит». Да и действительно, без обеда остались. Так что не вижу причины отказываться от столь любезного приглашения.
– Да, чего-чего, а любезности в нашем докторе хоть отбавляй.
– Вы что-то перестали питать симпатию к Антонину Васильевичу.
– Что? А, нет, – рассеянно сказал Ульянов. – Нет. Теперь, когда вся буржуазная пена, так сказать, схлынула, я чувствую себя здесь гораздо комфортнее. Но вы неправы вот в чём: я не могу сказать, что питал и питаю к Веледницкому какую-то особенную приязнь.
– Мне казалось, вы отзывались о нём как о дельном человеке, – заметил Маркевич и закурил, едва ли не впервые не спросив у Ульянова разрешения.
– Да как вам сказать, Степан Сергеевич. Кое-что полезное он, безусловно, делал и делает. Даже если не считать этого пансиона – учреждения для нас всех очень подходящего. Правда, думаю, что пансион этот прекрасно известен и швейцарской полиции, а она, безусловно, сотрудничает с нашей родимой. Но это приемлемые издержки. В пятом году на баррикадах он работал в Москве как врач. Вы с ним не встречались там?
Маркевич помотал головой.
– Отзывы были хорошие, – продолжал Ульянов. – Человек он не трусливый, во всяком случае. Выправил немало поддельных свидетельств об освобождении от призыва, ставил диагнозы, помогавшие товарищам получить паспорт и выехать за границу якобы для лечения. Да и деньгами помогал как мог. Но, – Ульянов помолчал, – этого мало. Этого чертовски мало. Самое страшное это то, что Веледницкий – человек без базы. В голове, я имею в виду. Базы теоретической нет, основы. Он человек настроения. А это опасно. Его избрали на Четвёртый съезд, а он не поехал – занят был здесь, в пансионе. Заметьте, ни одного нашего товарища, да что там нашего – никого, имеющего отношение к борьбе человека, хотя бы и вшивого эсера, в тот момент в пансионе не было. Это мы доподлинно установили. Однако же – не приехал. На съезд!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































