Текст книги "Смерть чистого разума"
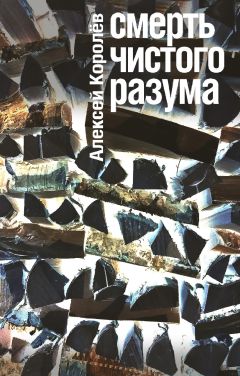
Автор книги: Алексей Королев
Жанр: Исторические детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 34 страниц)
Маркевич и Веледницкий покорно раскланялись и разместились в креслах.
– Итак, господа, – сказал инспектор. – Я бы хотел, господа, обратиться к вам за помощью. Мне нужно сверить одну свою догадку. Без вас у меня, честно говоря, ничего не выходит.
Целебан допил шартрез, протёр пенсне, встал, слегка, не нарушая приличий, потянулся и принялся широкими шагами мерить кабинет доктора. Веледницкий и Маркевич молчали, внимательно следя за перемещениями инспектора.
– Скажите, доктор, известно ли вам, кто на самом деле такой господин Товия Фишер?
– Секретарь господина Лаврова. Во всяком случае, отрекомендовался он именно так, – сказал Веледницкий.
– А то что он – активный член террористической группы под названием, – тут Целебан извлёк из внутреннего кармана записную книжку, с которой и сверился, – «Боевая организация социалистической революционной партии», вам известно?
Веледницкий пожал плечами:
– Разумеется, нет. То есть я знаю, что Фишер по своим убеждениям – социалист-революционер. Но террорист… нет, поймите меня правильно, я не отрицаю такую возможность. Но знать наверняка? Нет.
– А вы, господин Маркевич?
«Поразительна природа лжи во спасение. Вернее, конечно же, не во спасение, кого тут спасать? Лжи во благо. Во благо Веледницкого, которому ни к чему репутация содержателя санатория для павших духом русских революционеров, во благо Ильича, которого Веледницкий описал Целебану, разумеется, не как вождя партии, вполне сопоставимой по радикализму с эсерами, но как “крупного социалистического политика и философа”. Для моего собственного блага, наконец. Ложь во благо почти всегда не опознаваема, ради доброго дела человек врёт так же легко, как дышит – легко и уверенно. Но и последствия такой лжи почти всегда тяжелее, чем у лжи обычной – ибо добро и зло в конце концов перестают отличаться друг от друга, но ложь уже сотворена, и кто знает, благом ли она обернулась».
– Не имел ни малейшего представления. Но, как и Антонин Васильевич, о, так сказать, политических взглядах Фишера был осведомлён.
– Допустим. Господин Маркевич, вы давеча на террасе заявили, что согласны со мной относительно подозрений в адрес господина Фишера. Чем, кажется, вызвали нешуточное удивление господина Склярова.
– И сейчас вызвали моё, – сказал Веледницкий. – Степан Сергеевич, я, право, не понимаю…
– Подождите, доктор, – прервал его Целебан. – Вот что я предлагаю. Пускай господин Маркевич изложит нам свои соображения относительно Фишера. Вы, доктор, послушаете, а я сверюсь, так сказать, с собственными наблюдениями и выводами.
– Неплохая идея, – улыбнулся Веледницкий. – Как вам, Степан Сергеевич?
Из гостиной то и дело слышался топот. «Шаркающая походка – это, наверняка, очнулся Скляров. Никого не увидел в комнате и пошёл к себе – досыпать или на кухню – учить чему-нибудь хозяйку. А, нет, точно не на кухню: вот этот тяжёлый ровный солдатский шаг – это мадам. Пошла прочь из дому куда-то. Легкие чокающие звуки – тут тем более всё понятно: после того как уехали Лаврова и Луиза, в пансионе больше никто не носит каблуков. А это кто? Негромкий, но твёрдый шаг. Ильич успокоился и идёт на террасу. Или снова гулять? Многовато прогулок на один день».
– Что ж, инспектор, давайте попробуем.
От шартреза Маркевич вновь отказался. Встал (Целебан, наоборот, вернулся в кресло), подошёл к окну и некоторое время изучал пейзаж. Потом решительно обернулся:
– Итак, рассуждая о роли Фишера в этом деле, я задал себе, разумеется, два главных вопроса: «как?» и «почему?». Но поразмыслив, отринул первое, сосредоточившись для начала на втором.
* * *
– О чём вы там размышляете, Степан Сергеевич? – спросил Ульянов, не отрываясь от чтения. – Об эпистолярном наследии орла нашего, товарища Корвина? Да, любопытная история выходит. Почерка-то в письме и открытке – опять разные.
(Маркевич обнаружил его на террасе с «Голосом социал-демократа» в руках. С уходившим инспектором Ульянов обменялся вежливыми кивками, но сколь Маркевич ни вглядывался в лицо Целебана, никакого особенного нового интереса к «сочинителю статей в экономических журналах» разглядеть не смог. Самому «сочинителю» Степан Сергеевич, разумеется, тут же попытался вкратце пересказать содержание беседы в кабинете доктора, но мгновенно натолкнувшись на вежливую глухоту в ответ, сразу перестал. Ульянов был погружен в «Голос социал-демократа» и вопреки ожиданиям Маркевича даже ничего язвительно не комментировал.)
– Разные, Владимир Ильич. И, признаться, у меня нет решительно никаких разумных всему этому объяснений.
Маркевич потушил папиросу.
– Ну, возможно, в какие-то минуты покойный пользовался левой рукой, а в какие-то – вспоминал, что от рождения он правша, – заметил Ульянов.
– Да, это правдоподобно. Интересно, укладывается ли это в историю болезни Корвина.
– Ну, кто его знает, что у него на самом деле была за болезнь. Кстати, я тут взял у доктора журнальчик полистать. Revue Neurologique, последний выпуск. Презанятное чтение, рекомендую.
– Между прочим, доктор интересовался сегодня утром судьбой этого журнала. Странно, что не напомнил за чаем.
– Действительно странно. Я его припрятал для вас в книжном шкафу, том, что в гостиной. Возьмите потом. Не пожалеете. Может, добавит вам пищи для размышлений о природе психических заболеваний у пожилых анархистов.
– Непременно возьму. Впрочем, признаться, когда вы спросили, я размышлял вовсе не об открытке и вообще не о корвиновском почерке.
– А о чём же?
– Об Радамесе, Владимир Ильич.
– О чём, о чём? – Ульянов даже выронил газету на пол, но тут же, впрочем, подобрал.
– О Радамесе. Начальнике стражи фараона египетского, которого оный фараон отправил завоёвывать Эфиопское царство.
– «Аида»? И что же?
– Он мне всегда казался своего рода революционером. Ну, не ругайтесь сразу, не ругайтесь. Революционером, разумеется, в той степени, в которой такая фигура вообще возможна в то время – я имею в виду не фараонов Египет, разумеется, ибо понятно, что историчность этой любовной драмы предельно условна, – но конец шестидесятых годов прошлого века. Вероятно, и Верди и его либреттисту Радамес казался настоящим бунтарём. Ниспровергателем основ.
– Что это вас потянуло на «Аиду»?
– Её ноты были среди прочих корвиновских рисунков на стене Ротонды. Просто вспомнилось. Мне отчего-то кажется, что там, в этих каракулях гения заключена какая-то важная для нас тайна.
– Ну какие там у вас всё тайны, Степан Сергеевич? Делом нужно заниматься, делом. А не гадать, кто укокошил Корвина.
– Я вовсе не гадаю, Владимир Ильич, – голос Маркевича дрогнул обидой. – Я пытаюсь рассуждать. Но в моих рассуждениях не хватает какого-то важного звена. Что-то я упускаю.
Ульянов, наконец, оставил свою газету и посмотрел на Маркевича даже с каким-то подобием заинтересованности.
– Слушайте, Маркевич, у вас в конце концов есть моя записка. Не потеряли ещё? Распечатайте её и дело с концом.
– Как говорят англичане, это не спорт. Считайте, что я таким образом тренирую логическое мышление.
– Ну и в какой именно логический тупик завели вас ваши размышления на данную минуту? – спросил Ульянов.
– Кишинёвский погром.
Ульянов пожал плечами:
– А что с ним? Ах да, его упоминает Корвин в своём письме. Но мне это ни о чём не говорит, – то есть про этот позорнейший для России акт черносотенного вандализма я, разумеется, помню. Но при чём тут Корвин?
– А дело меж тем громкое было, Владимир Ильич. Погром, как вы помните, имел место весной тысяча девятьсот третьего года, по-моему, в апреле. Корвин был в это время в Америке, выступал, кажется, с лекциями. Тема Кишинёва была у всех на устах, повсюду собирали деньги для бессарабских евреев, организовывались собрания в их пользу. На одно такое собрание пригласили Корвина, тот – как сейчас мы понимаем, скорее всего уже пребывавший в нервном своём расстройстве, – отказался в форме, показавшейся организаторам грубоватой. Тогда они подослали к Корвину корреспондента «Стандарда». Который в ответ на свой вопрос «Коли уж не хотите участвовать в собрании, так может быть просто пожертвуете бедным евреям, пострадавшим от царской власти?» услышал: «Всем жидам всё равно не спастись, покуда не настанет на Земле царство свободы». Репортёр, разумеется, оставил только первую часть фразы, вынес её в заголовок. Разразился страшный скандал. Представляете: Иоанн Кронштадтский, поп, антисемит, мракобес – осудил, а всемирно известный революционер – нет. Все несостоявшиеся лекции Корвина были отменены – разумеется, организаторами. Из Общества анархо-этатистов вышло несколько крупных фигур. Соратники Корвина советовали ему хотя бы задним числом пожертвовать деньги – тот категорически отказался и просто уехал в Европу, даже не пожелав объясниться. Правда всплыла только впоследствии.
– Да, теперь вспоминаю. Но при чем тут Фишер?
– Фишер из Кишинёва. Или во всяком случае жил там некоторое время, работал, сколь можно было понять из слов Лаврова, в местной газете. Рискну предположить, что помимо общегражданского негодования он мог испытать и какие-то личные чувства. Например, во время погрома пострадали его родные. Месть – это серьёзный мотив. Возможно, самый серьёзный.
– Именно это вы это и рассказали инспектору?
– Да, – ответил Маркевич.
– И как он отреагировал?
Маркевич пожал плечами:
– Кажется, не нашёл в моей версии ничего нелогичного. Сказал, что ему теперь нужно кое-что проверить.
– А вот мне кажется, что вы что-то сильно усложняете, Степан Сергеевич, – заметил Ульянов. – Пускай поведение Корвина и впрямь безобразно, но он всё же не самолично лавки громил. Это раз. Про родных – и вовсе фантазия, это два. Ну и, наконец. Фишер – боевик. Пускаться на такую авантюру без разрешения партии? Ну не знаю. Я невысокого мнения об эсерах, но такое разгильдяйство даже в их рядах предположить сложно.
И Ульянов прекомично развёл руками.
– Нет же, Владимир Ильич, нет! – Маркевича сомнения собеседника, наоборот, казалось, воодушевили. – Именно без согласия партии, именно втайне от неё! Поэтому Фишер, не скрывавший своего презрения к Корвину, так старательно убеждал меня, что отношение это одно, а готовность лично покарать – совсем другое. Ну и самое главное: ещё на второй день моего пребывания здесь – в то утро, когда меня отвезли в Эгль, – Фишер намекнул, что происходит из, мягко говоря, небедной семьи. А теперь представьте себе: какой-нибудь крупный кишинёвский капиталист Фишер погибает в погроме – если я не ошибаюсь, среди пострадавших было немало состоятельных людей. Его сын – эсер. Никакая партия, разумеется, не позволит ему мстить за отца-буржуя. Но не только боевик. Он ещё и сын. Как вам такая логика?
– Вот что, – решительно сказал Ульянов. – Оставим пока ваши фантазии, даже если они и выглядят неплохо с точки зрения здравого смысла. Пойдёмте ко мне, Степан Сергеевич. Тем более что сейчас опять польёт. И попробуем вместе разобраться в этих самых, как вы выразились, каракулях гения.
53. Это как сон
– Итак, много ли вы успели срисовать?
– Да, пожалуй, почти всё, – ответил Маркевич. – Хотя времени было маловато, пусть Корвин и не торопился с аудиенцией, а я пользовался скорописью. Кроме того, меня интересовал не смысл изображённого, а, так сказать, сам факт. Перечитав, я сам удивился, что надписей, в сущности, не очень много, хотя занимали две стены едва ли не целиком. Просто очень крупно всё было написано и нарисовано.
Ульянов кивнул:
– Так рисуют дети. Скажите на милость, вы листочки отдельно сшили. Для чего же?
– Чтобы не потерять ненароком.
– Толково. Толково и аккуратно. А вот эти номера около каждого рисунка – ваших рук дело или Корвина?
– Нет, они были на стене. Я ещё поразился их неупорядоченности: за тройкой следовало 55, после 17–31. И так далее.
Они уселись прямо на ульяновскую кровать. Чтобы не заболели спины, им пришлось привалиться к стене. Ульянову стало неудобно через секунду и он тут же приладил себе под позвоночник подушку, а другую передал своему товарищу.
– Ну хорошо, – сказал он, раскрывая самодельную тетрадку. – Я бы предпочёл начать с чего-нибудь совсем простого. Так сказать, размять наш ум. Ну вот, скажем. Под номером восемьдесят семь. Der Mut der Wahrheit, der Glaube an die Macht des Geistes ist die erste Bedingung der Philosophie. Проще уж не бывает, не правда ли?
Маркевич кивнул:
– Гегель.
– Гегель. «Лекции по истории философии». Мужество истины, вера в силу разума есть первое условие философии. Мысль, казалось бы, слишком банальная для столь великого ума. Но вот парадокс: те, кто начинают витийствовать, усложнять, прятать свои суждения в тонне словесной шелухи, как правило, недостойны даже читать Гегеля, не то чтобы быть ему ровней. Это, кстати, касается и Корвина.
Ульянов поднялся с кровати: очевидно в горизонтальной позе он не мог провести и десяти минут; движение, хотя бы взад-вперёд по крошечной комнате явно было ему совершенно необходимо.
– Не смею спорить, – сказал Маркевич (он остался лежать). – Но интересно всё же, что значит эта надпись, для чего она здесь.
– Всё что угодно – как и все остальные. А может быть, и ничего. Например, Корвину просто понравился гегелевский афоризм и он начертал его на стенах своей резиденции. Что там дальше? Опять по-немецки?
– Да. Erreicht den Hof mit Mühe und Not, In seinen Armen das Kind war tot. Номер пятьдесят пять. Это тоже нетрудно. Это Гёте. Даже Целебан опознал.
– «C большим трудом он достиг поместья, ребёнок в его руках был мёртв».
– Ну или воспользоваться помощью Василия Андреевича, «Ездок погоняет, ездок доскакал… В руках его мёртвый младенец лежал».
– Какого Василия Андреевича?
– Жуковского, Владимир Ильич.
– Ах, да. Да, пока что всё это совершенная бессмыслица.
– Согласен, – сказал Маркевич. – Что до нот под номером шестьдесят три, то, как я уже сказал, это «Аида». Вернее, опять-таки инспектор так считает. Он утверждал, что это начало Марша победителей из «Аиды». Признаться, в музыке я полный профан.
– Да? – отозвался Ульянов, погружённый в содержимое «тетрадки» Маркевича. – А я, признаться, очень люблю. Не именно «Аиду» – просто музыку.
И совершенно неожиданно для Маркевича Ульянов вдруг отчётливым голосом запел:
Бог всесильный, бог любви!
Ты внемли мольбе моей:
я за сестру тебя молю,
сжалься, сжалься ты над ней.
– Ну и лицо у вас было сейчас, – засмеялся он. – Не ждали?
– Представить себе не мог. Хотя, припоминаю, что давеча вы напевали что-то после обеда.
– Да, не отказываю себе иногда. Самопроизовольно как-то выходит. Там дальше есть замечательные строки:
Да, в кровавой борьбе в час сраженья,
клянусь, буду первым я в первых рядах!
Но если судьба так решила, я умру,
покрытый славой, за отчизну паду.
Мбда, замечательная мелодия. Не в моём исполнении, разумеется. Кстати, помните ли вы, где и когда состоялась премьера «Аиды»? Во время открытия Суэцкого канала, на котором, как мы знаем, Корвин совсем юным мичманом присутствовал. Так что вполне мог быть среди первых зрителей, да-с. Ну, что там у нас дельше?
– Что-то греческое.
– Да, именно греческое. Девять. И тоже, видимо, стихи. Вы хорошо знаете греческий? Аккуратно переписали?
– Признаться, не очень хорошо, Владимир Ильич. В корпусе мёртые языки преподавали много хуже живых. Но срисовал по возможности аккуратно. Да тут и немного. Но перевести толком не смогу. Ясно только, что это снова цитата.
– Совершенно верно, – ответил Ульянов и, чуть запинаясь, прочёл:
τοι δ’ άνά γάν ’Ασίαν δήν
ούκότι περσονομοΰνται,
ούδ’ ετι δασμοφορουσιν δεσποσύνοισιν άνάγκαις,
Ούδ εΐς γάν προπίτνοντες άρξονται· βασιλεΐα γάρ
διόλωλεν ισχύς.
ούδ’ ετι γλώσσα βροτν. σιν
έν φυλακαΐς· λόλυται γάρ
λαός έλευθερα βάζεΐν,
ώς έλύθη ζυγόν άλκάς.
αίμαχθεΐσα δ’ άρουραν
Αΐαντος περικλΰστα νάσος εχεΐ τά Περσάν
– Интересно. Веледницкий рассказывал, что Корвин не знал древнегреческого и только недавно начал его изучать, – заметил Маркевич.
– В самом деле? Хм. Любопытный способ – начать изучение греческого с Эсхила. Это же «Персы», неужто не узнали? – И Ульянов на секунду задумался, а потом вдруг убрал руки за спину, как примерный ученик на экзамене и довольно громко продекламировал:
А народы Азии
Уж не будут подчиняться
Тем законам,
что им дали персы,
дани уж не будут
Платить персам,
Так как прежде,
Принуждённые к тому
Нуждой рабства, поневоле;
Не подумают они уж
Как подвластные, лежать
На земле простертые:
Ибо мощь царя погибла.
И язык развяжется:
Узы сняты уж с народа,
Так что может он свободно
Говорить, о чем захочет
Кровью упоённые
Пашни острова Аякса,
Омываемого морем,
Схоронили персов силу.
Маркевич рассмеялся.
– Мбда, – сказал Ульянов, почесав шею в районе кадыка. – Эсхилу явно нужен новый перевод на русский. Листайте, листайте.
И Маркевич перелистнул. Было там вот что: Young prince of Tyre, you have at large received The danger of the task you undertake. Hail, sir! my lord, lend ear. Номер же стоял – сто двадцать семь.
– Английский. Давайте, Степан Сергеевич, блесните.
– Последнее предложение подчёркнуто. Дважды, – заметил Маркевич. – Но я переведу, конечно. Это Шекспир. И, кстати, это произносят разные персонажи.
Обдумали ль подробно, тирский князь,
Какой вы подвергаете себя
Опасности, решась на это дело?
Это говорит Антиох. А это уже Марина: Hail, sir! my lord, lend ear. Кажется, это будет так:
Внемлите мне,
Достойный князь, склоните ухо.
– Любопытно, – сказал Ульянов. – А что это за пьеса?
– «Перикл».
– Любопытно, – повторил Ульянов. – Не припоминаю, чтобы читал. Вечно не доходят руки… Так. Что там у нас на очереди?
– Две надписи, заключённые в овал, словно имя фараона. Кажется, это называется картуш. Кстати, такими картушами снабжены только эти две цитаты – по крайней мере из тех, что я успел срисовать. Обе были, сколь я помню, прямо над столом Корвина. Обе – записаны скорописью, вот только систему я не узнаю: это точно не Ольхин. Может, Иванин? Так или иначе, попробуем разобрать. Тем более обе – явно из Священного Писания. Первая, номер шестьдесят один. «Язв ей смрт плач глад огнм сожжен будт». Здорово смахивает на Апокалипсис. И вторая. Двести пятьдесят семь. «Сведт тя умреши смртю язвнх в срдц морстм»…
– Тут я бессилен, – развел руками Ульянов. – Нет, дело не в скорописи, разумеется, а в Библии. Даже в детстве не мог себя заставить читать эту пакость. Придется вам, Степан Сергеевич, прогуляться вниз: я видел её в гостиной – и на довольно видном месте, для особливо набожных пациенток, наверное. Тот шкап, что за камином, там ещё газеты на столике внизу лежат.
– Разумеется, Владимир Ильич, сейчас схожу. Буквально минуту обождите.
Вернулся Маркевич, однако, не быстро.
– Что же вы так долго? – спросил Ульянов. – Я уж заскучал.
– Пришлось покопаться, там, где вы описали, Библии не было. Надо сказать, библиотека нашего доктора – во всяком случае её, так сказать, публичная часть – имеет довольно специфическую ориентацию. Я перелопатил три подшивки Strand Magazine, пару томов Ясинского, «Листопад», несколько номеров «Сигнала» и тут же – какие-то дамские журналы с раскрашенными модами.
– Да-да, – отозвался Ульянов, – я тоже обратил внимание. Что моды – я там видел каталог охотничьих ружей и револьверов. Весьма роскошный, кстати – и с закладочками. Впрочем, Библии в этой компании самое место.
– Кстати, о револьверах, – сказал Маркевич, усаживаясь обратно на кровать. – Помните, я спрашивал, было ли у Тера оружие? Я чуть-чуть слукавил, простите. («Никогда так больше не делайте», – успел вставить Ульянов.) Мне нужно было узнать, не снабжал ли Тера оружием ЦК. Так-то у него был «бульдог» в особой отделке, явно подарочный. Я видел его в почтовой карете в тот день, когда вы приехали. А вечером того же дня Лавров мне сообщил, что у него именно такой револьвер украли. Якобы в Берлине, где, кстати, он находился в одно время с Тером.
– Да? Очень интересно. Вернее, ничуточки неинтересно. Ну украл и украл. Теру он был всяко нужнее, чем этому прыщу, – Ульянов нетерпеливо заёрзал. – Ну так что же? Раздобыли эту поганую книжонку?
Библия на русском в «Новом Эрмитаже» особым спросом явно не пользовалась – хотя все страницы и оказались разрезанными, выглядели они точно только что из книжной лавки. Да и издание было явно не слишком дорогое; впрочем, ни то ни другое обстоятельство никого из собеседников не удивило.
– Хорошо, что с параллельными местами. Так, ну что тут у нас? Язвы, смерть, плач, глад, господь бог. «Огнем сожжен будет». Или «сожжена». Вот «морстм» это интересно. Это явно «морстем», сиречь «морей». «Сердце морей». Сейчас поищем, – сказал Маркевич, но это «сейчас» растянулось почти на четверть часа. Степан Сергеевич мусолил пальцы и шевелил губами, листал туда и обратно, загибал уголки страниц и даже вооружился карандашом, чтобы что-то подчеркнуть, пока, наконец, не объявил:
– Нашёл!
– Да? – ответил Ульянов. Всё то время, пока Маркевич был погружён в священные тексты, он умудрился потратить на работу, успев написать полторы страницы. – И что же это?
– Первое, как я и предполагал, Откровение Иоанна Богослова, глава восемнадцатая, стих восьмой. Полностью звучит так: «Сего ради во един день приидут язвы ей, смерть и плачь и глад, и огнем сожжена будет, яко крепок Господь Бог судяй ей». Второе – Книга пророка Иезекииля, глава двадцать восьмая, стих тоже восьмой. «И сведут тя, и умреши смертию язвеных в сердцы морстем».
– Как-как вы сказали? «Умреши смертию язвеных в сердцы морстем»?
– Да, – ответил Маркевич. – Умрешь в сердце морей.
– Да уж, умели эти еврейские начётчики нагнать страху на тёмный народ! – засмеялся Ульянов. – Однако это пока всё по-прежнему какая-то ерундистика. Двинулись дальше?
– Двинулись. Шестьдесят пять. C7H5N3O6.
– Химическая формула.
– Да. И довольно простая. Тринитротолуол, весьма сильное взрывчатое вещество. Интересно, что хотел этим сказать Корвин?
Ульянов пожал плечами:
– То же, что и всем остальным. Возможно, ничего. Ещё формулы есть?
– Да, одна, но не химическая, а математическая. Номер сорок девять. a2 – b2 = (a + b)(a – b) Обыкновенное тождество
– Слишком обыкновенное, – заметил Ульянов. – Учебник Киселёва. Давайте лучше верёмся к языкам. Тут мы с вами плаваем поувереннее.
– Вот итальянский я знаю очень плохо, – сказал на это Маркевич, перевернув ещё одну страничку. – А меж тем это, несомненно, итальянский.
Dafne la Ninfa si leggiadra, e cruda
Del gioianetto innamorato Apollo
– Я вам помогу. Хотя мои знания итальянского ограничиваются ресторанами на Капри – благо воспоминания сравнительно свежи, коль скоро я только что оттуда, да передовицами «Униты» со словарем. Но тут никакой словарь не нужен, почти всё ясно как день. «Дафна», «нимфа» – это понятно. «Крудо» – это явно что-то относительно жестокости, «иннаморато», «Аполло». В общем, ничего сложного. Нифма Дафна жестока, Аполлон в нее влюблен[34]34
Эти стихи Джамбаттисто Марино из его «Лесных эклогов» Ленин перевёл вполне близко к оригиналу:
Дафна – изящная и жестокая нимфа,Любит её Аполлон.
[Закрыть]. Номер есть?
– Да. Номер семь.
– Так, греческий у нас уже был, немецкий был, английский, итальянский. Эдак мы до арабского дойдём, а, Степан Сергеевич?
– Арабского не припомню. А вот время латыни пришло. Номер пятнадцать.
Eone nomine, imperator unice,
Fuisti in ultima occidentis insula,
Vt ista vestra diffututa mentula
Ducenties comesset aut trecenties?
Quid est alid sinistra liberalitas?
Parum expatrauit an parum elluatus est?
Paterna prima lancinata sunt bona;
Secunda praeda Pontica; inde tertia
Hibera, quam scit amnis aurifer Tagus.
– Не узнаю, – продолжил Маркевич. – Овидий? Вергилий?
– Бог с вами, Степан Сергеевич. Это явная сатира. Но автора и я не распознаю. Подстрочно перевести, впрочем, нетрудно:
Единственный император,
Для чего отправился ты на самый западный остров?
Не для того ли, чтобы этот петух у тебя глотал
По сто двадцать или тридцать миллионов разом?
– «Петух»? – спросил Маркевич.
– Ну, думаю, это в переносном смысле. «Петух» во все времена и во всех землях значил примерно одно и то же – расфуфыренный человек, франтик.
– Ну хорошо. А дальше?
– Дальше темновато. Подстрочник нам вряд ли поможет. Quid est alid sinistra liberalitas? Это что-то вроде «великодушной щедрости», впрочем. А вот потом – не могу ясно изложить[35]35
Впоследствии я нашёл, разумеется, прекрасный перевод Фета:
Не с этой ли ты целью, вождь единственный,На самом крайнем острове был запада,Чтоб этот хлыщ истрёпанный у вас глоталПо двести или триста тысяч там зараз?Иначе что же значит щедрость вредная?Иль мало размотал он? Мало расшвырял?Сперва он погубил отцовское добро,Затем Понтийскую добычу, в-третьих же,Иберскую, что знает златоносный Таг.
[Закрыть]. Много там ещё?
– Нет, большую часть мы уже одолели, Владимир Ильич. Опять латынь. Тридцать один. Similis simili gaudet. «Похожий похожему рад».
– Или «рыбак рыбака видит издалека», – засмеялся Ульянов. – Поразительная вещь поговорки, совершенно поразительная. Как такие разные с исторической, географической, культурной точки зрения нации как русские и латиняне вышучивают в народной речи одно и то же!
– И англичане, – отозвался Маркевич. – У них даже более образно, чем у нас, не говоря уж о римлянах.
– Да? И как же?
– Birds of a feather flock together.
– Да, – задумчиво сказал Ульянов. – Действительно метко. Не так ли и мы сбиваемся в одну партию, ибо наше оперение одно и то же. А, Степан Сергеевич? Что скажете?
– Скажу я вам, Владимир Ильич, что у нас ещё один Шекспир.
– Что же именно?
– Hie thee, gentle Jew. Это слова Антонио из «Венецианского купца». В зависимости от того, чьим сценическим переводом вы предпочитаете пользоваться – Вейнберга или Аполлона Григорьева, – может звучать или как «Прощай, мой милый жид» или как «Поскорее, милейший жид». Лично мне вариант Вейнберга нравится больше.
– И какой же номер? – спросил Ульянов.
– Тройка.
– Ага! – Ульянов поднял указательный палец. Маркевич взглянул на него в недоумении, но тот ничего пояснять не стал. – Антонио, если мне не изменяет память, – он и есть тот самый «венецианский купец»?
– С одной стороны, да. С другой, Аполлон Григорьев перевёл название пьесы как «Венецианский жид», ибо Шейлок тоже купец.
– Что там далее? Рисунки, ого.
– Да. Если в моём исполнении это можно так назвать, – смущённо ответил Маркевич. – Я успел скопировать три, ибо скоропись тут не поможет. Итак, у нас есть голубь с листом в клюве (при виде голубя Ульянов непроизвольно хмыкнул), номер тринадцать. Затем колесо в языках пламени – колесо мне удалось, как видите, много лучше. Номер девяносто три. И, наконец, венок. Номер семнадцать. Я очертил его совсем схематично, ибо в этот момент вошёл, сколь мне помнится, Корвин. Но это именно лавровый венок.
– Действительно, – сказал Ульянов. – Лавровый венок. Символ триумфа политиков и поэтов.
– И Аполлона. Кстати, «Дафна» по-гречески это «лавр», – заметил Маркевич.
– Да, действительно. Забавно, – хмыкнул Ульянов. – Аполлон и Дафна. Хотя какой он, между нами говоря, Аполлон…
– Что вы имеете в виду? – Маркевич сосредоточенно пытался перерисовать голубя так, чтобы он был похож хотя бы на куропатку, а не раскормленного коршуна, как сейчас.
– Да Лавровых, – ответил Ульянов. – Раз она Дафна, то Лавров, очевидно, Аполлон.
– Ну уж нет, – улыбнулся Маркевич. – Точно не Аполлон.
– Да уж. Всё?
– Всё, Владимир Ильич.
– Что же, давайте перепишем номера в порядке возрастания. Всё равно мы пока ни черта не понимаем.
– Пожалуй, – сказал Маркевич. – Вот они.
3. «Венецианский купец».
7. «Аполлон и Дафна».
9. «Персы» Эсхила.
13. Голубь с оливковой ветвью (рисунок).
15. Неопознанная сатира про императора.
17. Венок (рисунок).
31. Similis simili gaudet
49. a2 – b2 = (a + b)(a – b)
55. Гёте.
61. Откр. 18:8 (в картуше).
63. «Аида» (ноты).
65. Тринитротолуол (формула).
87. Гегель.
93. Колесо в языках пламени (рисунок).
127. «Перикл».
257. Иез. 28:8 (в картуше).
Ульянов вновь плюхнулся на кровать рядом с Маркевичем.
– Ну и что вы можете об этом сказать, Степан Сергеевич?
– Два Шекспира, один греческий классик и один, очевидно, римский, две цитаты из Библии, два великих немца, три рисунка, две формулы и одна нотная фраза.
– Спасибо, это гениально, – съязвил Ульянов. – Меня почему-то более занимают числа. Не могу сказать, почему именно.
– Да, – согласился Маркевич, – мне тоже кажется, что выбор цитат и прочего более или менее случаен, а вот номера – нет.
– Ну и что мы можем сказать по поводу чисел?
– Ну они все нечётные как минимум.
– Я тоже обратил на это внимание, – кивнул Ульянов. – А ещё?
Маркевич пожал плечами.
– Два трёхзначных, три однозначных, остальные двузначные. Пять заканчиваются на семёрку и три на тройку – включая цифры «семь» и «три», разумеется. Да нет, всё равно бессмыслица.
– Однако что-то они, несомненно, значат, – сказал Ульянов. – Тут какой-то ряд, думаю. Осмысленный, математический ряд. Какие ряды вы помните, Маркевич?
Маркевич растерянно улыбнулся.
– Увы, – сказал Ульянов. – Я тоже.
– Нет-нет, вы меня не поняли, Владимир Ильич. Я всё-таки два года проучился на физико-математическом факультете прежде чем перейти на историко-филологический. И я поражён тем, что вы, юрист, помните такие вещи из математической науки, в то время как я не сразу сообразил, что это наверняка какой-то ряд.
– Ничего особенного я не помню, – сердито отмахнулся Ульянов, – из того, чего не должен помнить всякий образованный человек. Ну, не тяните.
– Простые числа.
– Что?
– Простые числа, Владимир Ильич. Те, которые делятся только на себя и на единицу. Я понял это, когда сказал, что пять чисел заканчиваются на «семь», включая, собственно, семерку.
Ульянов просиял.
– Да вы, батенька, крупный логик. Крупный. Что ж, давайте вычеркнем нумера, к этим числам не относящиеся. Что же мы имеем?
Полминуты спустя Маркевич показал Ульянову листок.
3. «Венецианский купец».
7. Аполлон и Дафна.
13. Голубь с оливковой ветвью.
17. Венок.
31. Similis simili gaudet
61. Откр. 18:8 (в картуше).
127. «Перикл».
257. Иез. 28:8 (в картуше).
Они смотрели на бумагу молча и неотрывно, словно ожидая, что сквозь грубоватое переплетение целлюлозы вдруг проступит какая-то подсказка. И за мгновение до того, как Ульянов, чей лоб опять рассерженно сморщился складками, от бессилия был готов скомкать и отшвырнуть прочь бумажку, Маркевич вдруг громко прошептал:
– Рыбак. Фишер.
* * *
Из дневника Степана Маркевича
Листок, вклеенный много позже.
Я привык в жизни надеятся более на кропотливую работу разума, чем на озарение. Выспышка самого гениального наития – я сейчас, разумеется, не о себе – слишком ненадежный ориентир, слишком слабая путеводная звезда, чтобы всерьёз на нее надеятся. Но дважды в жизни именно озарение самым блистательным образом продемонстрировало одновременно все достоинства и недостатки моего ума. Второй раз – в 1938 году, в Турции, в Хопе, когда казавшаяся безвыходной ситуация с переправой самым наилучшим образом разрешилась благодаря одному внезапно вспомнившемуся занимательному факту из жизни местных рыбаков и контрабандистов. Первый – тридцатью годами ранее, в Вер л’Эглиз.
Самое замечательное, что в обоих случаях ни к чему хорошему это озарение не привело…
* * *
– Сколько вас было у Корвина? – спросил Ульянов, когда их первый шок прошёл.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































