Текст книги "Смерть чистого разума"
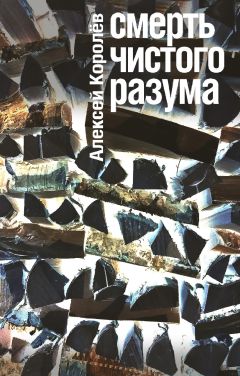
Автор книги: Алексей Королев
Жанр: Исторические детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 34 страниц)
44. Из дневника Степана Маркевича
(осьмушка бумаги, вклеенная много позже)
6 августа 1908 года, несомненно, стал одним из важнейших дней моей жизни – таким же, как 30 марта 1899-го или 14 апреля 1882-го. Впоследствии, много размышляя об этом, я пришёл к выводу о важности немедленной оценки каждого прожитого дня, а не простой фиксации жизненных событий в дневнике. Жизнь моя после 6/VIII. 1908 стала решительно иной, и этот лист бумаги, вырванный из моей записной книжки, сложенный вчетверо и запечатанный, за неимением ни печати, ни даже перстня простым приложением часового ключика – лист, к огромному сожалению, давно утерянный, – суть одна из драгоценнейших реликвий, которая, как всякая настоящая реликвия, имеет не только религиозную, но и сугубо практическую ценность.
45. He привязывайся к праху
– Вы порядочно нас всех напугали, – сказал доктор Веледницкий, пряча фонендоскоп в карман халата, – можете одеваться. Чёрт знает что – за последние дни мне пришлось побывать и хирургом и терапевтом. Да-с. Divinum opus sedare dolorem. Слава науке, я не всё совершенно забыл. Лёгкие у вас чистые. Но жар был образцовый, выдающийся просто-таки жар. Я никогда не видел, чтобы лихорадка так быстро исчезала.
– Со мной такое бывает, – сказал Маркевич. – Более двух дней не хвораю практически никогда, даже если кажется, что вот-вот помру.
– Замечательное свойство организма, скажу я вам, замечательное. Ну-с, вернёмся к моей, так сказать, основной специальности. Как наши мурашки? Не возвращаются?
– Нет, благодарю вас. Но рыбий жир, признаться, мне здорово надоел, Антонин Васильевич.
– Придётся закончить курс, милейший, придётся. И потом, должен же я куда девать мои запасы рыбьего жира, – Веледницкий рассыпался мелким смехом, почвокивающим, словно горсть медяков рассыпалась по паркету.
– А у вас его много?
– Порядочно, Степан Сергеевич. Я одно время пользовал им, в числе прочих препаратов, Льва Корнильевича. Ну и сделал изрядный запас. Оптом-то дешевле выходит.
Маркевич застегнул последнюю верхнюю пуговичку на рубашке и взялся за галстук. Надеть пиджак ему любезно помог Веледницкий, после чего жестом вновь предложил своему пациенту присесть.
– Курите. Не желаете? Что ж, а я закурю. Кстати, вы курите в нумере?
– Раз или два, Антонин Васильевич. Курил бы исключительно на террасе, да сами видите, какая погода.
– Да, который год здесь, не упомню такого скверного лета. Да, так вот рыбий жир. Сейчас это, вероятно, несколько комично уже звучит… учитывая обстоятельства. Сколь я понимаю, верная немка передала вам все новости?
– Так и есть, – ответил Маркевич. – Признаться, они меня порадовали. Никак не мог поверить, что это Тер.
Веледницкий кивнул:
– Мне тоже казалось это невероятным. Хотя именно мы с Николаем Ивановичем, выходит, и предоставили полиции улику, позволившую ей заподозрить Александра Ивановича.
– Ну теперь уже очевидно, что это была или случайность – в конце концов, для убийцы стрелять в спину это естественно, а куда именно в спину попала пуля, – дело десятое. Либо тщательно продуманная уловка.
– Фишер не похож на мастера подобных уловок.
– Я уж теперь и подозревать кого-то побаиваюсь, Антонин Васильевич. Хотя бегство…
Веледницкий снова кивнул:
– Так или иначе, бедолагу поймают. Швейцария только неопытному глазу кажется страной наивных и безразличных ко всему людей. Полиция в целом работает здесь превосходно, уж поверьте мне. Да вот, что далеко ходить: не далее как вчера вечером я между делом спросил инспектора, можно ли получить сведения, касающиеся первого пребывания Льва Корнильевича в Швейцарии, – а это, между прочим, одна тысяча восемьсот семьдесят второй год, почти сорок лет назад! И что же? Оказывается, преотлично можно, нужно лишь сделать запрос в центральный полицейский архив в Берне. Главное, не забыть вложить в письмо конверт с обратным адресом и наклеенной маркой.
– А для чего вам эти сведения, Антонин Васильевич? – спросил Маркевич.
Веледницкий затушил папиросу и потянулся было за второй, но остановился на полпути и вместо этого принялся ожесточённо и смешно почёсывать себе переносицу. Потом встал и зачем-то подошёл к двери кабинета и запер её. Маркевич воззрился на него с неподдельным изумлением, но Веледницкий не обратил на этот взгляд ни малейшего внимания. Он подошёл к окну и выглянул, точно чтобы убедиться, что там никого нет – за окном, впрочем, уже почти совсем стемнело, – и только после этого вернулся в своё кресло.
– Архив покойного Льва Корнильевича, Степан Сергеевич, как вы понимаете, представляет собой огромную ценность.
– Не сомневаюсь. Кстати, душеприказчик вы?
– Разумеется. Более того. Некоторым образом я принялся за дело душеприказчика ещё при жизни покойного – вы поймёте, что я имею в виду. Архив Корвина очень велик и находится в совершенно расстроенном виде. Он даже не весь здесь – кое-что хранится в Париже и Лондоне. Но некоторые папки я уже разобрал. Там есть действительно ценные вещи, например, переписка с Бакуниным и Сен-Жаком или дневник, который Лев Корнильевич вёл в Суэце в 1869 году. Наброски «Диалогов», правда, только отдельными частями. Никогда не публиковавшийся биографический очерк о Скандербеге. Всё это имеет огромную ценность – и всё же всё это совершеннейшие пустяки по сравнению с вот этим.
Веледницкий перегнулся через стол и из огромной кипы бумаг точным и быстрым движением вырвал пачку листов, нетуго перевязанных простой бечёвкой.
– То, что я вам сейчас покажу, Степан Сергеевич, очень важно, поверьте. Эту рукопись ещё не видел ни один человек на Земле. Это вторая часть «Геркулины».
«Виссарионов на занятиях в студии постоянно ругал меня за то, что я медленно мимирую. И всё время требовал, чтобы я расслаблял мышцы щёк – в них, мол, всё и дело. Двадцать минут назад в комнате Ленина мне удалось справиться гораздо лучше. И даже находчиво предложить часовой ключик в качестве печати. А вот сейчас не успел, отыграл плохо, неуверенно – и Веледницкий уже пять секунд смотрит на меня с неподдельным изумлением. Знал бы он, что у меня в потайном кармане пиджака, который он только что любезно помог мне надеть… Вот Лавров вчера к моему невежеству отнёсся спокойнее. А если я скажу Веледницкому, что “Геркулину” я читал ещё гимназистом, да к тому же основательно забыл – он решит, что я рисуюсь. А уж если передам, что мой учитель убедил меня, что у подлинного мыслителя следует изучать только работы теоретические, а ежели он ещё и романы пишет – то это от неуверенности в себе… Тут уж доктор просто не поверит. Ведь не может же культурный человек не поддержать разговор на общую тему с другим культурным человеком. Бедный Веледницкий. Выдыхай, Степан Сергеевич».
– Это невероятно, Антонин Васильевич.
– И тем не менее это так. Лев Корнильевич начал работу над рукописью около семи лет назад в Париже. Сюда он привёз почти готовый черновик и несколько месяцев возился, отделывая его. И, наконец, начисто переписал. Я, разумеется, ничего об этом не знал – до начала прошлого года. Мы сидели около камина и Корвин вдруг сказал, что ему зябко. Я удивился: в Ротонде было отлично натоплено, я сидел в одном жилете. «Надо бы прибавить», – сказал Корвин и достал из-под стола довольно толстую папку. «Что это?» – спросил я. «А-а, теперь уже всего лишь растопка». Но я успел перехватить его руку – мы с Николаем Ивановичем давно договорились, что будем препятствовать, сколь в наших силах, попыткам Корвина уничтожить любую часть своих архивов, к чему он периодически проявляет склонность, честно признаюсь. «Что это?» – повторил я, а Корвин лишь махнул рукой и отвернулся. Он был уже очень, очень плох. Этот взмах руки я принял за разрешение развязать папку, что я и не преминул сделать. Можете представить себе моё изумление, когда я прочёл на титульном листе «Геркулина. Том II»?
«Роман переведён на одиннадцать, кажется, языков, включая норвежский и турецкий и принёс Корвину, как говорят, около ста пятидесяти тысяч золотом. Двести четырнадцать представлений в Олдвиче. В прошлом году вышла фильма. Да, пожалуй, великий безумец не был так уж и безумен, раз решил состричь купоны дважды».
– Вы позволите мне прочесть?
– Только одну главу. Скажем… ммм… вторую. И, разумеется, вы сохраните это в тайне. Так сказать, sub rosa.
– Разумеется. Завтра утром верну. Неужели даже Николай Иванович ничего не знает?
– Ни одна живая душа.
* * *
«Марк ничего не ответил.
Охвативший его в первую секунду ужас быстро сменился изумлением. Итак, ничего не произошло. Маховик Хронотопа не сработал, он по-прежнему в Мире Рассвета. То, что сперва казалось долгим сном, а потом – осязаемым кошмаром, оказалось обыкновенным чудом обращения в другую, быть может, лучшую жизнь. Новый мир не хотел отпускать Марка, а как знать – возможно, и сам Марк уже того не хотел.
– Марк, Марк! Разве ты забыл, что послезавтра – День Времени?! – сказала Нейф. – День величайшего из наших торжеств, праздник единства и свободы. Вся Геркулина, весь Мир будет веселиться. Реки будут говорить, а камни – смеяться, и леса танцовать. Как ты мог покинуть нас в канун Дня Времени?
Она вновь стояла в дверях, в сопровождении тех же незнакомцев, прежняя, стройная и темноволосая, без единой седой пряди, словно и не было час назад этих ужасных мгновений внутри Маховика. Час? А может, вечность? Нейф смеялась одними глазами, глядя на Марка, прежняя Нейф.
– Кто твои новые друзья? – спросил Марк. – Они выглядят старше, чем те, которых я видел раньше.
– О, они так же молоды, просто они с южных границ, поэтому их кожа потемнела до срока, а волосы выгорели. Знакомься, Марк. Это Зей Болл, он любит рисовать на магнитоскопе. Это Пел Зогг, никто лучше него не ловит голыми руками форель в ручьях, он два раза побеждал на состязаниях. Это Самм Сари, она командовала полусотней воздушной стражи и самолично сбила пять пифагорийских мехаптиц.
Новые друзья Нейф с улыбками приветствовали Марка, а он постарался поздороваться с ними как можно сердечнее – сейчас, когда никто, даже Нейф, ничего не помнит и не понимает, ему нужно выгадать немного времени. Немного времени в канун Дня Времени.
Они вышли на поляну. День клонился к закату, где-то вдали разводили открытый очаг, Марк понял, что наступает время вечерней трапезы. Пел Зогг предложил пока сыграть в сферы или в чёт-нечет, но Марк вежливо отказался. Он почувствовал себя смертельно уставшим, и Нейф поняла это. Её мехаптица была неподалёку, всего в нескольких десятков шагов за рощей. Новые друзья Нейф не препятствовали им. Они остались на поляне в ожидании пока позовут к столу.
* * *
Марк и Нейф стояли на берегу, на прохладных, ещё не согретых солнцем камнях. Они спустились прямо из нового дома Нейф – одноэтажного, но просторного, крытого той же странной “черепицей”, что и крылья мехаптиц и занимавшего всю расселину между двумя скалами.
У ног их лежало озеро, чистое и спокойное. Никого не было вокруг, куда ни кинь взгляда. На противоположном берегу озера была обсерватория и какая-то автофабрика, но сегодня, в канун праздника, не было видно ни единого человека.
С гор подул свежий ветер и охладил разгорячённые сном тела Марка и Нейф. Нейф раскинула руки и подставила свою грудь под это легкое дуновение, любуясь восходящим солнцем, и озером, и собой, и Марком.
– Где бы хотел встретить праздник? – спросила Нейф.
– Мне всё равно. А где это возможно?
Нейф пожала плечами.
– Где угодно. Тебе везде будут рады, ты же знаешь. Можем слетать к Истокам, там всегда собираются лучшие танцоры, ты увидишь, как ночь напролёт будет звучать самая прекрасная в Геркулине музыка. Здесь, недалеко, около Дома Рек, будут пиры, приедут медовары и сыроделы со всей страны, и из Пифагории в первый раз за долгие десятилетия привезут их знаменитую пунцовую рыбу, я её никогда не пробовала, да и никто в Геркулине. Но я бы посоветовала тебе посетить церемонию зажжения Огня Времени в Доме Народа. Там будут только члены Собрания, но тебя, конечно же, допустят, а вместе с тобой, – она улыбнулась, – может быть, допустят и меня.
– Ты никогда не видала эту церемонию? – спросил Марк.
– Нет, отчего же, видала. Когда была ребёнком. Детей туда допускают – если они, конечно, сидят тихо и не шалят.
– Давай отправимся в Дом Народа.
Нейф захлопала в ладоши.
– Как это замечательно, Марк! Ты увидишь новых Архонтов, Ала Гнатта и Валла Седима, которых выбрали на места Скоб Борс и… – она перестала улыбаться и запнулась.
– Что же ты остановилась? – спросил Марк. – Их выбрали на место Скоб Борс и Тара Бата?
– Я не хочу произносить это имя. Имя предателя.
– Предаёт не имя, Нейф, – мягко сказал Марк. – Предаёт человек, состоящий из ошибок и слабостей, заблуждений и пороков.
– Это не слабость, – жёстко ответила она. – Слабость – это когда я отказалась войти за тобой к Далу Мару. Когда решила, что четыре терции не могут противостоять девятнадцати.
– Ну какая же это слабость, – улыбнулся Марк. – Это естественное нежелание женщины рисковать.
– Наши женщины устроены не так, неужели ты этого ещё не понял?!
– Таких женщин как здесь, я не встречал никогда… и не встречу. А ты – лучшая из них.
– Это тоже – слабость, – она опять улыбнулась.
– Нет. Слабость – это испугаться сейчас этой чистой ледяной воды! – и с этими словами Марк бросился в озеро и поплыл широкими саженями, не оглядываясь. Нейф, закусив губу, молча смотрела ему вслед».
46. Из дневника Степана Маркевича
7/VIII.1908
Предрассветные часы – самые продуктивные, даже если спал шесть часов вместо необходимых мне восьми. Сейчас нет ещё и семи часов утра, но я уже успел тихо спуститься вниз (на кухне, впрочем, уже сдержанно гремели), положить рукопись «Геркулины» на столик около кабинета Веледницкого, выкурить папироску на террасе и зашифровать телеграмму для И.И. Интересно, во сколько открывается почта? Не позже девяти, вероятно, так что улизнуть до завтрака не выйдет.
(Письмена Корвина определённо не так просты, как может показаться, – и уж точно не просто бред воспалённого сознания. Во всяком случае, их следует изучить пристально. Неплохо бы их сшить в тетрадку, кстати.)
Десять лет назад, 7/VIII-1898 я записал в дневнике следующее:
«Каникулы заканчиваются. Коли обучение есть тяжёлый труд, как говорил то ли Аристотель, то ли Демокрит, то и отдых от этого труда мог бы быть и подлиннее. Впереди – два специальных класса и, как говорит Александрин, о будущем нужно задумываться уже сейчас. С ней, конечно, о таких вещах разговаривать немыслимо – что из того, что её муж был флигель-адъютантом? Она видит меня как минимум в Николаевском кавалерийском, словно забывая, как я ненавижу ездить верхом. Но самому мне никакие определённые мысли в голову не приходят. Разумеется, я всё ещё хочу быть военным. Служба даёт уверенность в себе и самодисциплину, то есть те качества, которыми я по природе обделён. А что до войны, то её нет уже двадцать лет и, очевидно, не предвидится: простое ношение же формы и погон никакой Толстой осудить не может. (NB: сделать ещё одну попытку повидаться с гр.)
Конечно, кавалерия это немыслимо. А-н видит меня в гусарском ментике, который будет напоминать ей о муже, но содержать-то меня она не станет. А сколько стоит служить в гусарском полку, даже пусть и не гвардейском – это нам превосходно известно. Да и о дисциплине там говорить просто смешно. Кроме того, кавалерии в наступающем столетии не будет – тут нет никаких сомнений: механическая техника будет пожирать лошадей как овёс.
Мои успехи в математике и (отчасти) в астрономии дают мне некоторый повод рассчитывать если не на Николаевское инженерное, то уж на Михайловское артиллерийское. Но артиллеристом мне быть уже не хочется, да и хотелось, признаться, исключительно из любви к Толстому. В инженеры же ужасно охота, да вот только хватит ли баллов? Есть ещё военно-топографическое училище, но как уверяет Мика, там заправляют содомиты (можно ли ему верить в этом?)
Как просто в этом смысле моим товарищам! Ромео – природный казак, его место как раз в кавалерии. Мика мечтает о военно-юридической академии, да только до неё придётся прослужить как-то три года; впрочем, Мике никакое училище нипочём. Коля Зосимов, как мы теперь знаем, и вовсе хочет по статской части. Остальные – исправная пехтура, разве что Кулаковский, Бахтеяров и Далмат немного поднимают головы выше строя.
Запишу, как обычно, некоторые их характеристики, чтобы через год свериться.
Ромео (простите, Роман Николаевич) всё так же дерзок, снисходителен и по-своему добр, хотя люди, не могущие прокрутить «солнце», всё ещё кажутся ему недочеловеками вроде готтентотов. В конце экзаменов уверял, что этим летом непременно должен познать плотскую любовь, но тут я согласен с Микой – человек предполагает, а Эрот располагает. Веселье, во всяком случае, обеспечено.
Мика по-прежнему то зол, то добр, сильно вытянулся и на мой взгляд, подурнел, по коже пошли угри – верный признак несчастной любви.
Зосимов невообразимо уныл, так же как в первый день нашего знакомства. Письмо из своего заштатного Успенска способен читать неделями. Зато он вёрстами цитирует Овидия в оригинале. Кроме того у него пробиваются усы и, вероятно, осенью он будет в этом отношении первым человеком в роте. Как бы ещё объяснить ему, что у него пахнет изо рта?
Бахтеяров, наконец, вспомнил, что он князь.
Далмат, потеряв отца, внезапно воспылал любовью к «родине предков», на которой никогда не бывал ни сам, ни кто бы то ни было из его родни. В голове одни Обреновичи, Карагеоргиевичи и прочее Косово поле. Не удивлюсь, если по выходе из корпуса отправится не в нашу армию, а в сербскую. Интересно, возможен ли для военного такой переход в иностранное подданство, пусть и дружественной нам державы?
Кулаковский так много говорил о своём вот-вот переводе в Пажеский, что у него будет очень плохой год. Это приятно[28]28
Близкое будущее своих одноклассников я угадал довольно точно, а вот дальнейшая их судьба была для меня невообразима ни в 1898, ни в 1908 годах. Многого сказать не имею возможности (то есть попросту боюсь), отмечу лишь, что по моим сведениям, Шалимов и Зосимов погибли в один и тот же день в одном и том же месте и, вероятно, от руки одного и того же человека.
[Закрыть].
Некоторые итоги лета (ничего, что до 1 сентября ещё три недели: раз я уезжаю, то лето можно считать делом конченым). С мая вырос на полвершка. Впервые испытал добровольное извержение семени (понравилось). Пробовал курить (понравилось) и ездить на велосипеде (не понравилось). Прочёл: “Что такое искусство?”, “Мужиков», “Нана”, “Жерминаль”, “Флаг родины», “Подвиги Жерара”.
P.S. Прошло уже девятнадцать часов как я опустил прокламацию в почтовый ящик Б-вых. Её я не видел, с ним успел столкнуться дважды – на лестнице и в мелочной лавке. Вежливо кивает, ничего не говорит. Неужели не прочёл? Или может быть – о небо – ОНА»?
47. Это уходит вместе с ним
В качестве наблюдательного пункта Маркевич выбрал кресло в передней – оказавшееся единственным, ибо второе красовалось перевёрнутым на террасе под внезапно выглянувшим тусклым, как полуимпериал, солнцем; неутомимая мадам успевала и провожать гостей, и приводить в порядок мебель. В этом ей помогал – впрочем, по обыкновению, скорее путаясь под ногами, – Николай Иванович, без конца бормотавший себе под нос что-то вроде «Как намусорено-то, как намусорено» и пытавшийся орудовать перьевым султаном с грацией годовалого карапуза. Маркевич рассеянно листал свою записную книжку с карандашиком в руке, время от времени оглядывая диспозицию поверх очков.
Доктор Веледницкий, появившийся в дверях, некоторое время наблюдал за этой суетой, а затем обратился к Маркевичу, точно они расстались в кабинете час назад:
– Что же, понравилось вам?
– Весьма, – ответил Маркевич[29]29
Убеждён, что если бы вторая часть «Геркулины» была бы опубликована, то она имела бы успех даже больший, чем первая, перегруженная малоинтересными обывателю рассуждениями. Здесь же были и приключения, и мистика, и эротизм.
[Закрыть]. – Как говорится, проглотил. Дадите ещё главу-другую?
– Непременно. Но не сейчас. Понимаете меня?
– Понимаю и принимаю, Антонин Васильевич. Что же, все разъезжаются?
– Кажется, да. Луиза уже два раза прибегала за бечевой и уточнить мои каракули в рецептах. У Лавровых в комнате такой грохот, словно они собрались прихватить с собой мою мебель, а Алексей Исаевич ещё ни разу за утро не вышел подышать сюда, как мы и наблюдаем. Ну вот вы с Владимиром Ильичом остаётесь, не так ли? Это очень хорошо. Вы не видели его, кстати? Он к завтраку так и не спустился. Это просто горе какое-то, а не постоялец, – Веледницкий улыбался и было видно, что никакого горя он не испытывает, а ровно напротив – премного доволен, что у него в пансионе живёт такой хулиган.
– Нет, со вчерашнего дня не видал.
– Он уволок отсюда Revue Neurologique, а я должен номер Фромантену, мы с ним вскладчину подписаны. И мадам сказала, что в комнате его нет – я имею в виду журнал.
– Интересно, зачем это ему? – задумчиво сказал Маркевич. – Довольно специальное издание, не так ли?
Веледницкий вместо ответа вышел на террасу, подхватил парное кресло, вернулся, водрузил его на место, то есть напротив Маркевича, и приземлился в зелёный рубчик обивки со всем изяществом, на которое был способен. Быстрым движением пригладил виски, огляделся и только потом сказал:
– Разумеется, основная аудитория журнала – врачи. Лекари нервных болезней, так сказать. Но было бы верхом опрометчивости полагать, что истинно культурному человеку там нечего читать. Вообще, дорогой Степан Сергеевич, психиатрия – соль медицины будущего. А сфера психическая – так сказать, квинтэссенция нашего понимания человеческого.
– Да? – Маркевич даже не пытался скрыть, что думает о другом, но Веледницкий сделал вид, что ничегошеньки не замечает.
– Бесспорно! – отвечал он. – Что важнее человеческого опыта? Да ничего. Только опираясь на свой опыт мы можем навсегда избавиться от идеалистического вздора, при этом не страшась тех областей, в которые классический материализм лезть боится.
– Опыт? – снова переспросил Маркевич. – Да, пожалуй. Вопрос, как вы его понимаете.
– Единственно возможным способом. Как вся наша жизнь есть ежесекундное взаимодействие между индивидуальным и коллективным, общественным, так и опыт бывает индивидуальным и социальным. И если второй тип можно назвать опытом физическим, то первый, внутренний – психическим. Во взаимодействии этих двух опытов и состоит наша жизнь. На исследование социального опыта я не посягаю – то дело философов. А вот индивидуально-организованный, психический опыт – сфера мне доступная. И я по мере сил пытаюсь ею заниматься – пусть и методами прикладными.
– Вы что же, пишете что-то, Антонин Васильевич?
– Есть грех, – улыбнулся Веледницкий. – Littera scripta manet.
– Et semel emissum volat irrevocabile verbum.
– Да полно вам, Степан Сергеевич. Небось посмеиваетесь всем пансионом над моей привычкой к латинизмам, – Веледницкий снова улыбнулся.
– Если только совсем немного, Антонин Васильевич, – к Маркевичу тоже вернулось хорошее настроение.
– Ничего не могу с собой поделать, – Веледницкий развёл руками. – Invia est in medicina via sine lingua latina.
– Не поспоришь. И что, много ли пищи для размышлений касательного этого «психического опыта» даём вам мы, ваши пациенты?
Веледницкий подскочил было, чтобы предотвратить опасное сближение Николая Ивановича с фарфоровой вазой, стоявшей около дивана в гостиной, но убедившись, что старик с султаном изменил свой маршрут и движется скорее в сторону террасы, снова опустился в кресло.
– Немало, – продолжил он. – Внутренний мир человека совершенно здорового и уравновешенного – простите, Степан Сергеевич, – в полной мере открыт лишь для него самого. Но любое, даже самое лёгкое нездоровье приоткрывает эту дверь, отодвигая шпингалет здравого смысла и поворачивая ключ в замке этических или религиозных рамок поведения.
– Лучше всего в таком случае, – заметил Маркевич, – заниматься подобными исследованиями прямо в аду. Вот уже где человек свободен ото всяких норм и условностей.
– Я не верю в ад как врач, – возразил Веледницкий. – Болью управляют наши нервы, а коли нет тела, следовательно, и нервов, я не могу понять, где источник страданий. Но я заболтался, а ведь мне пора. Увидимся позже.
– Куда это вы, Антонин Васильевич? – спросил Маркевич, удивлённый тем, что в столь трогательный час прощания хозяин пансиона норовит исчезнуть.
– В деревню, – махнул рукой Веледницкий. – Мадемуазель должна была убедиться, что на почте заказали шарабан, да забыла, негодная девчонка. Придётся мне сбегать. А то ведь не приведи бог, такой dies irae начнётся…
– Какой шарабан? – спросил Маркевич.
– Да для Анны Аркадьевны. Тот, что при «Берлоге» состоит, успел абонировать Алексей Исаевич каким-то немыслимым образом. А второй – разъезжий, держит тут один, немец, сидит около церкви обычно. Кто успел, того и счастье. А шарабан нужен. Не может же генеральша ехать в дилижансе?
– Действительно, не может, – сказал Маркевич, наблюдая спину быстро удалявшегося доктора.
Лавровы уезжали первыми. Отсутствие Веледницкого, кажется, не сильно их огорчило – во всяком случае, от предложения прервавшего свои танцы с султаном Склярова все же дождаться хозяина Лавров вежливо, но решительно уклонился. Ждать вечернего дилижанса он решительно не намерен, нет. Впрочем, он, разумеется, оставит Антонину Васильевичу записку. К записке Лавров присовокупил том «Тихих заводей» в роскошном тиснёном переплёте и вручил всё это Склярову.
Лаврова спустилась вниз чуть позже мужа и задержалась, едва шевеля губами, около багажа: его оказалось неожиданно много, одних шляпных коробок было штук пять. Этюдник покоился поверх всего, отдельно, и когда мадам начала выносить вещи на крыльцо – «возница ждать не будет пока вы там всё это загрузите, они этого не любят», – Лаврова взяла его в руки, не доверяя.
Лавров помялся с полминуты в дверях, но затем всё же сделал два шага по направлению к Маркевичу; тот встал и на рукопожатие ответил.
– Что ж, Степан Сергеевич. Везут, покряхтывая, дроги мой полинялый балаган… Отчего-то мне кажется, что мы более с вами никогда не увидимся.
– Я тоже так думаю, Борис Георгиевич, – ответил Маркевич. – Впрочем, признаться, и до сих пор наши шансы были невелики: однако ж, познакомились. Так что не зарекайтесь.
– Не буду, – кивнул Лавров. – В конце концов русских людей тянет в одни и те же места[30]30
Вся дальнейшая жизнь Лаврова подтвердила эту нехитрую максиму. Он, разумеется, не принял ни революцию, ни контрреволюцию; вторую, впрочем, более, даром что околачивался какое-то время при колчаковском дворе. Кадры хроники, на которых его, полубольного, встречают летом тридцать восьмого года на Белорусском вокзале Толстой и Ставский, я видел на кинопросмотре в советском посольстве в Париже; столкнись я с Лавровым на улице, не узнал бы ни за что. Сейчас я иногда посещаю его забытую всеми могилу на Введенском кладбище.
[Закрыть]. Послушайте, Маркевич. Помните, что я вам говорил тогда, в вашей комнате? Насчёт второго, парного револьвера? «Бульдога»?
Маркевич кивнул.
– Гостиница, в которой мы жили в Берлине, называлась «Регина». И там действительно изумительный земляничный пирог. Его пекут всего несколько дней в году, сразу после праздника Посвящения Пресвятой Девы, с которого в Германии и начинается сбор земляники… Собственно, в эти дни мы там и останавливались. Скажите, Степан Сергеевич, вы случайно не знаете, какое именно оружие было у Александра Ивановича, когда его, так сказать…
– Не имею ни малейшего представления, Борис Георгиевич.
«Я так наловчился врать за эти несколько дней, что, пожалуй, теперь буду долго отвыкать от этого навыка. Или не буду».
– Я уже готов поверить бог знает во что, – сказал Лавров. – Нет, мы не встречались с господином Тер-Мелкумовым в «Регине»… Вот вам загадка, Степан Сергеевич. Очередная и, уверен, не последняя. Разгадайте её. Ещё раз скажу то, что уже говорил: если кто и докопается здесь до истины, то это вы. Да. Как говорил Торквемада, отправляя на костёр одного из еврейских банкиров Изабеллы Кастильской, никогда не доверяй второму впечатлению о человеке; первому – можно. Не обижайтесь на сравнение.
– Полно, – ответил Маркевич. – Вас тоже раскусить непросто. Придётся взять у доктора «Тихие заводи» почитать.
– Покорнейше прошу простить – всего один экземпляр оставался, – развёл руками Лавров. – Впрочем, я вам вышлю с первой оказией, разумеется. Черкните открытое письмо в Петербург, в издательство Молошниковых, на моё имя. По обратному адресу и отправлю.
– Премного благодарен. Кроме шуток. Я вам не говорил? Питаю постыдную страсть к книгам с авторскими надписями. Да, но что же ваш секретарь?
– Ну, придётся мне теперь искать нового. Да и то, признаться, не сейчас. Жена требует горничную, и я с ней согласен: Романдия одно дело, Ницца – совсем другое. А кормить ораву слуг – как-то не выходит. Вы-то тут надолго?
– Ещё не решил. И курс не пройдён, и рукопись застопорилась, признаться, из-за всех этих потрясений.
– Да-с, потрясения. Это вы, Степан Сергеевич, верно заметили – потрясения.
Лавров помолчал, потом вдруг ещё раз протянул Маркевичу руку и сказал:
– Я не верю в его виновность. Я не испытываю к моему бывшему секретарю никаких тёплых чувств, скорее напротив – не доискивайтесь, почему. Но убийца Корвина? Нет, и ещё раз нет.
Он вышел из пансиона лёгкой походкой бывалого спортсмена – быстро, но вовсе не торопясь. Его жена, не поднимая на Маркевича глаз, последовала за ним. С улицы послышалось сдержанное ржание – это прибыл дилижанс до Эгля.
Знаменитые вуиттоновские чемоданы вниз спустила мадам – причём все в два захода. Сак, впрочем, несла Луиза, которая первым делом отправилась инспектировать крыльцо. Экипажа не было, и компаньонка направилась было наверх предупредить свою хозяйку, но Анна Аркадьевна в эту самую секунду появилась на лестнице собственной персоной. Она едва не столкнулась с Николаем Ивановичем, который, наконец, прекратил свою деятельность в качестве горничной и, водрузив «Тихие заводи» на колонку около дверей кабинета Веледницкого, отправился в сторону Ротонды. Мадам тоже исчезла – в буфетной.
Маркевич встал. Анна Аркадьевна смерила его взглядом, в котором Степан Сергеевич не увидел ничего, кроме того, что показалось ему суровым равнодушием матери к нашкодившему и никак не желающему раскаяться отпрыску. Никакие слова не шли ему в голову, пульс в висках отбивал мучительные секунды, Луиза, вернувшаяся в переднюю, тоже молчала. За дверью скрипнули колеса, и Степан Сергеевич, не таясь, с облегчением выдохнул.
Но это был шарабан для Шубина – с красными ободьями колёс, кое-где облупившейся лакировкой и зелёным почти не потёртым плюшем внутренней обивки; по местным меркам экипаж почти роскошный. Крыши, разумеется, шарабану не полагалось, и Маркевич (вместе с Луизой он вышел поглядеть на крыльцо) машинально возвёл очи горе. Дождь, кажется, не собирался, но до Эгля ещё нужно было доползти, и одному Богу было известно, в каком виде возница и его пассажир окончат свою поездку. Засим Степан Сергеевич снова водворился на террасе.
Возница оказался человеком немолодым, сухопарым и крепким, с густыми усами и недельной щетиной. Ни то ни другое не могло скрыть явного его внешнего сходства с папашей Пуленом, из чего Маркевич сделал (совершенно правильный, как выяснилось пару минут спустя) вывод о том, что коли шарабан состоит при «Берлоге», то править им должен родственник хозяина гостиницы, скажем, брат или кузен.
Алексей Исаевич спустился вслед за своим багажом, влекомым частью возницей, частью – неутомимой мадам, которая вынырнула на пять минут из буфета, а теперь снова исчезла. На владельце «Товарищества русских велосипедных заводов» был совершенно необъятного размера пыльник, в руке – трость; и то и другое Маркевич видел впервые. Шубин поклонился генеральше и Луизе (обе они с крайне недовольным видом обосновались в гостиной, заняв, в том числе, и освобождённое Маркевичем кресло), после чего в течение полуминуты сделал три вещи, которых от него никто уже не ожидал: внезапно изменил траекторию своего движения, пересёк гостиную и вышел на террасу, где притворил за собой стеклянную дверь, закурил сигару и совершенно спокойным образом обратился к Маркевичу:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































