Текст книги "Смерть чистого разума"
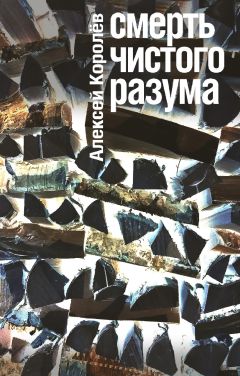
Автор книги: Алексей Королев
Жанр: Исторические детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 34 страниц)
– Я тоже, как вы знаете, не поехал…
– Вы – дело другое. Вам нужно было бежать из-под надзора, выправлять паспорт или добывать поддельный, навлекать неприятности на родных. В то время как уважаемому Антонину Васильевичу довольно было лишь взять билет от Лозанны до Берлина, а оттуда – до Стокгольма. Чего проще!
Они помолчали. Ульянов извлёк из кармана что-то вроде толстой зубочистки со скошенным острием и нимало не смущаясь присутствия собеседника принялся сосредоточенно чистить ногти. Маркевич снова закурил, с сожалением заметив, что коробка почти пуста.
– Без базы, говорите, – задумчиво сказал он. – Мне кажется, в нашем движении – я имею в виду в самом широком смысле – невозможно без базы. Пусть самой завалящей, пусть ошибочной. Революционером становятся от ощущения всеобщей неправды кругом – но это только первый, самый первый шаг. Следующий – читать, учиться, впитывать. Никто этого не может избежать, даже наш доктор, сколько бы раз в день он ни менял галстук.
– Как вы сказали? – хмыкнул Ульянов. – Галстук? Ах да, он и правда избыточно тщательно одевается, на мой взгляд. Но даже это не грех, по сравнению с теоретической беспомощностью.
– Ну какие-то познания у него, безусловно, есть, – заметил Маркевич. – Немножко путаные, конечно. Давеча прямо вот в этом кресле он рассуждал о психическом опыте и его отношении к опыту физическому.
– Что-что? – Ульянов немедленно перестал заниматься своим туалетом и уставился на Маркевича. – О психическом и физическом опыте?
– Совершенно верно.
– И что же именно он говорил?
– Ну, я не особенно запомнил, признаться. По мне, это какие-то сапоги всмятку. Что, дескать, психический опыт суть опыт индивидуально-организованный, а физический – продукт коллективного, социально-организованного начала. И что только в слиянии этих двух опытов и постигается вся полнота жизни.
– Так и сказал? – ошеломлённо спросил Ульянов. – «Полнота жизни состоит в слиянии психического и физического опытов»?
– Ну или в «единстве». Говорю же, я думал о другом и слушал вполуха. Тем более что все эти рассуждения доктора имели, как мне показалось, своей целью в очередной раз показать свою исключительность как врача: дескать, «психическое» это не только про болезни, на этом весь мир держится. А что?
– Ничего, – сказал Ульянов. – Ничего. Разве что сразу видно, что вы маловато читаете.
Маркевич снова обиделся и снова не стал этого скрывать:
– Что же я пропустил из новинок марксистской литературы?
– Неважно, – ответил Ульянов. – Потом, позже. Ваше сообщение очень интересно, Степан Сергеевич, оно характеризует нашего доктора с совершенно неожиданной стороны.
– Вы не подозреваете его ни в чём?
– Вы всё об этом… Нет, Веледницкий, разумеется, не провокатор. – Ульянов всё ещё думал о своём. – Я уже описывал вам примерный портрет человека, которого искал Тер. Напомнить? Нет? Ну согласитесь, что ни под одну характеристику Веледницкий не подходит. Он неплох в партии на своём месте. Был неплох, вернее, коль скоро от активной борьбы отошёл совершенно. Как и вы, батенька.
– Владимир Ильич!
– Шучу, шучу, – он оживился. – Кстати, вы знаете партийный псевдоним Веледницкого? Ну вернее, так-то он «товарищ Ляхов» – довольно прозрачный намёк, коль скоро он откуда-то из западных губерний. Но другой его псевдоним смешной – «Бабка». Да-да, «Бабка». Так он подписался один раз в «Новой жизни», да так и повелось.
– Не знал, что он сочиняет.
– Сочиняет, сочиняет. Более бойко, впрочем, нежели глубоко, но определённый дар есть. Довольно ловко имитирует народный язык эта «Бабка» – было якобы письмо из деревни. Андреева рассказывала мне, что хохотали всей редакцией. А после этого были «письма» от инспектора народных училищ, митрофорного протоиерея, гимназиста старших классов, даже от кулака – и всюду очень точная, хоть и подделанная интонация. Но с мыслями, конечно, победнее. А революционер без мыслей – это полреволюционера.
– А Фишер?
– А что Фишер? Я его не знаю. Видел один раз, за ужином, пока вы хворали. Он за всю трапезу не проронил ни единого слова. В своей партии он даже не на третьих ролях, а я слишком уважаю свой мозг, чтобы забивать его сведениями обо всех эсерах и кадетах, которые существуют на этом свете. Ну ладно, ладно – я слышал о нём немного. Ничего интересного, просто боевик. Правда, в их «Боевой организации» он вроде бы с самых первых дней. И на еврея он что-то не очень похож, разве что темноволос. Но это уж к делу совершенно не относится.
– У него был роман с Лавровой. Был, а может, и есть.
– Что-что? – Ульянов приподнялся на локте, во второй раз за этот день ошарашенно посмотрел на Маркевича, а потом расхохотался, хлопнул себя ладонью по колену. – Роман?! Вы имеете в виду плотское увлечение? Вот у него – с нею? Скажите пожалуйста, чего только в жизни не бывает. А вам это откуда известно?
Маркевич рассказал.
– Мбда, – Ульянов потянулся, с приятным хрустом, но мысль его, вновь ухваченная, казалось, за кончик, вернулась в прежнее направление. – Эсеры всё же поразительный народ. Такой замах был в пятом году, такие амбиции! А чуть прижало – всё. И началось: террор, террор, террор. Я вовсе не против террора, нет. Террор – вполне почтенная форма революционной борьбы. Но – только одна из форм – и не самая важная. Революцию так не делают. А они этого не понимают, заладили как попугаи. Да ещё и деньги готовы брать у кого угодно. Вы читали в «Знамени труда»? Они открыто призывают жертвовать им средства всех – всех, понимаете, до кадетов включительно. Мол, вы же сами и воспользуетесь плодами нашего террора. Нечего сказать, нашли союзничков. А всё почему?
Ульянов поднял вверх указательный палец и выждал паузу, но не дождавшись никакой иной реакции Маркевича, кроме пристального взгляда, продолжил:
– Интеллигенция. Говно. Разложили себя собственной классовой моралью и больше ничего. Так что эта ваша история про Фишера очень хорошо его характеризует. В одной руке револьвер, в другой, извините…
Маркевич заставил себя улыбнуться:
– Мы с вами тоже не из рабочих. Да и вообще – что плохого в союзе пролетариата и людей умственного труда?
– Бросьте вы эту демагогию, Степан Сергеевич. Она с головой выдаёт в вас человека, потерявшего точку опоры. Вы правда не видите разницу между нами, партией рабочего класса, и этим интеллигентским кружком с динамитом и накладными бородами?
– Да отчего же, вижу.
– Недостаточно чётко видите, раз позволяете себе такие рассуждения.
– Возможно. Но я вижу также, что интеллигенция бежит из партии. В то время как союз с интеллигентами уж точно никакого вреда рабочим не принесёт.
– Аполитично рассуждаете! Интеллигенция бежит из партии? Туда и дорога этой сволочи. Партия очищается от мещанского сора, а роль рабочих профессионалов растёт. И это замечательно. Союз рабочих с интеллигенцией, да? Это – неплохо, нет. Скажите интеллигенции, пусть она идёт к нам. Ведь, по-вашему, она искренно служит интересам справедливости? В чём же дело? Пожалуйте к нам: это именно мы взяли на себя колоссальный труд поднять народ на ноги, сказать миру всю правду о жизни, мы указываем народам прямой путь к человеческой жизни, путь из рабства, нищеты, унижения. Что до классового происхождения, то само по себе оно ни о чём не говорит – вспомните Энгельса. Классовое мировоззрение – вот что важно. И каждый порядочный человек может и должен воспитать в себе это мировоззрение. Не имеет значения, кем был его отец. Энгельс тратил свои капиталы на революцию – и даже если бы он не внёс в неё ничего большего, а просто остался бы фабрикантом, жертвующим средства для борьбы, это уже было бы немало.
– Эдак вы и господина Шубина в революционеры запишете.
– Не юродствуйте. Конечно, Шубин – наш классовый враг. Это бесспорно. Да, он много нам помогал – ну точнее, не совсем нам, меньшевикам. Так что братья Викуловы в этом смысле мне симпатичнее, если только может быть симпатична подобная толстопузая мерзость. Буржуйчики! Царствие Небесное всё купить хотят, не у попов, так у нас. Но это всё же меньшая мерзость, чем то, что вытворяют эсеры: покупать – одно дело, а вот пытаться продать свои услуги всякой сволочи вроде кадетов и миллионщиков – совершенно другое. Не удивлюсь, если уже и продают, да с расписками: обещаем, мол, не забыть впоследствии, дорогой товарищ капиталист. Мерзость и ничего больше.
– Ой ли, Владимир Ильич? Перед вашим приездом – я вам не рассказывал, кажется, – случилось у нас тут маленькое чаепитие для своих. И на нём доктор – который вовсе не эсер – довольно-таки здраво рассуждал о пользе, каковую могут принести после революции люди вроде Шубина. И думается мне, он прав – а ведь таких шубиных и викуловых немало, не могут же они быть все неискренними.
– После революции? Что значит «после революции», товарищ Янский? – строго сказал Ульянов, и Маркевич снова растерялся.
– После победы революции, Владимир Ильич, я только это имею в виду.
– И что же наступит после, как вы выразились, «победы революции», по-вашему?
– Порядок, Владимир Ильич. Тот самый справедливый порядок, власть пролетарьята, при которой все ныне угнетённые слои общества обретут своё утерянное веками достоинство, а эксплуатирующий класс – если он, конечно, не перекуётся – исчезнет, словно его и не было никогда.
Ульянов хмыкнул, да так громко, что проезжавший в этот момент мимо пансиона велосипедист – судя по костюму, местный – дёрнул от неожиданности рулём и едва не съехал с дороги в канаву. Ульянов привстал, убедился, что с тем всё в порядке, и только затем продолжил:
– Вам бы, дорогой мой, книжки писать. В ярких обложках. Для детишек, ещё не отягощённых светом просвещения. В качестве, так сказать, предварительного самообразования. Пафос, слог – дети это любят. Ну-ну, что вы всё время дуетесь. Послушайте, Степан Сергеевич, послушайте и зарубите себе на носу: плохо, очень плохо – просто настоящая беда, если люди, желающие быть революционерами, забывают главное. Наиболее нормальным порядком в истории является порядок революции. Победа революции в России не просто не означает её окончания в мировом масштабе – это само самой разумеется, это должно быть понятно даже вам. Нет. Даже победа мировой революции не означает конца революции как таковой. Попробуйте это понять, как бы алогично это не прозвучало. Здравствуйте, Николай Иванович. Вы тоже на чай?
Николай Иванович Скляров выглядел уставшим, точно всё время после разъезда гостей провёл в утомительной горной прогулке. Он и одет был – Маркевич видел его таким впервые – в свитер и башмаки на толстой подошве, а в руках имел палку. Кроме того, Скляров был не один. Инспектор Целебан, наконец, посетил «Новый Эрмитаж» – и по его лицу Маркевич понял, что визит этот доставляет инспектору если не удовольствие, то по меньшей мере любопытство.
Парочка прибыла со стороны Ротонды, а не деревни, но обдумать этот факт Маркевич не успел, как и то, что в руках Целебана был саквояж.
– На чай? – переспросил Скляров. – Рановато для чаю, нет?
Он опустился в кресло и с явным наслаждением выдохнул, нисколько не обращая внимания на то, с каким интересом разглядывают друг друга Ульянов и Целебан. Маркевич поспешил представить нового постояльца и инспектора друг другу.
Скляров, оказывается, действительно гулял. Правда, не в горах («эк хватили, батюшка, какие уж в мои года горы-то»). В компании кюре, давно обещавшего ему такую экскурсию, Николай Иванович дошёл аж до Вилле, где имелась парочка «прелюбопытнейших и совершенно очаровательных» менгиров новокаменного века. На обратном же пути, пролегавшем опять-таки через деревню, Скляров встретил инспектора, который решил заглянуть-таки в «Новый Эрмитаж». Но так как Целебану было совершенно необходимо ещё раз взглянуть на Скамью неподсудных, то они сделали небольшой крюк.
– Менгиры? – спросил Маркевич. – Весьма занимательно. Придётся мне тоже познакомиться с вашим кюре.
– Это совершенно излишне, если только вас не интересуют старинные медали – наш отец Блан до них страшный охотник и способен говорить о своей коллекции сутки напролёт, – отозвался Целебан. – Любой мальчишка за тридцать сантимов отведёт вас к менгирам, да ещё потащит ваш рукзак, коль скоро вам придёт в голову перекусить на пленэре.
Негромко хлопнуло французское окно, из глубины послышались приглушённые голоса хозяек. Пансион, только что казавшийся мёртвым после отъезда гостей, понемногу приходил в себя.
Первым не выдержал, конечно, Маркевич:
– Вас давно не было видно, инспектор. Всё гоняетесь за убийцей?
– И да и нет, господин Маркевич, – ответил Целебан, покосившись на Ульянова. (Маркевич удержал серьёзную мину на лице, но в душе потешался.) – У меня, к сожалению, слишком много начальства и оно, как и всякое начальство, всё просыпается одновременно. Я ездил в Лозанну.
– Бедный Глеб Григорьевич, – вздохнул Скляров.
– Бедный? – переспросил Целебан. – Хотел бы вам напомнить, господин Скляров, что этот бедолага, как вы выразились, подозревается в убийстве.
Старик отмахнулся:
– Не верю я этому. Никогда вы этого не докажете, разве что оговорите нашего брата эмигранта. Впрочем, и не поймаете его никогда.
– В этом вы тоже не правы, господин Скляров, – вежливо сказал Целебан. – Уверяю вас, наша полиция очень хорошо работает, а просторы тут не чета вашим, русским. Поймаем, непременно поймаем.
– А почему вы так уверены в виновности гражданина Фишера? – спросил Ульянов.
– Позвольте мне хранить в тайне профессиональные секреты, – улыбнулся Целебан.
Аккуратное лицо доктора Веледницкого на секунду высунулось из гостиной, быстро оценило увеличившееся количество потенциальных гостей и снова исчезло внутри. Небо снова затянуло, но никто на это уже не обращал внимания.
– Я, кстати, соглашусь с Николаем Ивановичем, – сказал Маркевич. – Вряд ли вы поймаете Фишера. Думаю, его уже нет в Швейцарии.
– Однако вашего друга Тер-Мелкумова мы поймали, – заметил Целебан.
– Тер был ранен, – возразил Маркевич.
– Это частности. Ещё раз скажу, что не намерен выдавать свои секреты. Но что меня поражает, так это ваша русская снисходительность к преступникам, если они придерживаются с вами общих взглядов и вкусов. За симпатией вы не видите личины зла. Даже выложи вам все факты на стол, вы не поверите в виновность человека, если он ваш друг, товарищ или единомышленник или если у вас хотя бы общие враги.
– Вы ошибаетесь, – сказал Маркевич. – Во-первых, русские жалеют не преступников, а осуждённых – а это всё же не одно и то же. Каторжников, ссыльных и прочее. Если вы хоть немного знаете историю России, то согласитесь, что у нас есть некоторые природные основания так полагать: слишком уж часто в нашей стране в тюрьму и на виселицу идут даже не просто хорошие – невиновные люди. Читайте Достоевского. Кстати, несмотря на вашу уверенность, преступником здесь, в Швейцарии, насколько мне известно, человек может быть признан только судом. Так что Фишер никакой не преступник и тем более ещё не каторжник. А во-вторых, вы ошибаетесь в последней вашей максиме – во всяком случае, если имеете в виду именно меня. Я почти убеждён, что вы правы – убийца именно Фишер.
Скляров подскочил, несмотря на недавнюю усталость, Целебан посмотрел на Маркевича как-то по-новому, а Ульянов прищурился. Но никто ничего не сказал – просто не успели, потому что на террасу вышел Веледницкий и преувеличенно торжественным жестом пригласил всех внутрь.
* * *
Они управились довольно быстро: общей беседы не получилось. Веледницкий, хотя и пребывавший в хорошем настроении, явно был больше озабочен свежестью выпечки, которой он потчевал своих гостей, нежели тем, чтобы развлекать их разговорами. Впрочем, он, разумеется, осведомился у Целебана о положении дел и, разумеется, получил тот же вежливый ответ, что и остальные, каковым, казалось, совершенно удовлетворился. У Склярова Веледницкий спросил, не обострилась ли от променада его любимая подагра («ни в коем случае, Антонин Васильевич, скорее наоборот! Я, кажется, начинаю понимать пользу пеших прогулок»), у Ульянова – о стоимости аренды велосипеда (полфранка в день – «двадцать копеек, сущие пустяки»), Маркевича слегка побранил за забытый в прихожей и, соответственно, непринятый порошок. «Вряд ли он слышал, о чём мы говорили на террасе. Разве что мою последнюю фразу. Но мне почему-то кажется, что он со мной согласен. А вот что думает Ильич?»
– Владимир Ильич, – сказал, наконец, доктор, извлекая из-за ворота салфетку, – я получил свежий номер «Голоса социал-демократа». Не желаете?
– Конечно желаю, – оживился Ульянов. – Подайте-ка сюда эту меньшевистскую писанину! Ну и названьице они себе выдумали. Мало того, что «социал-демократа», как будто только они и есть социал-демократы, так ещё и «голос». Сразу видно, что газетёнка про себя и для себя. Сами напишут, сами прочтут, сами умилятся, сами потом подотрутся в отхожем месте. Нет, что хотите – отсутствие вкуса есть первый признак ущербности во всём остальном. То ли дело «Пролетарий» – сразу понятно, и про кого и для кого. И никаких заграничных «голосов».
Маркевич и Целебан (он всё ещё смотрел на Ульянова с нескрываемым интересом, но теперь уже – совершенно без взаимности) решили, что пришло время выкурить по папиросе, Николай же Иванович – он отдал выпечке несколько большую дань, чем обычно, – отдуваясь, растянулся на кушетке.
Веледницкий принёс не только газету, но и дневную почту – порядочную пачку писем и несколько телеграмм. Ульянов ухватил было газету, но даже не успел её раскрыть,
– Поразительно! – воскликнул Веледницкий, рассматривая верхнее письмо в своей пачке. – Просто поразительно! Вы только посмотрите! Это же письмо Льва Корнильевича!
Дело было и впрямь из ряда вон – в чём немедленно убедились все присутствующие, сгрудившись вокруг Веледницкого. Письмо со штампом, указывающим, что адресат выбыл отправлено было в минувшую пятницу. Адресатом значился Dr. Nicolas Oustinov, rue de Alexandre 5, Helsingfors.
– Это ещё кто такой? – спросил Целебан. – Знаете его, доктор?
– Впервые слышу, – пожал плечами Веледницкий. – Вернее, не так. Это письмо я помню. Я сам отправлял его… позвольте, когда? Ну да, в среду, двадцать девятого. Там было ещё одно – в штаб-квартиру Общества анархо-этатистов в Филадельфии. Туда Корвин писал довольно часто. А эта фамилия мне незнакома. Доктор Устинов из Гельсингфорса? Нет, не припоминаю, точно. Но это ни о чём не говорит: круг переписки Корвина складывался десятилетиями, мы просто не можем знать всех его корреспондентов. Так что это письмо…
– Дайте-ка его сюда, – решительно сказал Целебан, и перед его решительностью доктор Веледницкий не устоял.
– Однако же… – робко сказал Скляров, наблюдая, как Целебан прячет письмо в карман. – Однако же письмо Лёвушки – исторический документ. В последнее время он мало писал писем.
– И что с того? – спросил Целебан. – Это, в первую очередь, вещественное доказательство по расследованию, которое я веду. И только потом – исторический или неисторический документ.
– Вы, разумеется, правы, – торопливо сказал Веледницкий. – Но может быть, нам будет позволено взглянуть на письмо? Снять с него копию для архива?
Целебан поколебался с полминуты.
– Хорошо. Читайте. Снимайте. Но оригинал я подошью к делу – а дальнейшую судьбу его будет решать, разумеется, судья.
– Написано левой рукой! – воскликнул Скляров (вскрыть конверт он, конечно, не мог доверить никому другому) и несколько заунывным голосом начал читать.
* * *
Лета Восьмого, 29 июля
Дано в Ротонде
Дорогой профессор!
Хмурая погода, субботний день, глубокое одиночество; самое приятное, что я могу сейчас придумать – это немного рассказать Вам, поговорить с Вами. Только что я обратил внимание, что пишу посиневшими пальцами: мой почерк сможет разобрать лишь тот, кто умеет читать мысли…
Вольтеров Панглосс утверждал, что лучший из миров – тот, в котором мы живём прямо сейчас. Комизм этого шута непритворен, а оттого, как ни странно, претендует на научность. Я стал много думать об этом в последние месяцы. Мысли мои погружены в такие глубины, что мне самому страшно. Я, посвятивший жизнь (а ведь ещё совсем недавно я бы сказал «полжизни», но увы, темнота подступает со всё более и более очевидной ясностью) переустройству мира, отныне удовлетворён окружающей действительностью чуть менее, чем полностью.
Вещи, ещё вчера занимавшие меня – конференции, течения, планы, – всё, всё пустое. И это не вчера началось.
Будем откровенны: к нынешнему «анархизму» я давно отношусь с такой отчуждённостью, что не нахожу никакой возможности слишком уж терпеливо взирать на его отдельные идиосинкразии. К последним я в особенности отношу иллегализм. «Центральному органу» этого движения, бездарнейшей LʼAnarchie, я обязан неоднократными мгновениями искреннего веселья: ох, если б Вы знали, как я смеялся прошлым летом над статьями этого столь же наивного, сколь и самовлюблённого упрямца – Анри Либертада. Меж тем, по слухам, он меня нахваливает на всех углах.
Кстати, вот занятный фактик, который всё чаще доходит до моего сведения. Я, оказывается, имею прямо-таки «влияние», – очень, само собой разумеется, подпольное – и не только на моих старых и преданных сторонников. Оказывается, чуть ли не у всех радикальных партий – от синдикалистов до малатестианцев – я пользуюсь удивительным и в общем-то загадочным авторитетом. Предельная непрозрачность атмосферы, в которую я себя поместил, соблазняет малых сих… Я могу даже злоупотреблять своей прямотой, могу бранить их – и этому огорчаются, твердят, должно быть, «чур меня!», но освободиться от меня никак не могут. В «Международной анархической корреспонденции» (которая рассылается сугубо приватным образом, только «надёжным товарищам по партии») моё имя упоминается почти в каждом номере. Я вошёл в славу даже у поклонников старого Реклю – их возбуждает мой натуризм; они видят в этом «родство душ», хотя мало чьи интерпретации анархических идей меня так потешают, как покойного.
Я получаю уйму писем – половину даже не вскрываю, из второй половины читаю треть, из которой отвечаю на одно-два; разумеется, это не касается денежных переводов в пользу Общества. Должен признаться, впрочем, что в последнее время финансовые дела моих почитателей меня интересуют всё меньше и меньше. Иные времена, иные комнаты. Иные схватки.
Я всегда был человеком чистого разума и чистого духа. Чистый дух означает свободу. Чистый разум означает фокус на поиске истины – каковая, конечно, не может быть отыскана на дне денежного мешка, захваченного во время очередного налёта. Были времена, когда дух во мне побеждал разум – тогда я брался за оружие. Не то ныне. Воля моя, силы мои, даже дух – всё отныне подчинено одному только разуму, одной отныне только борьбе – борьбе за разум.
Даже здесь, в Ротонде, мне уже не хватает сейчас наипервейшего и существеннейшего условия моего бытия – подлинного и полного одиночества, полного отсутствия помех, изоляции, дистанцированности, без которых я не могу углубляться в свои проблемы (поскольку, говоря между нами, я в прямо-таки пугающем смысле – человек глубины, и без этой подземной работы я более не в состоянии выносить жизнь). Мне кажется, что я слишком мягок, слишком доверчив по отношению к людям, и ещё, где бы я ни жил, люди немедленно вовлекают меня в свой круг и свои дела до такой степени, что я в конце концов уже и не знаю, как защититься от них. Впрочем, доброта доктора и предупредительность хозяек поразительны…
Я совершил множество непросительных ошибок, как словом, так и делом, как действием, так и бездействием. Вспоминать иные я могу без содрогания, некоторые – обволакивают мои глазные яблоки влагой. Я никогда не прощу себе нерешительности в Париже и Сухуме, прискорбное пренебрежение кишинёвским погромом, смерть Казагранде…
Дорогой друг! Я сейчас самый благодарный человек на свете и настроен по-осеннему, во всех лучших смыслах этого слова: настала пора моей большой жатвы. Всё мне легко, всё удаётся… Нет более ничего и никакого: мне более неинтересна та пена, накипь, что поднимается и шумит там, у вас, в обыкновенном мире – я говорю обо всех тех, кого обсуждают, о ком говорят, – от Готье и Мерлино до Вандервельде, Ленина и Гюисманса. Пена, пена, просто всплывший бесполезный альбумин. Никого и ничего не нужно – один лишь разум, погружённый в наивысшую форму борьбы: за себя самого.
А ещё в последующие годы может произойти такая чудовищная перемена моей внешней участи, что в зависимости от неё окажется каждый отдельный вопрос в судьбах и жизненных задачах моих друзей, не говоря уж о том, что такое эфемерное здание, как «анархо-этатизм», перед лицом грядущего можно вообще сбросить со счетов.
Ваш друг,
LKD
P.S. «Крылья» вниманием не обходите: это капитальное произведение, с очарованием которого не сравнится ничто – не только в литературе, но и в искусстве вообще.
* * *
– Егундистика, – сказал Ульянов, вставая. – Бред сумасшедшего.
«Ильич аж поперхнулся. Но заметил ли кто-нибудь это кроме меня. Скляров точно нет. Целебан – тем более, фамилия “Ленин” ему ни о чём не говорит. Веледницкий? Возможно. Но Веледницкий всегда загадка»
– Да? А по-моему, очень интересно. Правда, я, признаться, тоже ничего не понял, – сказал инспектор Целебан, вновь пряча листки и конверт в карман. – Говорите, Корвин нечасто в последнее время писал?
– Да как вам сказать, – задумчиво сказал Веледницкий. – Думаю, Николай Иванович сравнивает с прошлым годом. Если рассуждать так, то да, в последнее время нечасто. Но нужно понимать, что в былые годы переписка Льва Корнильевича была сверхобширна. Это могло быть десять, даже пятнадцать писем в день.
– Его письма отправлялись только вами?
– Иногда мною, иногда Николаем Ивановичем, иногда – хозяйками. Именно это, как уже сказал, отправил я. Куда же вы, Владимир Ильич?
– Странный у вас постоялец, – заметил Целебан. – Сперва слушал с огромным вниманием, а теперь подскочил как ужаленный и убежал.
– Ничего странного, – засмеялся Веледницкий. – Кому понравится, когда вас называют «пеной»?
– Что вы имеете в виду? – спросил Целебан.
– Видите ли, господин Целебан…
* * *
– Как-как вы сказали мне в понедельник, доктор? «Зарабатывает статьями в экономических журналах»? Ну и ну.
(Маркевич в первый и последний раз видел, как хохочет инспектор Целебан – и поразился неестественности его смеха, хотя повод посмеяться был, казалось бы, лучше не придумать. Сперва Целебан словно подавился куском матушкиного пирога, и слегка выпучив глаза пару раз икнул. Потом в его горле что-то отчётливо забулькало, а глаза увлажнились. И только потом инспектор раззявил рот и разразился несколькими громкими «ха-ха», одновременно утирая платочком слезы и вытирая пенсне.)
– Ну и ну, – продолжил Целебан, быстро отсмеявшись. Слушайте, а мадам Бушар случайно на самом деле – не русская социал-демократка? А?
Веледницкий обиделся.
– Не вижу ничего смешного, господин инспектор. То, что основные гости моего пансиона – русские, никакой не секрет. То, что среди них немало эмигрантов – тоже невелика тайна. Вовсе не все они – эмигранты политические. И далеко не все политические – социал-демократы.
– Ну будет вам, будет. Я пошутил, – миролюбиво сказал Целебан. – Смотрите, господин Скляров, кажется, задремал. Может быть, не станем его беспокоить и переместимся в ваш кабинет, доктор?
– Прекрасная мысль, – отозвался Веледницкий. – Я вас шартрезом угощу.
Они расселись в креслах – Целебан под портретами Бехтерева, Бэра и Шелиго-Мержеевского, доктор за рабочим столом, Маркевич – напротив, в кресло, предназначенное для пациентов, спиной к камину. От шартреза он отказался, зато получил разрешение закурить.
– Теперь, когда нет, так сказать, посторонних ушей, – начал инспектор, отдав должное содержимому зелёной рюмки, – ни «сочинителей экономических журналов», ни господина Склярова – признаюсь, я не испытываю к нему никаких негативных эмоций, но чувствую себя при нём отчего-то скованно, – так вот, сейчас я могу признаться, что пришёл к вам, доктор, разумеется, не чай пить. И даже не этот замечательный шартрез. Где вы его берёте? Я даже в Эгле не могу найти сносную винную лавку, не говоря об этой своей родной дыре.
– Из Женевы приходится выписывать, – рассеянно сказал Веледницкий. – Магазин мэтра Роше, я дам вам потом списать адрес.
– Благодарю. Итак. Во-первых, благоволите, доктор, получить обратно ваш мушкетон, – с этим словами Целебан наклонился к своему саквояжу, расстегнул его и извлёк оттуда ружьё. – Так-то я, разумеется, теряюсь в догадках, зачем он вам нужен в Швейцарии, впрочем, это, разумеется, не противозаконно. Но сейчас, когда вокруг, возможно, бродит убийца… У вас две женщины в доме всё-таки.
Веледницкий склонил голову в знак благодарности.
– Это называется лупара, инспектор. Оружие сицилийских пастухов. И это подарок. Я из него даже не стрелял ни разу.
– Да, я осмотрел. Ствол действительно или не был в употреблении или идеально вычищен. Ну да это неважно. Ясно, что не оно было орудием убийства.
– А что с револьвером господина Лаврова, если не секрет? – спросил Веледницкий. – Как я понял, он уехал, так и не поинтересовавшись судьбой своего оружия. Вещь, меж тем, недешёвая.
– Ну, вероятно, он посчитал, что револьвер изъят как вещественное доказательство и он не имеет права требовать его назад, – сказал Маркевич, думая, однако, совершенно о другом объяснении.
– Надо бы вернуть, – заметил Веледницкий.
– Вернём, непременно вернём, – сказал Целебан.
Веледницкий поднялся, аккуратно водворил лупару на её место в небольших аккуратных козлах на каминную полку и, протискиваясь обратно на своё место между Маркевичем и стеной, задел локтем одну из висевших на стене групповых фотографий. Она с грохотом упала на пол, но стекло не разбилось. Маркевич вскочил и принялся помогать Веледницкому прилаживать фото на место.
– «Юбилейное заседание по случаю 80-летия “Военно-медицинского журнала”», – прочёл Маркевич, передавая фотографию доктору.
– Да. Признаться, чувствовал себя там весьма неловко. Молодой в сущности врач, без имени – рядом с Таубером, Рапчевским, Шершевским!
– А эти? – Маркевич указал на две другие фотографии на стене.
– О, – засмеялся Веледницкий, – здесь я как раз в своей тарелке! Вот тут – с другими ординаторами профессора Блейлера, а тут – с ним самим и другими врачами клиники Бургхолцли. Люблю, признаться, групповые снимки – на них не так заметна заурядность моей физиономии.
– Кстати, – начал было Маркевич, но закончить не успел.
– Господа, – сказал инспектор Целебан, – покорнейше прошу меня простить, но у меня не очень много времени.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































