Текст книги "Смерть чистого разума"
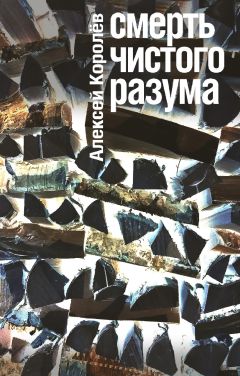
Автор книги: Алексей Королев
Жанр: Исторические детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 32 (всего у книги 34 страниц)
– Любопытно, – сказал Целебан.
– Как рассказал мне Лавров, «веблей-фосбери» в таком подарочном исполнении всегда идёт в паре с таким же красивым «бульдогом». Этот набор Лаврову преподнесло правление Московского общества практической стрельбы, каковое общество – а равно и правление – господин модный литератор почтил своим членством. «Веблей» он отдал вам, а вот «бульдог»…
– …Теру, – сказал Целебан.
– Я сам так некоторое время думал, – кивнул Маркевич. – Вернее, полагал, что Тер этот «бульдог» позаимствовал. Но вчера, увидев в руках Фишера такой же револьвер…
– Таких совпадений не бывает, – отрезал Целебан.
– Ещё как бывает. Сегодня под утро я вдруг понял, что означают номера стихов из Библии на стене Ротонды – это даты, как вам уже рассказал Владимир Ильич. Но точно таким же – весьма нехитрым, в общем, – образом была зашифрована и дата на рукоятке «веблея» и «бульдога». Три V или, если угодно, три латинские пятёрки – это пятое мая тысяча девятьсот пятого года. Именно в этот день Московское общество практической стрельбы праздновало свою пятую же годовщину – и вручило членам своего правления подарочные наборы, где три пятёрки как бы образовывали одну. А пару лет спустя подарило такой же и Лаврову.
– Вы хотите сказать, что доктор Веледницкий тоже состоял в этом обществе?
– Убеждён в этом. Но по каким-то причинам выбыл из его состава между девятьсот пятым годом, когда праздновалось пятилетие этого почтенного собрания, и девятьсот седьмым, когда в общество вступил Лавров. Иначе они бы знали друг друга – и о обоюдном членстве в том числе. Проверить всё это будет вовсе не трудно, но я знаю, что не ошибаюсь. Когда вчера мы втроём пили шартрез – вернее, пили вы вдвоём, доктор уронил одну из групповых фотографий. Помните?
Целебан кивнул.
– Так вот, вчера на стене было три фотографии. А вот в прошлую субботу, когда я приехал – четыре. Я сверился со своими дневником, куда внёс описание кабинета доктора. Там у меня записано «какой-то стрелковый кружок». Я не вчитывался внимательно в текст на фото, просто зафиксировал впечатление. Но, повторю, вы без труда убедитесь, что я прав, просто запросив Петербург.
Итак, у доктора Веледницкого, помимо лупары, было два револьвера. Конечно, Корвина застрелили из «веблея», но просто выбросить такой револьвер, даже в пропасть под Ротондой – чистое безумие, слишком приметная вещь. Думаю, инспектор, вам стоит обратить внимание на расселины между Ротондой и тем местом, где проходила первая тренировка Тера. Думаю, Фишер вам укажет это место. Чем уже и глубже такая расселина будет, чем больше вероятности, что на дне её будет лежать «веблей». Правда, далеко не факт, что вы его сумеете достать…
Увидев, как Лавров отдаёт вам только один «веблей», без «бульдога», Антонина Васильевича, думаю, ожгли две мысли. Во-первых, он понял, что ему придётся избавляться и от своего «бульдога» тоже. А во-вторых, что Лавровы что-то скрывают. Вернувшись из полиции, куда вы, инспектор, одновременно так мудро и так глупо его упрятали, доктор узнал, что Тер сломал ногу. А когда доктор осмотрел его, в его голове родился ещё один гениальный план.
«Впервые в жизни я говорю, не переставая размышлять о чём-то другом. Вернее, не совсем другом, конечно. Веледницкий сейчас изучает свои ногти. В копеечной книжке “Как читать человека по его жестам”, в то первое киевское лето я прочёл, что публичная холя ногтей есть первый признак растерянности. Относится ли разглядывание к холе? Шарлемань стоя едва возвышается над головой сидящего Веледницкого, но тот знает, что ему не вырваться. Уже не вырваться».
– Я не знаю, как Веледницкий понял, что Тер симулирует. И, кстати, до сих пор точно не знаю, зачем эта симуляция нужна была Теру. Может, чтобы иметь возможность беспрепятственно находиться внутри пансиона, когда все остальные гуляют или дышат воздухом на террасе. Впрочем, это уже не важно. Я ломал голову, как Тер узнал о почтовой карете – ведь этот экс точно не входил в его планы. Подсказку дал Фишер. Он процитировал Тера и его армянскую пословицу про коновала – армянскую ли, да и настоящую ли, Бог весть. И что, мол, и от коновала бывает польза. Вы уж извините его, Антонин Васильевич, за такое определение. Одно дело ветеринар, как вы сами когда-то аттестовались, и другое – коновал. Расчёт доктора был почти идеальным. Отправив Тера на экс и снабдив его револьвером, он в любом случае решал проблему этого несчастного «бульдога». Получится у Тера взять карету – он будет бежать, и как можно дальше. Не выйдет – Тера вряд ли возьмут живым. Ну а даже если возьмут, он будет обо всём молчать, ибо в противном случае выйдет так, что из-за своей сиюминутной прихоти он поставит под удар надёжное и безопасное убежище – пансион «Новый Эрмитаж». Я угадал, Антонин Васильевич? Ну, молчите, коли угодно.
– Думаю, я знаю, как доктор раскусил симуляцию, – отозвался Целебан. – В юности господин Веледницкий не поступил в Военно-медицинскую академию. Ясно как день, что человек, готовящийся в такое учебное заведение, не может не знать основы хирургии.
Маркевич кивнул.
– Когда привезли Тера, то «бульдог» увидели только Веледницкий, вы, инспектор, и я. Вас он не опасался, а вот я мог, чего доброго проболтаться. Пришлось импровизировать. Случайно брошенная доктором фраза о гостинице, в которой Тер якобы жил в Берлине, – гостинице, в которой останавливались и Лавровы, да ещё в то же самое время, – была вовсе не случайной. И рассчитана не столько на Лаврова, сколько на меня. Наш доктор уже строил свою шахматную задачу. Версия эта совершенно устроила Лаврова, но не очень устроила меня, ибо я точно знал, где жил Тер в Берлине. Не в гостинице, нет – на частной квартире. Правда, тогда я не обратил на это особого внимания, решив, что Тер просто дурачит доктора по каким-то своим конспиративным соображениям… Ну а «бульдог» в руке Фишера сперва навёл меня на мысль, что он получил его от Таланова. Представить пару таких револьверов в арсенале великого князя и его так называемого адъютанта было легче лёгкого. В действительности же, разумеется, это был «бульдог» Лаврова, который Фишер позаимствовал у своего хозяина или – что ещё более вероятно – который был подарен ему госпожой Лавровой.
– Благодарю вас, Степан Сергеевич, – Ульянов закончил расправу над третьей чашкой воды из кувшина, который он сам же принёс из буфетной. – Вы прекрасно излагаете, коротко и ясно. Что-то ещё, господин Целебан?
– Почему никто не слышал выстрела? Тер и Фишер отошли совсем недалеко от Ротонды.
– Разумеется, потому что стреляли через некий предмет, заглушающий звук.
– И что же это?
– Тут я вынужден сделать ещё одну – клянусь, инспектор, самую распоследнюю и маленькую – остановку. Преступление это, как я уже сказал, было тщательно и хорошо обдумано. И всё же я не мог отделаться от ощущения какой-то его… спонтанности, что ли.
Почему именно в этот день? Конечно, наличием в доме сразу двух прекрасных кандидатов в убийцы – Тера и Фишера – следовало воспользоваться. Но почему именно тогда? Ведь оставалось ещё то самое алиби, которое убийце следовало себе обеспечить. И тут я вспомнил историю про бесцеремонность мадам, которая вмешалась в ваш ужин и рассказала, как напугана её дочь запахами, исходящими от Корвина, – а главное, его внешностью. Думаю, доктор сообразил то, до чего догадался и я: мадемуазель не заходит внутрь Ротонды. И тем самым обеспечит доктору прекрасное алиби.
– Очень рискованно, – заметил Целебан. – А если бы именно в этот день мадемуазель преодолела свой страх и вошла?
– Очень, – согласился Ульянов. – Но любое умышленное убийство – риск.
– Сначала я решил, что доктор стрелял через подушку – ту самую, которую он брал с собой на тренировку Тера, – продолжил Ульянов. – Правда, о подушке доктор упомянул сам, ещё в первом разговоре с вами, Маркевич. Это, конечно, немного нелогичное поведение для убийцы. Ну а потом я нашёл способ её заполучить и осмотреть. Она действительно имеет съёмный чехол, но сама основа была совершенно цела. Но я уже понимал, что не просто нахожусь на правильном пути, нет – я почти у входа. Вчера утром я хотел зайти в Ротонду, но там постоянно крутились вы, дражайший Николай Иванович. Так что мне оставалось издали глядеть на окна, выходившие вовнутрь, как я знал, на антресоли. И тут в одну секунду я понял всё. Что убийца мог делать с Корвином на антресолях? Какую единственную цель они могли там преследовать, – ну кроме убийства, разумеется?
– Очевидно, книги, – сказал Целебан.
– Именно. Книги. Я не знаю, что именно убийца предложил проделать там Корвину – помочь в поиске чего-то конкретного и просто расставить тома. Да это и неважно. Но именно в книге был спрятан ответ. Инспектор, для чего доктор Веледницкий по его словам, заходил в Ротонду по дороге на тренировку Тера?
– Отдать Корвину книги.
– Какие именно, не помните?
– Прекрасно помню. Первый том «Энциклопедии законоведения», «История материализма» Ланге, «Четыре фазиса нравственности» Блэкки и «История философии в жизнеописаниях» Льюиса. Все они лежали на столе Корвина, да и сейчас, вероятно, там лежат.
– Лежат. Ночью, во всяком случае, лежали. Скажите, инспектор, вы читали что-нибудь из вами перечисленного?
«Кем-кем, а тактичным его не назовёшь, – подумал Маркевич. – Мог бы спросить меня, я по крайней мере Ланге листал. Правда, сто лет назад».
Инспектор Целебан улыбнулся и развёл руками. Он бы, вероятно, что-то сказал, но не успел, потому что у пансиона уже спешивался со своего неубиваемого велосипеда капрал Симон – на сей раз с винтовкой за плечами. Он вошёл было в дом, но по знаку Целебана остановился в дверном проёме, придав себе – уже по собственной инициативе – весьма воинственный вид.
– Прекрасно, – сказал Ульянов. – Дело, кажется, сделано. Итак, инспектор, ни одну из этих книжек в руках вы не держали. Напрасно, совершенно напрасно. Мало того, что их прочтение способствовало бы вашему умственному росту. Возможно, будь вы знакомы с этими книгами, вы бы гораздо быстрее – и главное, куда точнее – установили бы личность убийцы. Так как это сделал я. И это будет последняя, философическая, составляющая моего расследования. Самая прекрасная и самая, увы, краткая.
«Сейчас Целебан его задушит. Я бы, наверное, сделал это ещё пять минут назад. Да, Степан Сергеевич, вот и подлечил нервишки, вот и отдохнул. Чёрт, ничего более интересного в моей жизни не происходило никогда, хотя казалось бы».
Ульянов снова поднялся с кресла.
– Помните, Маркевич, вы пересказывали разговор о внезапном увлечении Корвина греческим языком?
– Да, это Николай Иванович рассказал.
– И о том, что ранее Корвин игнорировал античную философию, толком не знал древнегреческого и никогда не интересовался подобными вещами?
– Точно так, Владимир Ильич. На этот факт указывает и первый биограф Корвина, Умберто Гвидони. Он ещё заметил, что в парижской библиотеке Корвина, огромной, не было ни единого тома греческих классиков. Даже Платона и Аристотеля.
– Вот! – Ульянов выбросил руку в сторону Целебана да так, что инспектор слегка отшатнулся. – Знаете ли вы, инспектор, какая книга объединяет все те четыре, которые доктор Веледницкий принёс Корвину? Объединяет, потому что именно в этих четырёх книгах содержится подробный анализ её содержания? И не просто подробный, а блестящий, особенно у Ланге. И какая книга на самом деле была в стопке, принесённой Корвином пятой, отсутствовала – и сейчас отсутствует – в Ротонде и до сегодняшнего утра покоилась на дне расселины, – поскольку именно через неё убийца стрелял в Корвина? Возьмите, господину Канаку непросто было её найти.
Ульянов протянул Целебану мешок и не дожидаясь, пока тот извлечёт на свет божий его содержимое, обернулся к Маркевичу:
– Ну-с, догадались?
– «Поэтика» Аристотеля.
Это был не голос Маркевича. Это сказал Антонин Васильевич Веледницкий.
65. Единственная улыбка в его жизни
Всякий дом перестаёт быть домом, когда в нём начинают хозяйничать чужие люди. Эта мысль пришла в голову Маркевичу, сидевшему на козетке в углу холла, когда мимо него раз, вероятно, в двадцатый прошёл Симон со стопкой каких-то папок: оба инспектора проводили теперь обыск.
Веледницкого увезли в карете, на которой в «Эрмитаж» прибыл Симон. Капрал явился, разумеется, не один – доктора сопровождали теперь два почти неотличимых друг от друга усатых жандарма в штатском. В кабинете в отсутствие его хозяина быстро воцарился самый натуральный погром: Целебан и Гро-Пьер (он явился в пансион ровно через минуту после того, как доктор сказал «да, господин Целебан») быстро просматривали книги и бумаги, часть вручали капралу, но большую просто бросали себе под ноги. В углу кабинета, в кресле сидел Николай Иванович. Никто ему не говорил ни слова и сам он хранил полное молчание: вжавшийся в кресло, он был почти совершенно незаметен среди царившего вокруг беспорядка.
Ульянов сразу уже поднялся к себе: вид у него был торжествующий, скрывать это он явно не собирался, но всё же покинуть поле битвы показалось ему наилучшим решением. Маркевича, впрочем, удивило не это, а то, что вслед за Ульяновым наверх отправился и Шарлемань. Ещё страннее было то, что ни Целебан, ни Гро-Пьер не обратили на это ни малейшего внимания. Но размышлять об этом Маркевич не стал, потому что в прихожую высунулся Симон и довольно громко сказал:
– Господин Маркевич, вас спрашивает почтальон.
…Целебан пересекал прихожую с кипой бумаг в руке, когда, наконец, увидел Маркевича. Тот стоял посреди комнаты с телеграммой в руке и, казалось, раз за разом перечитывал несколько строк, её составлявших[43]43
Текст этой телеграммы, а в особенности подпись под ней, вряд ли когда-либо может быть обнародован в России. Скажу только, что помимо смысловой части и сообщения о переводе на мое имя известной суммы денег, в ней содержалась настойчивая рекомендация немедленно выехать в Соединенные Штаты, при этом ни в коем случае не обременяя себя никакими обязательствами перед третьими лицами.
[Закрыть]. Точно от удивления, что Степан Сергеевич никуда не делся, Целебан резко остановился и внимательно посмотрел на Маркевича.
– Мы забыли сделать одну вещь.
– Какую? – спросил Маркевич и водворился обратно на козетку.
– Ульянов обещал пояснить ход своих истинных рассуждений – ну, тех, на основании которых он сделал первый вывод о виновности доктора. Надо бы подняться к нему, что ли. Ужасно интересно. Он вообще интересный человек, этот ваш Ульянов.
– Нет никакой нужды идти наверх. Я сам вам расскажу.
– А, то есть он успел вас просветить?
– Нет, – сказал Маркевич. – Но я догадался.
Целебан положил свои бумаги на столик около козетки и встал напротив Маркевича, широко расставив свои длинные ноги.
– Только одно условие, инспектор. Даже если вы мне не поверите – не стоит бежать наверх и уточнять, так ли всё обстоит на самом деле. Признаться, я не до конца верю в это и сам, – но я уверен, что я прав, реконструируя его логику.
– Говорите уже. После того, что я видел и слышал за последние пятнадцать часов, я готов поверить во что угодно.
– Знакомы ли вам основные философские течения эпохи эллинизма?
– Что-что? – переспросил Целебан, и тогда Маркевич повторил свой вопрос по-французски.
– Нет, – в голосе инспектора было пополам усталости и раздражения, но Маркевича это совершенно не остановило.
– Я напомню вам. Прогуливаясь в своих портиках, греки разделились на четыре главные школы: киников, стоиков, скептиков и эпикурейцев.
– Ах да, что-то припоминаю. И какое это имеет отношение к анархо-этатизму?
– Никакого. И самое непосредственное. Третьего дня в разговоре с Владимиром Ильичом я назвал Лаврова эпикурейцем. Ульянов меня поправил, заодно освежив мои знания об античной философии. Так вот…
Разумеется, Целебан не поверил ни одному его слову – и даже не попытался этого скрыть. Выдержка, впрочем, не изменила инспектору: он лишь потаращился на Маркевича с полминуты, а затем покачал головой. Маркевич засмеялся:
– Увы, мой дорогой инспектор. Ни Тер – стоик, ни киник Фишер не могли бы убить Корвина. Их внутренние убеждения не отрицают насилия – но не по такому поводу. И только человек, доведший свою жажду наслаждений до абсолюта, до отрицания бога и права, – только такой человек мог пойти на убийство. Эпикурейцем, несомненно, являлся и великий князь – но раз он Корвина не убивал…
Целебан, наконец, пришёл в себя.
– Постойте. Постойте. Ваш Ульянов давеча настойчиво утверждали, что он, дескать, логик. Но логикой тут даже не пахнет.
– Почему?
– Да потому что причастность великого князя к убийству Ульянов отрицал исходя из каких-то, одному ему понятных, логических соображений. Я не сомневаюсь в том, что он нашёл настоящего убийцу – в конце концов, у нас даже есть формальное признание, хоть это и не главное. Но логики в рассуждениях Ульянова не вижу никакой! Два кандидата в убийцы, два, прости меня господи, эпикурейца – и тем не менее одну фигуру наш доморощенный сыщик отбрасывает, сосредотачивается на другой и вполне убедительно доказывает его вину. Но какого чёрта он отказался от первой?! Вот чего я не могу понять.
«Я тоже не могу. Господи, он же прав. Он абсолютно прав».
– Я понятия не имею, инспектор. Хотите, поднимемся наверх и спросим?
– Не хочу, – сказал Целебан. – Я до смерти устал. В конце концов, задача решена и моя миссия окончена. Сегодня вечером я лягу спать и просплю минимум сутки. Чего, кстати, и вам желаю: у вас довольно отчётливые круги под глазами. Кстати, а где записка?
– Какая записка?
– Не валяйте дурака, Маркевич. Записка с именем убийцы, которую якобы вам вручил Ульянов в прошлый четверг. Или это очередная выдумка?
– Я и забыл про неё, – растерянно сказал Маркевич. – Хотите взглянуть?
– Будто вы не хотите.
Крошки сургуча просыпались сквозь пальцы Маркевича прямо на брюки, но это уже не имело значения, как и то, с какой выразительностью Целебан постучал пальцем себе по лбу, развернулся и вышел прочь[44]44
Двадцать пять лет спустя я оказался в Лозанне и поинтересовался у осведомлённых знакомых о судьбе Целебана. Увы, никто из них ничего не слыхал о таком полицейском инспекторе. Однако ещё позднее, в Кракове на книжном развале я совершенно случайно натолкнулся на нетолстую брошюру под названием Ścieżka polskiego patrioty w Szwajcarii: Życie Piotra Celebana. Автором брошюры значился Dr. Konstantyn Celeban. Польского языка я не знал и не знаю, но отчего-то у меня не осталось (и теперь не существует) сомнений касательно того, каково было личное имя инспектора Целебана и где навсегда упокоилась его строгая натура.
[Закрыть]. Осьмушка серой бумаги, оторванная от черновика. Три слова.
«Нам нужно поговорить. В.У.»
* * *
Маркевич почему-то был уверен, что Шарлеманя в комнате Ульянова он не застанет. И почти не ошибся – проводник как раз выходил из «Харькова» и привычно ухмыльнулся при виде Маркевича, одновременно пряча в левый карман пиджака свёрток каких-то гранок, а в правый – что-то, что не могло быть не чем, кроме небольшой пачки швейцарских франков, тоже аккуратно свёрнутых в трубочку.
– Да? – голос Ульянова был вежлив до совершеннейшего неправдоподобия.
– Я видел Шарлеманя, – сказал Маркевич вместо того, чтобы кинуть в лицо Ульянову записку.
– Поразительно. Особенно если учесть, что он вышел отсюда только что.
– С деньгами.
– С деньгами, – подтвердил Ульянов.
– Стало быть, платите гонорар своим агентам – и платите исправно?
– Не припоминаю, – холодно сказал Ульянов, – чтобы кто-то когда-то обвинял меня в финансовой неаккуратности.
– Не в этом дело, Владимир Ильич, вы прекрасно меня поняли. Вы, не проявлявший якобы никакого интереса к расследованию этого дела, вдруг нанимаете специального помощника, да ещё и за деньги. Нечего сказать, живописная картина.
– И что? – пожал плечами Ульянов. – Товарищ Канак – член швейцарской социал-демократической партии, принадлежит к группе Ланга, староста местной секции. Мне его ещё в Женеве рекомендовали. И не ошиблись с рекомендациями. Я дал ему кое-какие поручения и снабдил средствами для их выполнения. Это не гонорар, а аванс, товарищ Янский.
– Товарищ Канак, как мы с вами заметили прошлой ночью, принадлежит также к группе инспектора Целебана, если можно так выразиться.
– Что? А, чепуха. Это тоже партийное поручение, не более. Противника лучше держать на коротком поводке, – ну или по крайней мере, иметь представление о его делах и намерениях. К тому же Целебан, в отличие от вас, прекрасно осведомлён о взглядах товарища Канака и, как видите, не чурается его помощи. Как и я. Но вы пришли не упрекать меня в этом, не правда ли? Или, во всяком случае, не только за этим.
Маркевич кивнул и положил на стол записку. Говорить при этом ничего не стал – излишне это было, излишне и натужно, и Ульянов это прекрасно понял.
– Будет вам, будет, – быстро сказал он. – Вы прямо как девица, право слово. Ну недооценил я вас, каюсь. Был категорически уверен, что вы вскроете это письмецо в тот же вечер, ринетесь ко мне браниться, тут-то я вас тёпленьким и возьму.
– То есть в четверг вы ещё не знали, кто убийца?
Ульянов встал подошёл к Маркевичу так близко, что тот увидел рысий блеск в его глазах.
– Милейший Степан Сергеевич! Вы моложе меня на десять с лишним лет, а меж тем уже страдаете таким прискорбным заболеванием, как амнезия. Я же вам сразу сказал, что не интересуюсь ни Корвином, ни его смертью. Могу повторить это ещё раз. И ещё раз. Столько, сколько потребуется. Вы же мне отчего-то не поверили. И не верите до сих пор. Не так ли? Так, так, вижу, что так. Но что же мне было делать? Времени у меня немного – о чем я вам тоже говорил. Ваш – совершенно непристойный для революционера, кстати, – интерес к банальному уголовному преступлению мог стать моей большой проблемой. Немного подумав, я понял, что мог бы распутать это дело и тем самым вернуть ваши мозги в нормальное состояние. Но, конечно же, ни в четверг, ни даже вчера утром я представления не имел, что Веледницкий убийца. Собственно, весь ход своих размышлений я изложил сегодня утром. Почти весь. Подозрения, что Веледницкий как врач – если и не полное ничтожество, то уж точно не светило, возникло у меня сразу по приезде, когда я обсуждал с ним заболевание моей жены. Не вдаваясь в детали, скажу лишь, что Веледницкий не знал об этой болезни ничего, чего не знал бы я. Но это, конечно, ни о чем не говорит. Как ничего особенного не говорит и статья в Revue Neurologique, отчаянно скучная, признаться, но бессонницу мою одолевшая. И на том, как говорится, спасибо. Впрочем, тут уже у меня начали закрадываться определённые подозрения. Честно говоря, мои заочные симпатии к доктору начали рассеиваться – вы, кстати, и сами это заметили. Я слышал о Веледницком много разного, был склонен думать о нём скорее в позитивном ключе, учитывая его некоторые заслуги. Но личное знакомство решило всё. Напыщенный, алчный, чрезвычайно самовлюблённый тип, да ещё и развратник. Тьфу, мерзость. В революции немало случайных людей, но настолько случайных ещё поискать. Ну а когда я узнал, что он эмпириомонист, махист – что следует из его бреда про «социальное» и «психическое», который вы мне пересказали, ничего, впрочем, в нём не поняв, – я перестал сомневаться уже окончательно. Настоящий марксист нипочём не пойдёт на подобную мелкую уголовщину – бессмысленную, никчёмную и опасную. Во мне, конечно, боролись два чувства – желание выполнить свою задачу и нежелание заниматься такой ерундой, как поимка убийцы Корвина. Я постарался сделать так, что большую часть черновой работы выполнили вы, вошедший в такой неописуемый раж. Вы думали, что я вас испытываю, заставляя прийти к тем же выводам, к которым я якобы уже пришёл наитием своего, кхм, гения. На самом деле, я размышлял параллельно с вами, беседуя с вами, анализируя добытые вами сведения. Большинство ваших промежуточных выводов были верны, – а вот окончательный, увы, ошибочен. Вы зациклились на Фишере, я же прошёл чуть дальше – и добился успеха. Ну да, Нату Пинкертону мой метод не очень подошёл бы, – но я не собираюсь выступать в суде, все доказательства, включая признание обвиняемого, сможет представить инспектор. Поэтому да, я назначил доктора Веледницкого убийцей, потому что убедил в этом сам себя, а потом доказал это.
«Доктор Веледницкий, вероятно, уже в Эгле. Сидит на станции в окружении жандармов, ёжится. Страшно ли ему? Думаю, что скорее досадно. Досада – чрезвычайно сильное чувство, гораздо более сильное, чем принято думать. Если до поезда не очень много времени, на перроне уже должно быть порядочно народу. Туристы, завершающие свой вояж. Какой-нибудь коммивояжёр, возвращающийся домой из поездки не солоно хлебавши. Может, кто-то из последних корреспондентов, отчаявшихся узнать в Вер л’Эглиз хоть что-то новое и ещё не знающих, что на самом деле им нужно нестись обратно со всех ног, чтобы успеть первым. Но вряд ли даже их заинтересуют три ничем не примечательных человека, скучающие на лавочке в ожидании поезда. Он, разумеется, не сбежит: некуда здесь бежать. Да он и сам это говорил».
– Вы неприятный человек, Владимир Ильич.
– Да я и не рассчитывал влюбить вас в себя, – Ульянов пожал плечами. – В конце концов, это всего лишь выбор тактики. Возможно, она вам сейчас кажется неверной. Возможно, она неверна на самом деле. Но всё это неважно. Главное – стратегия, а она верна. Да, так что же Америка?
– Вы неприятный человек, Владимир Ильич, – повторил Маркевич. – Вставать у вас на пути опасно, но ещё опаснее, кажется, идти за вами. Я поеду в Америку. Вы меня убедили. Но не как ваш агент, а как частное лицо. Я получил, наконец, кое-какие деньги, а кроме того у меня появились кое-какие идеи – это наилучшее сочетание из известных мне.
– Идеи – это пошлая ерунда, товарищ Маркевич, – рассерженно сказал Ульянов. – Должны быть не идеи, а идеалы. И, кстати, вот с этим у вас очевидные трудности. Я мог бы помочь вам. А вы бы, в свою очередь, мне.
Он вдруг замялся.
– Или вас смущают мои идеалы? Неужели я настолько в вас ошибался?
– Нет, – сказал Маркевич. Меня не смущают ваши идеалы, меня смущают ваши принципы и, главное, ваши методы. Идеалы у всех примерно одинаковые, не будем притворяться. Все хотят всеобщего счастья, социальной справедливости, мира без войн и эпидемий. А вот принципы у всех разные. Боюсь, что ваши мне не подходят совершенно.
– Софистика, Маркевич, софистика.
– Нет, Владимир Ильич. Я ещё при первой встрече сказал вам, что для партийной работы необходима партия. Это правда. Но вовсе не вся правда.
Он подошёл к окну. На террасе было двое: жандарм, призванный охранять пансион от неизбежной в ближайшие несколько часов толпы газетчиков и просто любопытных. И Николай Иванович, который, не отрываясь смотрел прямо на окно «Харькова». Небо снова затягивало, поднялся ветер, он трепал бороду Склярова и его волосы, несколько более длинные, чем прилично было бы иметь человеку его возраста и положения (Маркевич поймал себя на мысли, что никогда не обращал на это внимания; «на это и на многое другое», – мелькнуло у него). Сейчас Николай Иванович действительно страшно смахивал на деревенского иерея.
«Что или кого он надеется увидеть? Когда-то его жизнь в первый раз сломало острое чувство несправедливости, которое заставило его бросить семинарию и пойти в народ. Я где-то читал, как его избили мужики в первой же или второй деревне, куда он пришёл рассказывать про “настоящий манифест”. Жестоко избили, сломали ребро. Пять лет каторги за ввоз запрещённой литературы. Побег – и впрямь дерзкий до отчаяния, две недели по саянской тайге с самодельным ножом из случайно найденной острой оленьей кости. Второй раз его жизнь сломала Америка, где он держал книжный магазин – не русский, обычный американский книжный магазин, где торгуют Майн Ридом, Амброзом Бирсом и Бульвер-Литтоном, а ещё – микстурами, сиропом от кашля, разноцветным мармеладом, кофе и лимонадами. Прежде чем разориться, он успел перевести остаток наследства сюда, в Швейцарию, Корвину. Последний его вклад в дело революции и возможно последний разумный поступок вообще. В третий раз его жизнь сломалась сегодня и сломал её – против своей воли, разумеется, – Ильич»[45]45
Конечно, если бы кто-нибудь мне сказал в 1908 году, что Николай Иванович Скляров кончит свои дни в лютеранской богадельне города Турку, где он окажется, будучи высланным из СССР как активный член Федеративного союза баптистов… Впрочем, иные утверждают, что староста Приуральского отделения Всесоюзного общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев благополучно преставился в своей постели на Рождество 1926 года в возрасте 79 лет. Проверять обе версии у меня нет ни малейшего желания.
[Закрыть].
Маркевич обернулся. Ульянов сидел на стуле, плотно прижавшись к спинке и положив обе руки на колени – строго параллельно, словно примерный гимназист, выжидающий отмерянные матушкой несколько минут после горячего чая за завтраком: сразу идти на улицу нельзя, там мороз, горло можно застудить. Ульянов терпеливо ждал.
– Мой учитель, – сказал Маркевич и тут же поправился, – человек, которого я считаю своим учителем, не так давно сказал мне, что мой атеизм кажется ему наносным. Не перебивайте, прошу вас. Я тоже было возмутился, но он старше и умнее меня и в два счёта доказал мне, что он прав, а я нет. Ваше неверие в Бога, сказал он мне, суть неверие именно в Христа. В то, что написано в Евангелиях, в распятие, страшный суд и жизнь вечную, в то, что вам пытались вдолбить на уроках Закона Божьего в корпусе, в то, что всем и каждому вдалбливают каждый день – кому с учительской кафедры, кому с амвона, а кому и со страниц Достоевского. Он не очень любит Достоевского, мой учитель, и всегда подтрунивал над моим почти религиозным преклонением. Так вот, продолжал он: во всё это верить вовсе не нужно – разумеется, если нет охоты. Но не верить вообще ни во что нельзя. Вы просто должны понять, во что вы верите. Я верю в революцию, сказал тогда я ему. Э-э, нет, возразил он: не годится. Верить в революцию это всё равно что подростку верить в то, что рано или поздно он совершит сексуальный акт. Это мираж, мечта, цель – но не предмет веры. Революция может нести зло или добро, но она – лишь действие, процесс, если угодно – путь, на котором можно находиться, пусть даже и всю жизнь. Но у этого пути есть цель и есть конец – как же можно по-настоящему верить в то, чему рано или поздно будет положен предел? И я согласился со своим учителем. Я верю в науку, сказал я тогда. Можно верить в науку? По-настоящему – нет, ответил учитель. Наука – превосходный инструмент, гораздо лучше, чем революция, но нельзя же верить в скальпель или коловорот? Я ещё немного подумал – и вдруг понял. Я верю в прогресс. Да-да, сказал я ему – и могу повторить сейчас это вам, Владимир Ильич. Я верю, что всё, о чём я говорил пять минут назад – всеобщее счастье, социальная справедливость, мир без войн и эпидемий – будет достигнуто человеческой волей и человеческими знаниями. Прогресс есть смысл существования человечества. Тут покойный Корвин был прав. Правда, он хотел этого прогресса сразу и без особого труда – здесь я с ним не согласен. Жернова цивилизации мелят медленно, медленно копится и наш опыт. Но эти жернова должен кто-то крутить. Мне кажется, это то, чем я должен заняться, – наряду с миллионами других, разумеется. Моё место сейчас там, Владимир Ильич[46]46
Если мои мемуары, о которых я так пространно распространялся в самом начале этой книги, когда-нибудь всё же увидят свет, то их читатели могут быть несколько удивлены, ибо история моего отхода от активной политической деятельности после первой русской революции в них изложена, мягко говоря, несколько в ином ключе. Ответить на вопрос, какая из двух историй более правдоподобна и менее для меня унизительна, я предоставляю читателю.
[Закрыть].
Ульянов ответил не сразу. А когда ответил, Маркевич понял, как тот потрясён.
– Вы не марксист.
– Возможно.
– Вы не марксист. Более того. Вы не материалист. С вами произошло наихудшее – вы скормили себя агностицизму. Самому вонючему, примитивному агностицизму. И самое ужасное, что сделали это добровольно и осознанно, не имея к этому совершенно никаких объективных предпосылок. Давеча мы с вами про Базарова говорили. Так вот, вы стократ хуже любого базарова. Потому что Базаров – дурак. Он махист оттого, что так ему проще, что эта уютненькая философия объясняет ему все его трудности, укладывает весь великолепный беспорядок в его голове в некое подобие порядка. Вы же вместо того, чтобы обратить свой острый разум на нужное дело, предпочли окуклиться в своём позитивистском эгоизме. Жернова цивилизации! Господи боже мой! Пролетариат вертит эти жернова уже не одно десятилетие. Пролетариат! А не полусоциалист-полукадет товарищ Янский. Да, пожалуй, данные мне относительно вас рекомендации несколько преувеличивали ваши достоинства. И уж точно совершенно умалчивали о ваших недостатках.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































