Текст книги "Если бы Пушкин…"
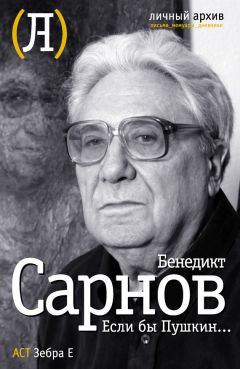
Автор книги: Бенедикт Сарнов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 39 (всего у книги 53 страниц)
6
На Западе у Войновича утвердилась прочная репутация сатирика. Более того, он воспринимается там как один из самых выдающихся представителей этого рода художественной литературы. Известный английский писатель-сатирик Малькольм Бредбери в одной своей статье даже назвал Войновича дуайеном (то есть старейшиной) сатириков XX века.
Такой взгляд на жанровую природу книг Войновича отчасти связан с тем, что человеку западного мира любые, даже вполне тривиальные реалии нашей действительности кажутся подчас плодом самой разнузданной писательской фантазии. Так, например, когда в Италии появился перевод романа Юрия Домбровского «Хранитель древностей», один итальянский критик, высоко оценивший этот роман, упрекнул автора в том, что его сюрреалистские фантазии принимают порой уж слишком гротескные, совершенно неправдоподобные формы. В качестве примера он привел эпизод, в котором один из персонажей романа пьет спирт, в котором хранятся заспиртованные музейные экспонаты. Знал бы этот итальянец, что для граждан нашей страны, привыкших пить денатурат, тройной одеколон, ацетон, политуру, неразбавленную краску, всевозможные лаки, клей БФ, тормозную жидкость, желудочные капли, клопомор, жидкость от мозолей, научившихся есть зубной порошок и даже мазать на хлеб гуталин, чтобы хоть чуточку «забалдеть», – что для таких многоопытных и неприхотливых алкашей этот спирт из-под мертвых музейных младенцев (какой-никакой, а все-таки самый настоящий спирт!!) – такое же изысканное лакомство, каким для жителей других, более счастливых стран стали бы лучшие марки изысканнейшего французского коньяка.
Но Войновичу не только на Западе, но даже и на родине часто приходилось слышать по поводу некоторых сцен и эпизодов его книг. «Ну, это уж слишком! Это – чересчур!» Причем говорилось это явными его доброжелателями, даже поклонниками. И говорилось еще в те времена, когда он даже и не помышлял о том, чтобы отклониться от избранной им «поэтики изображения жизни как она есть». Ну а позже, когда появились первые главы его «Чонкина», – тут уж даже и на родине прочно укрепилась за ним репутация художника, видящего и изображающего действительность в самых причудливых, гротескно-фантастических формах.
Я не имею тут в виду тех критиков его романа, которые – кто по партийному долгу, а кто просто по убогости своего художественного вкуса – воспринял Чонкина как «плевок в лицо русского народа», «преступное глумление над народом, выигравшим великую войну» – и так далее в том же духе. Суждения такого рода можно в расчет не принимать. Но, повторяю, многие искренние доброжелатели Войновича и даже пламенные поклонники его таланта восприняли Чонкина как образ заведомо пародийный, сатирический.
Такие примеры в истории мировой литературы бывали. Известно, например, что Сервантес задумал своего Дон-Кихота как фигуру пародийную. Именно так доблестного Ламанческого рыцаря и восприняли современники романа. Но в сознании потомков этот образ обрел совершенно иные черты, стал символом чуть ли не самых высоких и прекрасных свойств человеческих. Нечто похожее произошло и с диккенсовским мистером Пиквиком, и с гашековским Швейком, по поводу которого сам Гашек сказал с грустным юмором:
– Если слово «Швейк» станет новым ругательством в пышном венке бранных слов, то мне остается только удовлетвориться этим обогащением чешского языка.
Очевидно, и в гашековские времена находились читатели, ухитрившиеся воспринять Швейка как «плевок в лицо чешского народа».
Конечно, Иван Чонкин, явившийся нам в первых главах войновичевского романа, не совсем таков, каким он предстает перед нами позже, в особенности – во второй книге. От главы к главе образ менялся, трансформировался, обогащался, обретал новые, уже не только комические, но и патетические, поистине эпические черты.
Но, в отличие от Дон-Кихота, Пиквика и даже Швейка, Чонкин с самого начала был задуман автором как образ лирический. На это обстоятельство Войнович довольно прямо намекал нам уже на самых первых страницах своего романа:
Дорогой Читатель! Вы уже, конечно, обратили внимание на то, что боец последнего года службы Иван Чонкин был маленького роста, кривоногий да еще и с красными ушами. «И что это за нелепая фигура! – скажете вы возмущенно. – Где тут пример для подрастающего поколения? И где автор увидел такого в кавычках героя?.. Неужели автор не мог взять из жизни настоящего воина-богатыря, высокого, стройного, дисциплинированного, отличника учебно-боевой и политической подготовки?» Мог бы, конечно, да не успел. Всех отличников расхватали, и мне вот достался Чонкин. Я сперва огорчался, потом смирился. Ведь герой книги, он как ребенок – какой получится, такой и есть, за окошко не выбросишь. У других, может, дети и получше, и поумнее, а свой все равно всех дороже, потому что свой.
Конечно, тут – и насмешка над въевшимися в сознание читателя (разумеется, под влиянием официальной советской критики) представлениями, будто образ полюбившегося писателю героя создается только лишь с одной-единственной целью: чтобы было «делать жизнь с кого». Но даже по этому (явно насмешливому, ироническому) признанию Войновича в любви к своему герою видно, что любит он его не только потому, «что он – свой». Любит не только так, как мать любит даже неудачного своего ребенка, родившегося заведомым уродцем.
Как бы ни любил Войнович всех предшественников своего Чонкина (Тюлькина, Очкина, Аркашу Марочкина, даже Ивана Алтынника, который из них ближе всего к Чонкину), любовь его к Чонкину – совсем другого рода. Только к нему он мог бы по праву, с полным на то основанием применить известную формулу Флобера, признавшись: «Чонкин – это я».
Знаменитая реплика Флобера («Эмма – это я») воспринимается обычно как эффектная, но мало что значащая фраза. Что-нибудь вроде того, что настоящий писатель в каждого своего героя вкладывает какую-то частицу своей души. Да и это утверждается не всерьез, а, так сказать, образно говоря. Между тем Флобер, надо думать, имел в виду нечто другое. Он хотел этой своей репликой сказать, что при всей несхожести со своей героиней (взбалмошной, влюбчивой, безвкусной Эммой Бовари) он все-таки воспринимаег ее как своего духовного двойника.
У автора романа о солдате Иване Чонкине сходства со своим героем как будто даже меньше, чем у Флобера с героиней его романа Эммой. В самом деле: с одной стороны – чудовищно невежественный, малограмотный, озабоченный лишь самыми примитивными, чуть ли не животными желаниями и интересами, пожалуй, даже придурковатый деревенский паренек, а с другой – человек ясного и точного ума, писатель, к голосу которого прислушиваются (и не метафорически, а буквально, это знает каждый, кому случалось слушать передачи радиостанции «Свобода») миллионы людей.
Казалось бы, что может быть общего между ними? Общего, однако, ничуть не меньше, чем у рафинированного эстета Гюстава Флобера, немолодого, брюзгливого холостяка, тончайшего стилиста, к голосу которого прислушивался взыскательный Тургенев, – с молоденькой безвкусной провинциалкой Эммой.
Вот, например, Чонкин из случайного разговора узнает, что человек произошел от обезьяны. Узнает он это от своего ученого соседа Гладышева, который в простых и понятных словах объясняет ему, как именно это случилось. «Люди, Ваня, – говорит Гладышев, – должны не воевать, а трудиться на благо будущих поколений, потому что именно труд превратил обезьяну в современного человека».
Нельзя сказать, чтобы это сообщение особенно заинтересовало Чонкина. «А по мне хоть от коровы», – ответил он. Но Гладышев не успокаивался. Уж очень хотелось ему просветить невежду Чонкина, открыть ему глаза на этот общеизвестный научный факт.
– От коровы человек произойти не мог, – убежденно возразил Гладышев. – Ты спросишь – почему?
– Не спрошу, – сказал Чонкин.
– Ну, можешь спросить. – Гладышев пытался втянуть его в спор, чтобы доказать свою образованность. – А я тебе скажу: корова не работает, а обезьяна работала.
– Где? – неожиданно спросил Чонкин и в упор посмотрел на Гладышева.
– Что – где? – опешил Гладышев.
– Я тебя пытаю: где твоя обезьяна работала? – сказал Чонкин, раздражаясь все больше. – На заводе, в колхозе, на фабрике – где?
Потрясенный бестолковостью и тупостью Чонкина, Гладышев как только мог популярно изложил теорию эволюции. Чонкин вроде все понял. Но по прошествии некоторого времени выяснилось, что Чонкин был даже еще тупее, чем Гладышев мог это себе представить.
Неожиданно в поле зрения Чонкина попала гнедая лошадь, устало тащившая телегу, и тут внезапная идея озарила его. Сквозь толпу (дело происходило на митинге) Чонкин стал продираться к Гладышеву, который теперь уже был довольно далеко от него. А добравшись, спросил, толкнув его под локоть:
– Слышь, что ли, сосед, я вот тебя спытать хочу: а как же лошадь?
– Какая лошадь? – удивился Гладышев, успевший, видимо, уже позабыть о давешнем разговоре.
– Ну, лошадь, лошадь, – сердился Чонкин на непонятливость Гладышева. – Скотина о четырех ногах. Она ж работает. А почему ж в человека не превращается?
Гладышев даже выматерился и плюнул с досады, таким чудовищно глупым показался ему этот вопрос Чонкина. Но – странное дело! – бесконечно глупый вопрос этот крепко втемяшился ему в голову. И сколько он ни старался, ему никак не удавалось просто так вот взять да и отмахнуться от него.
Гладышеву не спалось. Он таращил во тьму глаза, вздыхал, охал и ловил на себе клопов. Но не клопы мешали ему, а мысли. Они вертелись вокруг одного. Своим глупым вопросом на митинге Чонкин смутил его душу, пошатнул его, казалось бы, незыблемую веру в науку и научные авторитеты. «Почему лошадь не становится человеком?» А в самом деле: почему?.. Действительно, каждая лошадь работает много, побольше любой обезьяны. На ней ездят верхом, на ней пашут, возят всевозможные грузы. Лошадь работает летом и зимой по многу часов, не зная ни выходных, ни отпусков. Животное, конечно, не самое глупое, но все же ни одна из лошадей, которых знал Гладышев, не стала еще человеком. Не находя сколько-нибудь удобного объяснения такой загадке природы, Гладышев шумно вздохнул.
Можно, конечно, сделать простой вывод: Гладышев, несмотря на то что он нахватался каких-то поверхностных знаний насчет происхождения человека, по сути своей так же глуп, как Чонкин. И только поэтому глупый вопрос Чонкина произвел на него такое сильное впечатление.
На самом деле, однако, тут все совсем не так просто. Чонкин озадачил Гладышева неожиданностью своего взгляда. А неожиданность эта рождена тем, что взгляд его, не обремененный какими-либо знаниями, теориями, концепциями, побочными, сызмала внушенными сведениями и объяснениями, предельно непредвзят и непосредствен. Чонкин (точь-в-точь как Шикалов, который, живя в Петербурге в 1917 году, ухитрился проморгать Октябрьскую революцию) не верит словам, он верит только собственным глазам, непосредственным своим ощущениям. Говоря по-научному, это взгляд человека, у которого первая сигнальная система превалирует над второй.
Вообще-то, наличие второй сигнальной системы – это именно то, что отличает человека от животного. И если у homo sapiens’a первая сигнальная система подавляет вторую, радоваться тут особенно вроде нечего. Может быть, это как раз и свидетельствует о некоторой умственной отсталости?
Нет, в данном случае это свидетельствует совсем о другом. Хотя наличие второй сигнальной системы, то есть наличие восприимчивости к словам, есть коренное свойство именно человеческой психики, чрезмерная восприимчивость такого рода чрезвычайно опасна. При этом возникает состояние, которое академик И.П. Павлов называл парадоксальным. Вот как рассказывает об этом один из его учеников и сотрудников:
У нас находится на излечении больная с чрезвычайно расслабленной нервной системой. Когда ей показывают красный цвет и говорят, что это не красный цвет, а зеленый, она с этим соглашается и заявляет, что, всмотревшись внимательно, она действительно убедилась, что это не красный, а зеленый цвет. Чем это объяснить? Академик Павлов говорит, – парадоксальным состоянием. При нем теряется реакция на сильный возбудитель. Действительность, действительный красный или иной цвет – это сильный возбудитель. А слова «красный», «зеленый» и т. д. – это слабые возбудители того же рода. При болезненной нервной системе, при ее парадоксальном состоянии теряется восприимчивость к действительности, а остается восприимчивость только к словам. Слово начинает заменять действительность.
Описанный здесь случай, конечно, за пределами нормы. Это – случай патологический. Но в той или иной степени всем нам свойственно это парадоксальное состояние. Мы все придаем чрезвычайно большое значение словам, мы загипнотизированы словами, мы находимся под таким мощным воздействием слов и других так называемых слабых возбудителей, что они порой полностью заслоняют от нас действительность.
В описываемую Войновичем эпоху миллионы людей находились в таком «парадоксальном состоянии». Живущие в гигантском ГУЛАГе и довольствующиеся ежедневной миской баланды, они верили, что им посчастливилось родиться и жить в самой свободной и процветающей стране мира. Обманутые, отравляемые ежедневной ложью, они не сомневались, что только им открыта истина. Сталкиваясь с повседневной жестокостью и несправедливостью, они были убеждены, что все эти жестокости и несправедливости совершаются ради самой величественной и благородной цели, какую когда-либо ставил перед собою род людской. И только таким людям, как Чонкин, случалось порой видеть действительность такой, какой она была на самом деле.
Взять хотя бы вот этот разговор Чонкина с Гладышевым.
Своим «глупым» вопросом Чонкин вернул Гладышева от слов, теорий и всяческой ученой трухи, которой были набиты его мозги, непосредственно к окружающей его реальности. Как и Чонкин, Гладышев видел в своей жизни много лошадей, и все они работали. Работали «побольше любой обезьяны». С этим очевидным фактом трудно было спорить. Так на мгновенье и в сознании Гладышева действительность вышла на первый план. Теория заколебалась, перестала казаться такой уж неуязвимой.
А если заколебалась одна теория, может заколебаться и другая – еще более основополагающая. И тогда, глядишь, и председатель колхоза Голубев (тоже пребывающий в «парадоксальном состоянии») вдруг поймет, что, быть может, вовсе не он виноват в том, что «дела в колхозе год от года идут все хуже и хуже», а как раз вот эта самая насильственно воплощаемая в жизнь основополагающая теория.
Дело, впрочем, не только в теориях, да и вообще не только в словах.
Дело в том, что каждый предмет, каждое явление повседневной жизни опутано множеством связей и опосредствований, невидимыми нитями соткано воедино с привычными для нас «условиями игры». А Чонкин – естественный человек. Он даже не подозревает о существовании этих обязательных для всех условий. Для него каждый предмет, каждое явление существует, так сказать, в своем первозданном, чистом виде. И значит только то, что оно значит.
Чонкин дернул рукой. Ярцев заметил.
– Товарищ Чонкин, как прикажете истолковать ваш выразительный жест?
– Вопрос, товарищ старший политрук.
– Пожалуйста. – Политрук расплылся в широкой улыбке, всем своим видом показывая, что, конечно, Чонкин может задать только очень простой вопрос и, может быть, даже глупый, но он, Ярцев, обязан снижаться до уровня каждого бойца и разъяснить непонятное. И он ошибся. Вопрос, может быть, был глупый, но не такой простой:
– А правда, – спросил Чонкин, – что у товарища Сталина было две жены?
Ярцев вскочил на ноги с такой поспешностью, как будто ему в одно место воткнули шило.
– Что?! – закричал он, трясясь от ярости и испуга.
Чонкин растерянно хлопал глазами. Он никак не мог понять, чем вызвана такая ярость старшего политрука. Он попытался объяснить свое поведение:
– Я, товарищ старший политрук, ничего, – сказал он. – Я только хотел спросить… Мне говорили, что у товарища Сталина…
– Кто вам говорил? – закричал Ярцев не своим голосом.
Бедняга Чонкин так и не понял, в чем, собственно, он на этот раз провинился. Задать этот вопрос его подбил озорник Самушкин. Другой бы на месте Чонкина, конечно, сразу смекнул, что тут – подвох, что задавать такой вопрос политруку, да еще на политзанятиях – ни в коем случае нельзя. Но вся штука в том, что даже если бы какой-нибудь доброжелатель заранее предупредил Чонкина, что все вопросы, связанные с личной жизнью товарища Сталина, публичному обсуждению не подлежат, он бы все равно ничегошеньки не понял. Ну, было у человека две жены. Что тут такого? С кем не бывает? Почему нельзя об этом спрашивать? Что страшного в этом невинном вопросе?
В этом крошечном, на первый взгляд не несущем в себе никакого особого смысла комическом эпизоде отчетливо выразилось, что Чонкин, в отличие от политрука Ярцева и хитреца Самушкина, в отличие от всех, кто вместе с ним присутствовал на тех политзанятиях, – естественный человек. Он – естественный человек, которому выпало жить и действовать в неестественных, я бы даже сказал, в противоестественных обстоятельствах.
Именно это коренное свойство души необыкновенно роднит героя романа «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» с его автором.
Вот весьма характерный в этом смысле отрывок из книги Владимира Войновича «Иванькиада, или Рассказ о вселении писателя Войновича в новую квартиру»:
…Мне рассказывает поклонник Солженицына. В тот вечер, когда его любимого писателя арестовали, рассказчик ехал в компании своих коллег на такси по Садовому кольцу. Узнав, что пассажиры – писатели, шофер стал спрашивать о Солженицыне. Пассажиры очень хотели просветить рядового читателя.
– Но, – говорит мне рассказчик, – мы же не можем сказать ему прямо. Мы намекаем. Я говорю: Солженицын? Да, был такой писатель. Где он печатался? Точно сказать не могу. – Оборачиваюсь к одному из своих спутников. – Вы не помните, где печатался Солженицын? Кажется, в каком-то журнале. – Он тоже делает озабоченное лицо, морщит лоб: – Да, по-моему, в «Новом мире».
Поклонник Солженицына ждет моего одобрения.
Я говорю:
– А почему вы не могли сказать, пусть даже без всякой оценки, то, что вы знаете? Что Солженицын печатался в «Новом мире», что «Иван Денисович» вышел в «Роман-газете» и отдельной книгой, был представлен на Ленинскую премию.
– Ну как же можно?
– Так. Это вам даже ничем не грозило. Вот вы ругаете кого-то, кто выступает с лживой статьей в газете, а сами что делаете? Из ваших слов шофер мог сделать только один вывод: Солженицын никому не известен, даже писатели не знают толком, что он написал и где печатался.
В отличие от Чонкина, Войнович, конечно, понимает, почему «поклонник Солженицына» вел себя в этом случае так дико. Ему отлично известны правила этой игры: ««Да» и «нет» не говорите, черный и белый не берите…» и т. д. Но он не желает принимать эти правила, хоть в какой-то мере считаться с ними:
Пишу в какую-то инстанцию письмо. Показываю одному из своих доброжелателей, вижу, он недоволен:
– Ну зачем вы пишете в требовательном тоне? Просите! Расскажите, что вы из рабочих, что вы написали песню космонавтов, напишите, что жена в положении, и мне неудобно вам говорить, но намекните им как-нибудь, что вы не еврей.
Я злюсь.
– Почему я должен у кого-то просить свою же квартиру? Не хочу писать, что я из рабочих, не хочу писать про космонавтов, не хочу писать, что я не еврей.
Конечно, он – не Чонкин. Он даже понимает, что «играя по правилам», имеет шанс выиграть, а игнорируя эти «правила», вряд ли чего добьется. Но «мудрые» советы доброжелателей для него неприемлемы. Неприемлемы не только потому, что он принципиальный, убежденный противник этих «правил», а просто потому, что ему противно им следовать. Потому что, в отличие от своих советчиков, которые уже как-то притерпелись к фальшивым «условиям игры», принимают их как некую неизбежность и потому искренне не видят в своих советах ничего плохого, он воспринимает эти условия как противоречащие всей его человеческой природе. Иными словами, он, как и Чонкин, в противоестественных обстоятельствах, в которых ему приходится жить, умудряется оставаться неискаженным, естественным человеком.
Нельзя сказать, чтобы конфликт этот был так уж нов. Встречался он и в старой, классической литературе. Вот, например, Маша Миронова, героиня пушкинской «Капитанской дочки», говорила, что ни за что, ни за какие блага не могла бы выйти за Швабрина:
– Алексей Иваныч, конечно, человек умный, и хорошей фамилии, и имеет состояние, но как подумаю, что надобно будет под венцом при всех с ним поцеловаться… Ни за что! Ни за какие благополучия!
Совершенно очевидно, что непреодолимое препятствие это связано не с какими-то там принципиальными убеждениями Маши. Не с тем, что она, например, исповедует знаменитый принцип: «Умри, но не дай поцелуя без любви». Тут дело не в принципах, а в естественной реакции, в непосредственном душевном порыве, над которым не властны никакие резоны, никакие рациональные доводы, пусть даже и вполне почтенные («Алексей Иванович конечно человек умный, и хорошей фамилии»). Тем, для кого эти резоны (внушенные извне) стали их второй натурой, объяснение Маши покажется несерьезным, ребяческим. Пожалуй, даже странным. Но если бы Маша дала себе труд (или, лучше сказать, оказалась способна) проанализировать эту свою «странность», она – с тем же, а может быть, даже и с большим основанием – могла бы счесть странными те резоны, которым ее натура (а она как будто даже слегка стыдится этого) не хочет, а точнее, не может подчиниться. И тогда вся эта – привычная, незыблемая для окружающих – система представлений показалась бы ей такой же неестественной и даже нелепой, какой, например, Наташе Ростовой представляется самая что ни на есть заурядная оперная сцена:
Во втором акте были картины, изображающие монументы, и была дыра в полотне, изображающая луну, и абажуры на лампе подняли, и стали играть в басу трубы и контрабасы, и справа и слева вышло много людей в черных мантиях. Люди стали махать руками, и в руках у них было что-то вроде кинжалов; потом прибежали еще какие-то люди и стали тащить прочь ту девицу, которая была прежде в белом, а теперь в голубом платье. Они не утащили ее сразу, а долго с ней пели, а потом уже ее утащили, и за кулисами ударили три раза во что-то металлическое, и все встали на колени и запели молитву…
Этот художественный прием Виктор Шкловский некогда назвал остранением (от слова «странный»). Цель приема, согласно его теории (она потом так и была названа «теорией остранения»), состояла в том, чтобы вырвать предмет из автоматизма нашего восприятия, заставить нас привычное, примелькавшееся увидеть как странное.
Художественному зрению Войновича такое «остранение» присуще в высокой степени. Но у него (как, впрочем, и у Толстого) это не столько сознательный художественный прием, сколько органическое свойство его художественного мышления. Умению глядеть на мир глазами естественного человека нельзя научиться. Этим умением надо изначально обладать. И – это, пожалуй, самое трудное – не утерять его.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































