Текст книги "Если бы Пушкин…"
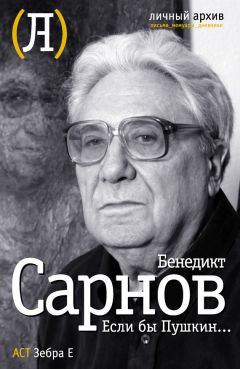
Автор книги: Бенедикт Сарнов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 48 (всего у книги 53 страниц)
Ворованный воздух
Естественно предположить, что эпоха магнитофона в русской поэзии наступила по той единственной причине, что был изобретен и довольно быстро вошел в быт этот новый, технически неизмеримо более совершенный, чем граммофон и патефон, способ звукозаписи. Недаром ведь начало этой эпохи можно довольно точно датировать началом 1960-х годов – то есть тем самым временем, когда магнитофон стал у нас превращаться в такой же непременный атрибут быта, как радиоприемник и телевизор.
На самом деле, однако, причина тут была совсем другая.
При иных обстоятельствах магнитофонная лента, как недавно еще гибкие граммофонные пластинки «на костях» (на рентгеновских снимках), несла бы в массы не песни Окуджавы, Галича и Высоцкого, а – танцевальные и джазовые ритмы, какой-нибудь там рок-н-ролл или шейк. С этого бы все началось, этим и кончилось.
Мощным подземным толчком, вызвавшим к жизни это новое явление, была не техническая, а духовная перемена, суть которой – едва ли не первым – сформулировал Пастернак:
Воспоминание о полувеке
Пронесшейся грозой уходит вспять.
Столетье вышло из его опеки.
Пора дорогу будущему дать.
Не потрясенья и перевороты
Для новой жизни освещают путь,
А откровенья, бури и щедроты
Души воспламененной чьей-нибудь.
Кончилась эпоха, когда душами наших сограждан владели мелодии и ритмы, рожденные энергией «потрясений и переворотов», когда из всех репродукторов неслись эти бодрые, зажигательные марши и лозунги: «Легко на сердце от песни веселой…», «Нам песня строить и жить помогает…», «Только в нашей стране дети брови не хмурят, только в нашей стране песни радуют слух…», «Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет!..»
Энергия этого повсеместно звучащего «марша энтузиастов» давно уже начала иссякать. К середине века она себя исчерпала полностью.
Кажется, жалость теперь совершенно вырвана из русской жизни и из русского сердца, – писал о новом русском человеке Георгий Федотов. – Жалость для них бранное слово, христианский пережиток. «Злость» – ценное качество, которое стараются в себе развить. При таких условиях им не трудно быть веселыми. Чужие страдания не отравляют веселья, и новые советские песни, вероятно, не звучат совершенно фальшиво в СССР:
И нигде на свете не умеют
Как у нас, смеяться и любить…
Последнее наблюдение полностью соответствует действительности. И можно только подивиться, что это сумел почувствовать человек, живущий в эмиграции, в Париже, и отнюдь не склонный, как это видно даже из приведенного текста, к идеализации советского образа жизни.
Да, эти ликующие, радостные песни, утверждающие монолитную целостность мира, не звучали тогда фальшиво. Но причина этого загадочного явления была отнюдь не в тотальном ожесточении нации. Проницательно разглядев очень существенную черту мироощущения людей новой, «советской», нации, Федотов не смог найти ей правильное объяснение.
В рассказах людей, прошедших войну, часто повторяется один и тот же мотив. Глядя на поле боя, где лежат тела убитых, человек ловит себя на мысли, что мертвыми людьми он ощущает только своих. Убитые немцы для него вроде как и не люди, потому что они – за пределами его круга внимания (термин Станиславского).
Вот так же и поражавшие Федотова новые русские (советские) люди, распевая – «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!» – не чувствовали чудовищной фальши этих слов не потому, что были злыми и жестокими, равно как и не потому, что не подозревали о существовании лагерей и тюрем, где мучились и страдали миллионы их соотечественников, но лишь по той единственной причине, что все эти муки и страдания (о которых они, конечно же, знали: как не знать, если списки расстрелянных печатались в газетах) были за пределами их круга внимания.
Говоря проще, распевая эти песни или даже просто слушая их, подчиняясь властному обаянию их ритмов, мелодий и слов, люди в них верили.
Вот эта вера и иссякла к середине 1950-х. И с исчезновением ее пришло стойкое отвращение ко всему казенному, а вместе с ним – неистребимая тяга ко всему запретному.
Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые – это мразь, вторые – ворованный воздух.
О. Мандельштам. «Четвертая проза»
Осип Эмильевич написал это в самом начале 1930-х. Тогда еще так думали и так чувствовали немногие. Спустя двадцать лет это отвращение к разрешенной печатной продукции, к официальной «советской словесности», от которой, по меткому выражению Набокова, за версту несло «особым запахом тюремных библиотек», стало массовым. И такой же массовой стала острая, насущная потребность в новом, живом, а главное, – искреннем, неподцензурном слове. В том, что Мандельштам двадцать лет назад назвал ворованным воздухом.
Эту потребность и призвана была насытить, удовлетворить именно тогда – во благовремение – и родившаяся на свет новая форма существования российской поэзии.
Первой ласточкой этой весны был Булат Окуджава.
Есть у нас Булат!.
Успех самых первых его песен был ошеломителен. Едва ли не на самую первую из них тотчас же появилась любовная пародия (ее сочинил Валентин Берестов). Собственно, это даже и пародией назвать было нельзя. Это был – восторженный панегирик:
Вы слышите, грохочет барабан.
Вы слышите – звенит гитара в лад.
На черта нам Монтан, Монтан, Монтан?
Ведь есть у нас Булат, Булат, Булат!
А какое-то – очень короткое – время спустя другой поэт (Михаил Львовский) с исчерпывающей точностью объяснил природу этого неслыханного успеха:
Самогон – фольклор спиртного.
Запрети, издай указ,
Но восторжествует снова
Самодеятельность масс.
Тянет к влаге – мутной, ржавой,
От казенного вина,
Словно к песне Окуджавы,
Хоть и горькая она.
Нефильтрованные чувства
Часто с привкусом, но злы.
Самогонщик, литр искусства
Отпусти из-под полы!
Вспомним первые песни Булата Окуджавы: «Полночный троллейбус», «Часовые любви», «Из окон корочкой несет поджаристой…», «Комсомольская богиня…» Можно разве назвать их злыми? Нет, конечно! Да их и горькими-то, пожалуй, не назовешь. Скорее – светлыми, ясными, прозрачными… Но слово «злы» в процитированном стихотворении Львовского не было ни опиской, ни оговоркой. «Злы» эти песни были не в том смысле, что дышали злобой и ненавистью, а в том, в каком крепкий напиток народ искони называл зельем. Злой – это значит действует, забирает.
Песни Окуджавы забирали, брали за душу, как самый крепкий самогон. Ну и, конечно, то обстоятельство, что зелье это отпускалось «из-под полы», то есть было запретным, – тоже играло немалую роль.
Но тут – само собой – возникает некоторое недоумение: а почему, собственно, эти песни надо было запрещать?
Начальство, от которого исходил запрет, не могло сказать по этому поводу ничего вразумительного. Чуя носом, что песни эти им не по нутру, – мало сказать, не по нутру, что они глубоко им враждебны, угрожают самому существованию всей так бдительно оберегаемой ими системы, – более или менее внятно сформулировать, где именно таится в них крамола, они не могли.
Помню, когда на совещании в ЦК тогдашний секретарь по идеологии Ильичев упомянул как порочную песню Окуджавы про «золотую молодежь» (имелась в виду песенка: «А мы швейцару – отворите двери!..»), Булат (из зала) кинул реплику:
– У меня нет песни про «золотую молодежь». Это песня про рабочую молодежь.
Секретарь ЦК растерялся: крыть было нечем. Он величественно вскинулся: что, мол, вы тут мне подсунули? Тут же забегали вокруг него холуи, референты. Но возразить ничего не могли. Песня и в самом деле была про рабочих парней, заглянувших ненароком в какой-то фешенебельный ресторан.
В другой раз зав. отелом культуры ЦК Д.С. Поликарпов – один из самых лютых ненавистников Булата – мрачно буркнул по поводу песни, начинающейся словами: «Ах, война, что ж ты сделала, подлая…»:
– Я в подлой войне не участвовал.
Он же резко осудил финал песенки про Леньку Королева:
Но куда бы я ни шел, пусть какая ни забота
(по делам или так, погулять),
все мне чудится, что вот за ближайшим поворотом
Короля повстречаю опять.
Потому что на войне, хоть и правда стреляют,
не для Леньки сырая земля.
Потому что (виноват), но я Москвы не представляю
без такого, как он, короля.
Осудил – не более, не менее, – за то, что усмотрел в этих строчках призыв к установлению на Москве королевской власти.
Это было еще глупее. Но более внятно сформулировать, в чем порочность песен Окуджавы и почему их надлежит запретить, ни Ильичев, ни Поликарпов, ни более мелкие их прислужники и клевреты так и не смогли.
Дело между тем было ясное. И самую суть дела очень точно сформулировал однажды (в разговоре) Евгений Винокуров.
– Нельзя, – сказал он, – в одно и то же время петь Окуджаву и строить коммунизм. Петь «Нам песня строить и жить помогает» и строить коммунизм – можно. А спеть: «Девочка плачет, шарик улетел», а потом пойти и немножечко построить коммунизм – нет, невозможно даже и вообразить себе такое!
Песни Окуджавы были глубоко враждебны всем этим Ильчевым и Поликарповым уже по одному тому что захватывали они не ритмом сплоченной, вдохновленной одной идеей и бодро марширующей в четко заданном направлении толпы – массы, коллектива. (Недаром главными словами в тех старых советских песнях были местоимения множественного числа – «мы», «нам»: «Мы рождены, чтоб сказу сделать былью…», «Нам нет преград ни в море, ни на суше…») В песнях Булата завораживал, тревожил, волновал, брал за душу одинокий голос, не боящийся говорить о себе и от себя. Он говорил не «мы», а – «я», не «нам», а – «мне»: «Я гляжу на фотокарточку…», «Я в синий троллейбус сажусь на ходу…», «Мне надо на кого-нибудь молиться…»
Дело, конечно, не в местоимениях. В старых советских песнях личное местоимение первого лица и единственного числа тоже нет-нет да и попадалось. Но в тех песнях даже оно произносилось как бы от имени всего советского народа: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек…» И тут же поспешно, словно автор вовремя спохватился, что его могут неправильно понять, оно заменялось гораздо более тут уместным местоимением множественного числа: «Но сурово брови мы насупим…» и т. д. Булат же даже в тех – редчайших – случаях, когда он прибегает к местоимению множественного числа («Нас время учило: живи по-привальному, дверь отворя…», «Наши девочки платьица белые раздарили девчонкам своим…»), тоже говорит о себе и от себя. И хоть личная его судьба (как и судьба всего его поколения) в этом случае оказывается песчинкой, могучим ветром истории, втянутой в великие «потрясенья и перевороты» эпохи, лирической темой песни, ее внутренней энергией и тут остаются все те же «откровенья и щедроты» его сострадающей одинокой души:
Сапоги – ну куда от них денешься?
И зеленые крылья погон…
Вы наплюйте на сплетников, девочки.
Мы сведем с ними счеты потом.
Пусть болтают, что верить вам не во что,
что идете войной наугад…
До свидания, девочки!
Девочки, постарайтесь вернуться назад.
«Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, не жалейте ни пуль, ни гранат. И себя не щадите… – говорит он, обращаясь к своим сверстникам в этой же песне. – И все-таки…»
Вся соль именно вот в этом – «И все-таки…»
Старая, «добулатовская» песня всем строем своим, всем своим пафосом (в былые времена искренним, позже – заказным, казенным) утверждала безусловный приоритет государственных интересов над интересами одной, отдельно взятой человеческой личности:
Забота у нас большая.
Забота у нас такая:
Жила бы страна родная —
И нету других забот.
Песни Булата Окуджавы всем своим душевным настроем утверждают противоположное. В этом главный и – очень личный – пафос всего его творчества. И его исторических романов, и его – так называемых гражданских, и сугубо интимных лирических стихов и песен:
– Господин лейтенант, что это вы хмуры?
Аль не по сердцу вам ваше ремесло?
– Господин генерал, вспомнились амуры —
не скажу, чтобы мне с ними не везло.
– Господин лейтенант. Нынче не до шашней:
скоро бой предстоит, а вы все про баб!
– Господин генерал, перед рукопашной
золотые деньки вспомянуть хотя б…
– На полях, лейтенант, кровию политых,
расцветет, лейтенант, славы торжество…
– Господин генерал, слава для убитых,
а живому нужней женщина его…
– Ну гляди, лейтенант, каяться придется!
Пускай счеты с тобой трибунал сведет…
– Видно, так, генерал: чужой промахнется,
а уж свой в своего всегда попадет.
Всем, кто истошно орал – и ныне продолжает орать на всех перекрестках, что им за державу обидно, он тихим своим, проникновенным голосом словно бы отвечает:
– А мне обидно за человека, которого всю дорогу вот эта самая держава – и в войну, и в мирное время – безжалостно растаптывала пудовым своим сапогом.
И в конце концов этот слабый, одинокий голос заглушил, пересилил, победил не только гром духовых оркестров, во всю свою мощь исторгавших из своих медных глоток бесконечный марш энтузиастов, но и грохот стальных гусениц по брусчатке, и громовые раскаты праздничных орудийных салютов могучей ядерной державы:
Римская империя времени упадка
Сохраняла видимость полного порядка.
Цезарь был на месте, соратники рядом.
Жизнь была прекрасна, судя по докладам.
А критики скажут, что слово «соратник»
не римская деталь,
Что это словечко всю песенку смысла лишает…
Может быть, может быть… Может быть, не римское,
не жаль!
Мне это совсем не мешает.
И даже меня украшает.
Жители империи времени упадка
Ели, что достанут, напивались гадко.
Каждый на рассвете на рассол был падок.
Видимо, не знали, что у них упадок.
А критики скажут, что слово «рассол», мол,
не римская деталь.
Что это словечко всю песенку смысла лишает.
Может быть, может быть… Может быть, не римское,
не жаль!
Мне это совсем не мешает и даже меня украшает…
Женщины империи времени упадка…
Только им, красавицам, доставалось сладко.
Все пути открыты перед ихним взором:
Хочешь – на работу, а хочешь – на форум!
А критики – хором:
– Ах, форум, ах, форум! Вот – римская деталь!
Одно лишь словечко, а песенку как украшает!..
Может быть, может быть… Может быть, и римское.
А жаль!
Оно мне мешает, и песенку смысла лишает.
Сочинено это было еще до перестройки, во времена так называемого застоя. И одна только эта песенка легко и грациозно опровергает все бредни насчет того, что три человека собрались где-то там – в Беловежской пуще – и из сугубо личных, шкурных своих целей и побуждений развалили великую державу
Ну, а те, кто искренне верит в эту чепуху, видимо, и в самом деле не видели, не чувствовали, «не знали, что у них упадок».
«Нас мало. Нас, может быть, трое…»
Булат Окуджава – поэт. Но поэтов… Чуть было не сказал – много… Нет, истинных поэтов, конечно, немного. В любую эпоху – по пальцам можно пересчитать. Прав был Пастернак, сказавший в свое время: «Нас мало. Нас, может быть, трое…»
Если говорить о сверстниках Булата – поэтах его поколения, – можно назвать пятерых. От силы – шестерых.
Но Булат Окуджава как некое художественное явление – один. Второго такого нет и не будет.
В один ряд с ним я поставил Галича, Высоцкого, Алешковского, Кима. И то же, что о нем вроде можно сказать и о любом из них. Творческий облик каждого из этого ряда – это совершенно особый феномен, вобравший, включивший в себя несколько ипостасей: поэтический текст, музыкальную мелодию, голос, манеру исполнения… И все это нельзя оторвать от личности, от неповторимой художественной индивидуальности автора.
Но это – о том, что их объединяет. В остальном же все они – очень разные.
В творческом облике Галича доминирует автор текста. Я бы даже сказал, драматург. Его песни – это маленькие драмы.
В творческом облике Высоцкого – голос и неповторимая, только ему присущая манера исполнения.
У Булата все три ипостаси его творческого облика слиты в совершенно поразительное по своей органичности и гармоничности художественное единство.
Замечательный знаток и вдумчивый аналитик художественных явлений этого рода – Лев Шилов – в тексте на конверте пластинки Булата, выпущенной фирмой «Мелодия» в 1986 году, писал:
Длящаяся многие годы и все растущая популярность его песен дает основание уточнить одно давнее определение этого жанра, которое когда-то дал Павел Антокольский и которое не раз повторял и сам автор, говоря, что «это не совсем песня, это способ исполнения своих стихотворений под аккомпанемент».
Четверть века назад в этой формулировке был определенный резон и даже насущная необходимость: она выводила песни Окуджавы из-под яростного обстрела профессионалов-композиторов, профессионалов-гитаристов и профессионалов-вокалистов.
Но теперь, когда улеглись страсти, так бурно бушевавшие два десятилетия назад вокруг этого имени, и когда уже десятки песен Окуджавы прозвучали с экранов кино и телевидения, легли на граммпластинки, вошли в спектакли и радиопередачи, – теперь стали совершенно несомненны и их музыкальные достоинства, высокий уровень композиторского и исполнительского дара Булата Окуджавы. Еще для многих необычного, но уже почти для всех очевидного. Мелодии песен Окуджавы, чаще простые, а иногда и весьма прихотливые, удивительно красивы…
Пленяют, околдовывают слушателей песен Окуджавы и красивый тембр его голоса, и обаятельная манера исполнения… Может быть, поэтому большинство любителей песен Окуджавы так ревниво относятся к любому другому исполнению этих песен и даже к самой малой, самой деликатной попытке сделать более ярким, выразительным их звучание при помощи какого-либо звукотехнического приема или дополнительного музыкального сопровождения…
Последнее замечание как нельзя более точно.
В начале 1960-х в Польше была выпущена пластинка, на которой песни Булата были записаны в исполнении нескольких замечательных польских певцов – под аккомпанемент то ли маленького оркестра, то ли электрогитары. Пели польские певцы изумительно, а главное, на редкость тактично, нимало не выпячивая свою исполнительскую манеру Аккомпанемент звучал божественно… Но в конце пластинки, последним ее номером прозвучал голос самого Булата: одну свою песню (про Агнешку) он спел сам. И одинокий голос Булата, самые простые, непритязательные переборы его гитары, на которой он и играть-то толком не умел, легко, без малейшего усилия заслонили, победили все эти музыкальные и исполнительские изыски. И тончайшую оранжировку, и виртуозный музыкальный аккомпанемент, и безукоризненный «вокал» профессиональных певцов-исполнителей.
Но произошло это, я думаю, не благодаря, как уверяет нас Шилов, высокому уровню композиторского и исполнительского дара Булата Окуджавы. И уж совсем не благодаря красивому тембру его голоса и обаятельной манере исполнения.
Голоса у польских певцов были, быть может, даже более красивого тембра, чем у Булата. И манера их исполнения была никак не менее обаятельна, чем у него.
Причина его «победы» была иная.
Все дело тут в том, что слово «исполнение» применительно к Булату вообще не уместно. Ведь слово это как бы предполагает, что есть некое произведение, которое может быть исполнено – так или иначе. Тем исполнителем или другим. (Как, скажем, вальс Шопена – разными пианистами, а «Рондо-каприччиозо» Сен-Санса – разными скрипачами.)
В случае Булата Окуджавы все дело в том, что голос и интонация певца, авторская манера воспроизведения его песен – все это является как бы живой плотью произведения, его телом. И оторвать песню Булата от его голоса, от его индивидуальной, только ему одному присущей интонации – это все равно, что пытаться извлечь душу из тела.
Песни Булата, оторванные от его голоса, теряют неизмеримо больше, чем песни – хоть того же Галича.
Это связано с коренной особенностью его поэтики.
Галич гораздо в большей степени мастеровит. Тексты его песен гораздо искуснее текстов Булата. Не в том смысле, что в них больше искусства, а в том, что они – техничнее. Уровень стихотворной, версификационной, да и чисто словесной техники у Галича высок необычайно:
Поясок ей подарил поролоновый,
И в палату с ней ходил Грановитую.
А жена моя, товарищ Парамонова.
В это время находилась за границею…
…Я к ней в ВЦСПС, в ноги падаю,
Говорю, что все во мне переломано.
Не серчай, что я гулял с этой падлою.
Ты прости меня, товарищ Парамонова!
Помимо поразительной словесной точности, психилогической и социальной подлинности этих речевых характеристик, какие точные, глубокие и, вместе с тем, не банальные, изысканные рифмы: «Грановитую – за границею», «поролоновый – Парамонова», «падаю – падлою».
У Булата вы ничего подобного не найдете.
Он берет не техникой, а – душой.
У него сама душа поет.
Это проявляется, между прочим, и в том, что он не боится быть и патетичным, и выспренним. И даже банальным
Он, кстати, единственный из всех своих собратьев, не скрывает – и не стыдится – своего родства с Вертинским.
Помните – у Вертинского:
Как поет в хрусталях электричество,
Я влюблен в вашу тонкую бровь.
Вы танцуете, ваше величество!
Королева любовь.
А вот – у Булата:
Тьмою здесь все занавешено
И тишина, как на дне.
Ваше величество, Женщина,
Да неужели – ко мне?
О, ваш визит, как пожарище!
Дымно, и трудно дышать.
Ну, проходите, пожалуйста,
Что ж на пороге стоять.
Кто вы такая? Откуда вы?
Ах, я смешной человек!
Просто вы дверь перепутали,
Улицу, город и век.
Не только по этому его стихотворению судя, но и по многим другим – он и сам тоже перепутал «улицу, город и век». Кто еще – кроме него – из поэтов XX века осмелился бы вот так просто и естественно воскликнуть: «О!» Или: «Ах!» Разве только Есенин. И, как у одного только Есенина, у него тоже все эти «О!» и «Ах!» почему-то не кажутся искусственными, выспренними, стилизованными, ненатуральными. В его устах эти давно уже вышедшие из употребления, старомодные восклицания звучат органично, естественно. Потому что, как прекрасно он сам сказал однажды:
Каждый пишет, как он слышит.
Каждый слышит, как он дышит.
Как он дышит, так и пишет,
Не стараясь угодить…
Так природа захотела.
Почему?
Не наше дело.
Для чего?
Не нам судить.
Естественно, легко и просто – как дыхание – вылились и отлились в этих немногих словах два – главных – закона художественного творчества. Первый: «Как он дышит, так и пишет». И второй: «Не стараясь угодить».
Менее всего, я думаю, имеется тут в виду, что поэт (художник) не должен стараться угодить начальству. Угождать властям – это уж самое последнее, самое постыдное дело. («Беда стране, где раб и льстец одни приближены к престолу…») Не стараясь угодить – это значит не заискивать ни перед модой, ни перед читателем – не идти на поводу у чьих бы то ни было – пусть даже самых изысканных, самых «передовых» – художественных заветов и вкусов. Быть верным только себе. Своему дару. Органически присущей каждому истинному художнику потребности выражать себя, изливать душу свою – «в заветной лире»:
Моцарт на старенькой скрипке играет.
Моцарт играет, а скрипка поет.
Моцарт отечества не выбирает —
просто играет всю жизнь напролет.
Художник не выбирает не только отечества, но и эпоху, в которой суждено было ему родиться, жить и творить. Не выбирает он себе и аудиторию: приходится довольствоваться той, какая ему досталась. Но это все неважно. Не имеет значения. Какая бы ни выпала ему судьба, он должен делать свое дело:
Не обращайте вниманья, маэстро,
не убирайте ладони со лба.
Тут, конечно, возникает естественный вопрос: а как же читатель? Не читающая публика сезона, суждениями и вкусами которой можно пренебречь, а – тот идеальный, главный потребитель истинного искусства, ради которого он, художник, должен жить и творить? Ведь не только Ленин с товарищами вдалбливали нам, что искусство должно принадлежать народу Разве не об этом же говорил, не этим же гордился и сам великий основоположник новой русской литературы, наш национальный гений: «И долго буду тем любезен я народу…»
Не думать даже и о народе? Вообще ни о ком? Не только о современниках, но даже и о потомках? Угождать только себе – своим капризам, желаниям и прихотям? Не мелко ли это?
У Булата Окуджавы есть свой ответ на этот вопрос. И ответ этот, как всегда у него – прост и ясен. Но при всей своей ясности, краткости и простоте он – исчерпывающий:
У поэта соперников нету
ни на улице и ни в судьбе.
И когда он кричит всему свету,
это он не о вас – о себе.
Руки тонкие к небу возносит,
жизнь и силы по капле губя.
Догорает, прощения просит:
это он не за вас – за себя.
Но когда достигает предела
и душа отлетает во тьму…
Поле пройдено. Сделано дело.
Вам решать: для чего и кому
То ли мед, то ли горькая чаша,
То ли адский огонь, то ли храм…
Все, что было его, – нынче ваше.
Все для вас. Посвящается вам.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































