Текст книги "Если бы Пушкин…"
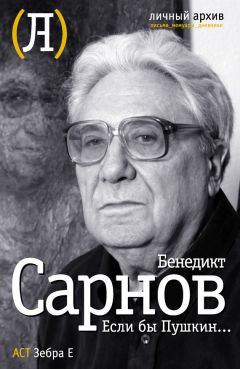
Автор книги: Бенедикт Сарнов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 41 (всего у книги 53 страниц)
Писатель на необитаемом острове
1
В статье «Величие и падение «мовизма»» я уже рассказывал о «мысленном эксперименте», который проделал однажды (в предисловии к книге рассказов 1924 года) А.Н. Толстой. Он задался таким вопросом: нашелся бы хоть один чудак писатель, который, оказавшись, подобно Робинзону, на необитаемом острове, продолжал бы и в этих исключительных обстоятельствах сочинять пьесы, романы, рассказы, стихи? Ответ на этот в достаточной мере лукавый вопрос, как ему представлялось, мог быть только однозначно и категорически отрицательный, ибо «художник заряжен лишь однополой силой», а «для потока творчества нужен второй полюс, – вни-матель, сопереживатель».
В той же статье я говорил о том, что такой «чудак» все-таки нашелся: Василий Розанов.
Но таких оригиналов, как В.В. Розанов, не то что в русской, но и в мировой литературе не шибко много. Возникает законный вопрос: не является ли индивидуальный опыт этого писателя тем исключением, которое, согласно известной поговорке, только подтверждает правило?
Художественный опыт Розанова во многом действительно уникален. Ему действительно в большей мере, чем кому другому, была свойственна чуть ли не маниакальная жажда самовыражения. Но я все же не думаю, что в этом своем качестве он был такой уж белой вороной.
У мифического царя Мидаса, как известно, были ослиные уши, которые он прятал под фригийской шапочкой. Только один-единственный человек из всех подданных царя мог видеть этот царский изъян: его брадобрей. Брадобреев поэтому всякий раз приходилось убивать. Но однажды царь пожалел мальчишку-цирюльника и не казнил его взяв при этом с него клятву, что тот ни за что, никому, ни при каких обстоятельствах не выдаст страшную тайну. Мальчишка знал, что, не сохранив тайну, он погибнет мученической смертью. Но тайна жгла, томила его, нести бремя этой тайны с каждым днем было для него все невыносимее. И вот он вырыл ямку в земле и крикнул туда: «У царя Мидаса – ослиные уши!»
Продолжение сказки известно. На месте той ямки вырос тростник. Тростинку срезал пастух, сделал из нее дудочку, и дудочка в устах пастуха пропела на весь белый свет, что у царя Мидаса ослиные уши. Тайна вышла наружу.
Вероятно, из этой притчи можно извлечь много смыслов. Но я рассказал ее здесь, чтобы подчеркнуть лишь один. Мальчишка-цирюльник, вырывший ямку и выкрикнувший в нее эти разрывающие его слова, ни о чем не думал, ни на что не рассчитывал. Он сделал это, просто чтобы отделаться от непосильного для него бремени.
Каждый истинный художник в чем-то сродни этому сказочному мальчику-брадобрею.
Крамской говорил о своей картине «Христос в пустыне»:
Уже пять лет неотступно он стоял передо мною; я должен был написать его, чтобы отделаться… Во время работы за ним я много думал, молился и страдал… Бывало, вечерком уйдешь гулять и долго по полям бродишь, до ужаса дойдешь, – и вот: видишь фигуру… Сидит один между печальными, холодными камнями. Руки судорожно и крепко сжаты, пальцы впились, ноги поранены, и голова опущена… Вы спрашиваете: могу ли я написать Христа?.. Совершил, может быть, профанацию, но не мог не писать. Должен написать… не мог обойтись без этого…
Можем ли мы с уверенностью утверждать, что видение Христа в пустыне, так упорно преследовавшее художника, что он не мог отделаться от него иначе, как попытавшись перенести его на холст, – можем ли мы утверждать, что видение это оставило бы его в покое, окажись он на необитаемом острове?
Конечно, не все творцы, не все подлинные художники созданы по единому образу и подобию. Вероятно, имеют право на существование и другие, заряженные, как говорит А.Н. Толстой, «лишь однополой силой». Не знаю. Но одно я знаю твердо. Писатель, о котором пойдет речь в этой статье, принадлежит именно к той категории художников, которые не перестали бы творить и на необитаемом острове.
В каком-то смысле можно даже сказать, что с ним именно так все и было. Он начал свой литературный труд и сложился как зрелый, состоявшийся, самобытный художник, находясь на «необитаемом острове» и почти не имея никаких надежд этот свой «необитаемый остров» когда-либо покинуть.
2
С автором этой книги Геннадием Файбусовичем (он тогда еще не был Борисом Хазановым) меня познакомил Борис Володин, работавший в то время в журнале «Химия и жизнь». Кто-то из знакомых будущего Бориса Хазанова предложил ему написать для этого журнала какую-нибудь статью. Скажем, о медицине. Или о биологии. (По образованию Геннадий
Моисеевич был медиком и работал тогда врачом в одной из московских больниц.)
Глянув на статью опытным редакторским глазом, Володин сразу понял, что имеет дело с литератором высокого профессионального класса. Это, понятно, его удивило.
– А вы еще что-нибудь до этого писали? – поинтересовался он. Автор статейки, помявшись, признался, что да, действительно писал.
– А вы не могли бы мне показать все когда-либо вами написанное?
Без особого восторга, не слишком даже охотно, тот согласился. Прочитав это «все», Володин позвонил мне. Следом за ним повести и рассказы Геннадия Файбусовича (а их к тому времени было написано уже немало) прочитал и я. Прочитал и – что называется – разинул рот. Передо мной был вполне сложившийся, законченный писатель, со своим миром, своим художническим зрением. Но самым удивительным, пожалуй, тут было то, что проза эта была отмечена не только печатью несомненного художественного дарования, но и несла на себе все признаки зрелого, утонченного, я бы даже сказал – изысканного, мастерства. Видно было, что автор – далеко не новичок в писательском деле.
– Давно вы пишете? – задал я стереотипный вопрос, когда мы встретились.
Ответ последовал неопределенный. Но я и не ждал определенного ответа. Мне было ясно: чтобы так писать, надо было начать давно. Очень давно. В самой ранней юности. И отдаваться этому занятию не урывками, а постоянно. Всю жизнь.
Впоследствии выяснилось, что так оно в действительности и было. Но тогда я расспрашивать его об этом не стал. Я только спросил, давал ли он до меня и Володина кому-нибудь еще читать свои прозаические опыты. Выяснилось, что читала его повести и рассказы только жена. И ей они не нравятся.
– И у вас никогда не было потребности показать их еще кому-нибудь?
Он в ответ только пожал плечами.
Такое отношение к своим писаниям показалось мне по меньшей мере странным. В нашей литературной среде оно выглядело не то что необычным, а прямо-таки поразительным. Еще с литинститутских времен я привык, что каждый из нас, написав «что-нибудь новенькое», тотчас спешит сообщить об этом всем окружающим и с нетерпением ждет непременного: «прочти» или «дай почитать», чтобы поскорее получить долю причитающихся ему комплиментов. Впрочем, дело было не только в жажде аплодисментов. Больше всего на свете каждый из нас боялся вызвать подозрение в литературной импотенции. Литератор подобен курице, которая, снеся яйцо, долго кудахтает над ним, стремясь оповестить об этом важном событии всю вселенную.
Я подумал тогда, что отсутствие у моего нового знакомца потребности делиться результатами своего труда с кем бы то ни было обусловлено тем, что у него – сознание дилетанта, то есть человека, для которого литературные занятия – не профессия, а хобби. Ну и, конечно, мелькнула мысль, не обошлось здесь и без некоторого чудачества, порожденного то ли индивидуальными особенностями характера, то ли обстоятельствами сугубо биографическими. (Я уже тогда знал, что, будучи студентом последнего курса классического отделения филфака МГУ, он был арестован и шесть лет провел в сталинских лагерях, а после лагеря, перечеркнув всю свою прошлую долагерную жизнь, поступил на медицинский факультет, окончил его, стал врачом, тем самым как бы окончательно поставив крест на «гуманитарных» увлечениях своей юности. Кто знает, может быть, втайне он даже стыдился признаться вслух, что до седых волос не может расстаться со своей «детской» страстью к литературе.)
Позже мне пришло в голову еще одно, гораздо более серьезное соображение: подпольный, тайный характер его литературных занятий мог объясняться годами выработавшейся (и не только в лагере) привычкой к некоторой, ну, конспирации, что ли. Ведь в нашем государстве, даже в самые либеральные периоды его истории, всякая несанкционированная литературная деятельность неизменно была под подозрением. С одной стороны, писательство, конечно, поощрялось. Но лишь в том случае, если человек писал нечто «общественно полезное», стремился свои писания обнародовать, стать литератором-профессионалом, то есть членом Союза писателей, в худшем случае – Союза журналистов, членом групкома литераторов, наконец. Но если человек по ночам или в другое свободное от основной своей работы время кропает что-то такое для с е б я… Нет, это из рук вон! Это никуда не годится! Такую пагубную страсть, разумеется, надо было тщательно скрывать.
Но с тех пор утекло много воды. Внешние условия существования писателя Бориса Хазанова переменились радикально. Он давно уже живет в стране, где занятия такого рода никому не представляются подозрительными, а тем более криминальными.
Однако привычки и умонастроения его – не только поведение, но и, так сказать, внутреннее, интимное отношение к своим литературным занятиям – не изменилось ничуть.
В беседе с американским славистом, профессором Мэрилендского университета Джоном Глэдом (она была опубликована в журнале «Время и мы») на вопрос, что изменилось в его жизни после того, как он оказался в эмиграции, Борис Хазанов ответил так:
Для меня, вообще говоря, ничего не изменилось, мне нечего было терять… в собственно литературном смысле слова. Внешне изменилось то, что никто ко мне не придет, не отнимет у меня рукопись, не потащит меня на допрос. Это, конечно, немалое приобретение… Но основные принципы работы, то, что вытекает из особенностей личности, – все это, естественно, осталось. Я был одиночкой там, остался одиночкой и здесь. Я, в сущности, работаю в безвоздушном пространстве. Конечно, я издал несколько книг, время от времени печатаю статьи, но я не представляю себе, кто это все читает, читает ли это кто-нибудь вообще.
Да, конечно, многое тут объясняется индивидуальными особенностями характера – тем, что принято называть экзистенцией, то есть коренными, сущностными свойствами личности.
Но было тут и другое.
За этим образом поведения лежала сложившаяся, выношенная, во всех своих подробностях и деталях продуманная концепция.
Эту концепцию Борис Хазанов впервые изложил очень давно в одном частном письме, адресованном безвестному молодому литератору. Письмо представляло собой документ в известном смысле программный. Оно даже было несколько торжественно озаглавлено: «Письмо к писателю». Но, в полном соответствии с характером автора и исповедуемой теорией, так и осталось частным письмом и, насколько мне известно, никогда и нигде не публиковалось.
В этом «Письме» автор развивал свою любимую мысль, которую он частенько повторял в наших с ним постоянных разговорах на литературные темы. Речь шла о так называемой неклассической литературе и ее связи с неклассической физикой. Классический роман XIX века он сопоставлял с картиной мира, описанной Ньютоном, уподоблял его ньютоновской, компактной, прочно устроенной вселенной, где все происходит точно в соответствии с законами, где все будущее строго зависит от всего прошедшего.
В те времена предполагалось, что существует некоторый общеобязательный объективный мир и некоторая идеальная точка зрения, с которой этот мир может быть созерцаем наиболее совершенным образом: это и есть точка зрения художника. Время в этом мире было чем-то безусловно объективным, то есть протекающим для всех с одной и той же скоростью, что доводилось до сознания читателя при помощи классической линейной последовательности изложения: все следствия происходили после причин, герои никогда не умирали прежде, чем родиться. («Время в моем романе расчислено по календарю», – заверял читателей своего «Онегина» Пушкин.)
И вот эта уютная, прочно и толково устроенная вселенная рухнула.
Великой революции в физике соответствует столь же грандиозная революция в искусстве. И подобно тому как эта первая революция связывается обычно с именем Эйнштейна, так вторая по праву должна быть связана с именем Достоевского. Именно Достоевским, утверждает Борис Хазанов, был впервые дискредитирован объективный мир, а вместе с ним и всезнающий, всевидящий, всепонимающий мироо-писатель. В старом романе художник был подобен творцу, единодержавному богу: он незримо присутствовал везде, но его не было видно. Он воплощал ту идеальную точку зрения, с которой видно все: весь мир и все души. И никому не приходило в голову спросить: а откуда автор знает, о чем думала Анна Каренина за миг до смерти, ведь она ни с кем не успела поделиться этими мыслями? Такой вопрос не мог даже и возникнуть: на то он и автор, чтобы знать самые сокровенные мысли созданных им персонажей.
И вот этот бог исчез. И точка зрения, с которой отныне имеет дело читатель, уже, оказывается, вовсе для него не обязательна, потому что вдруг, нежданно-негаданно выяснилось, что нет на свете истины, одинаковой для всех: любая точка зрения более или менее случайна. И время, бывшее в старом, классическом романе единым для всех, теперь для разных персонажей протекает по-разному. Романист XX века обращается с временем весьма свободно: он то сгущает его, то растягивает…
Я не стану более подробно излагать суть этой концепции современного искусства: полагаю, что даже в этом моем довольно неуклюжем изложении основная мысль Б. Хазанова достаточно ясна. Стоит, пожалуй, только добавить, что «Письмо», в котором он излагал эти свои соображения, было подлинным гимном вот этой самой новой, неклассической прозе, в которой «мир предстает перед нами искривленным и поначалу кажется иррациональным. Но этот мир, в котором читатель чувствует себя заблудившимся, как Дант, потерявший Вергилия, пронзительно правдив».
Борисом Хазановым движет уверенность, что старый, классический роман уже не способен правдиво отразить действительность, в которой мы живем. Он не говорит об этом прямо, но мысль его именно такова, тут не может быть сомнений:
Можно было бы объяснить, откуда возникла такая концепция. Она – порождение века, в котором человек перестал чувствовать себя хозяином не то чтобы на всей планете, – этого, слава Богу, никогда не было, – но на своем маленьком клочке земли, в своей собственной квартире. Она детище того времени, когда каждый ощущает себя обездвиженным придатком, а то и рудиментом, в чудовищно сложном и непостижимом мире, который отлично может обойтись без него; когда все мы точно висим на подножке переполненного трамвая; когда стоимость человеческой личности стремительно падает и каждый на самом себе испытывает тяжесть гнета анонимных человеческих институтов, непостижимым образом ведущих самостоятельное, не зависящее от воли людей существование, – армии, государства, тайной и явной полиции, идеологического аппарата и механизмов массовой информации. Вместе с тем это искусство представляет собой героическую и по-своему действенную попытку отстоять человечность в обезличенном и обесчеловеченном мире.
Последняя фраза нуждается в некоторых разъяснениях. Героические стимулы всегда были свойственны искусству. Классической прозе XIX века не в меньшей мере, нежели той неклассической прозе, убежденным приверженцем и апологетом которой выступает в этом отрывке Борис Хазанов.
Один из самых глубоких исследователей творчества Л.Н. Толстого Б.М. Эйхенбаум посвятил этой теме специальную статью. Рассуждая о стимулах, побуждавших Льва Николаевича творить, он приводил тот самый отрывок из его письма А.А. Толстой, на который я уже ссылался однажды.
Вы говорите, что мы как белка в колесе… Но этого не надо говорить и думать. Я по крайней мере, что бы я ни делал, всегда убеждаюсь, что du haut de ces pyramides 40 siecles me contemplent и что весь мир погибнет, если я остановлюсь.
Приведя эту цитату, Б. Эйхенбаум так ее комментирует:
Речь здесь идет именно о стимулах: Толстой не хочет соглашаться, что мы «как белка в колесе»… В противовес формуле «как белка в колесе» он приводит слова Наполеона, сказанные в Египте… Но следом за этой формулой приводится другая, ведущая свое происхождение из философии Шопенгауэра и еще более многозначительная: «Весь мир погибнет, если я остановлюсь». Толстой, оказывается, чувствует себя центром мира, его главной движущей силой – солнцем, от деятельности которого зависит вся жизнь. Как ни фантастичен этот стимул – он составляет действительную основу его поведения и его работы… Толстой может работать только тогда, когда ему кажется, что весь мир смотрит на него и ждет от него спасения, что без него и его работы мир не может существовать, что он держит в своих руках судьбы всего мира. Это больше, чем «вдохновение», – это то ощущение, которое свойственно героическим натурам… Совсем не этика руководила Толстым в его жизни и поведении: за его этикой как подлинное правило поведения и настоящий стимул к работе стояла героика.
Вывод этот, при всей своей кажущейся убедительности, не представляется мне вполне справедливым. Толстой ведь прекрасно понимал, что мир не погибнет, если он прекратит свою работу. Более того: в глубине души он, вероятно, понимал даже, что деятельностью своей, сколь гигантским ни было бы воздействие ее на людей, он не в силах хоть сколько-нибудь изменить ход мировой истории, хоть на йоту отклонить развитие мировых событий от «заданного курса»: вся философия истории Л.Н. Толстого может служить подтверждением несомненности этого вывода.
В письме к Н. Страхову, жалуясь на очередную остановку в работе, Толстой вскользь обронил:
Все как будто готово для того, чтобы писать – исполнять свою земную обязанность, а недостает толчка веры в себя, в важность дела, недостает энергии заблуждения.
Поразительное словосочетание это – энергия заблуждения – с исчерпывающей ясностью объясняет смысл его формулы: «весь мир погибнет, если я остановлюсь». Формулу эту ни в коем случае не следует понимать буквально. Это чувство, это сознание, что весь мир остановится, если он прекратит работу над своим романом, – всего лишь энергия заблуждения, то есть самообман, без которого он не может творить. Да и в письме к А.А. Толстой, которое цитирует Б. Эйхенбаум, эта мысль просвечивает довольно ясно. Толстой ведь прямо говорит там, что ему, в сущности, нет дела до того, живем ли мы и работаем «как белка в колесе». Пусть даже это действительно так. Чтобы жить и работать, «этого не надо говорить и думать».
В сущности, Толстой рассуждает как экзистенциалист: пусть моя жизнь и работа не имеют ни малейшего смысла, я все равно должен жить и работать так, как будто мир погибнет, если я остановлюсь.
Но если это так, в чем же тогда разница между героическими стимулами, движущими пером Льва Толстого, и героическими стимулами, побуждающими творить писателей новой эпохи?
Разница в том, что на тех писателей, от имени которых говорит в своем «Письме» Борис Хазанов, никакая энергия заблуждения уже не действует. В том мире, где им предстоит жить, источники этой энергии давно иссякли. Ни при каких обстоятельствах, никакими силами они уже не смогут заставить себя поверить, что их работа может хоть что-нибудь изменить в мире, где «все мы точно висим на подножке переполненного трамвая». Но даже ощущая себя «обездвиженным придатком в мире, который отлично может обойтись без него», он упорно, настойчиво, вопреки всем запретам и помехам, продолжает заниматься своим делом. Не потому, что верит, что это нужно его ближним или «дальним», современникам или потомкам, читающей публике сезона или человечеству, а только лишь по той единственной причине, что это необходимо ему самому.
3
Ему было 15 лет, когда он сделал ошеломившее его открытие. Но лучше пусть он расскажет об этом сам:
Я жил чудной, магической жизнью подростка, которую я не в силах сейчас описать. Глухое татарское село, больница, где работала моя мать, с общим корпусом, как две капли воды похожим на флигель, где находилась палата № 6, холмы, поросшие лесом, река, сугробы, сани, звон почтового колокольчика, милиционер в форменной шинели и лаптях, деревенский базар, все впечатления никогда не виданной мною «почвы» перемешались в моей душе с образами книг, с «Разбойниками» и «Заговором Фиеско», с Фаустом, в котором больше всего меня поразили не приключения с Маргаритой, а таинственная обстановка средневековой кельи, знак Макрокосма и духи, с Герценом, со стихами Блока… В это же время совершилось во мне то, что можно было бы назвать «кризисом веры».
Кризис заключался в том, что я перестал верить в советскую власть… Точнее, я перестал верить в то, чему учили, что говорили о политике, о революции и социалистическом строе. Например, рассказывалось о том, что в 1940 году прибалтийские республики добровольно вошли в состав СССР, а я в школе на перемене в яростном споре доказывал кому-то из одноклассников, что мы просто-на-просто захватили Литву, Латвию и Эстонию, воспользовавшись их беззащитностью. Рассказывалось о счастливой колхозной деревне, а я видел, что люди не могут говорить о колхозе без ненависти и насмешки… Каждый день я открывал что-нибудь новое; каждый день падал какой-нибудь очередной глиняный идол. Так повалились одна за другой «первая в мире страна», «власть трудящихся», «дружба народов», «закон, по которому все мы равны», рухнул, разбившись вдребезги, и сам великий вождь и учитель, и только Ленин все еще оставался невредим, точно был вырублен из прочного известняка, а не слеплен, как все прочие, из алебастра… Как и подобает мыслящему человеку, я вел дневник, в котором начертал, когда мне было 16 лет, мысль, казавшуюся мне необыкновенно оригинальной, о том, что «у нас здесь, в СССР, – фашизм!». Я рассуждал о том, что если бы Ленин был жив, то был бы наверняка объявлен врагом народа и расстрелян, вроде того как у Достоевского Великий инквизитор собирается сжечь Христа, действуя от его же имени.
Я сделал эту длинную выписку из неопубликованного автобиографического наброска Бориса Хазанова не для того, чтобы показать, каким умным и проницательным подростком он был, как рано прозрел, как быстро открылись ему истины, которые многие его сверстники постигали десятилетиями, по капле выдавливая из себя прочно вбитые в их бедные головы фетиши. Цитата эта понадобилась мне для того, чтобы показать, какую огромную власть над его душой уже тогда имела литература. Все его жизненные впечатления, все социальные, политические и экономические откровения, рожденные первым столкновением (война, эвакуация) с реальностью советской жизни, переплетены, пронизаны литературными ассоциациями. Тут и чеховская «Палата № б», и драмы Шиллера, и «Фауст» Гёте, и Герцен, и Блок, и Великий инквизитор Достоевского…
Немудрено, что, окончив школу, он без колебаний выбрал для себя филологический факультет. Он не мыслил свою будущую жизнь вне литературы. Литература (точнее, классическая филология) должна была стать его профессией.
Но тут произошло событие, резко повернувшее всю его жизнь.
О причинах этого рокового события можно было бы не говорить, поскольку, как сказано в уже цитировавшемся мною его автобиографическом сочинении, в то время в нашей стране «вероятность попасть за колючую проволоку для каждого превысила вероятность заболеть раком, угодить под автомобиль или лишиться близкого человека».
И все-таки если не о причинах, то о конкретных обстоятельствах, послуживших поводом для его ареста, тут надо сказать. Потому что и тут дело не обошлось без художественной литературы:
Я сидел в углу за крошечным столиком ночью, под яркой лампой, а в противоположном углу комнаты, на безопасном расстоянии, за массивным столом под портретом Лаврентия Берия сидел следователь и перелистывал бумаги; это могло продолжаться много часов. Вошел некто с рыбьим выражением лица, следователь протянул ему листок со стихами, они действительно были переписаны моей рукой.
Я смерть зову, смотреть не в силах боле,
Как гибнет в нищете достойный муж,
А негодяй живет в красе и холе…
Как попрано доверье честных душ,
Как над искусством произвол глумится…
Человек смерил меня взглядом и произнес:
– Хорош фрукт, а?!
Борис Хазанов. «Миф Россия»
Казалось бы, это комическое недоразумение тотчас же должно было разъясниться: стоило только подследственному тактично разъяснить следователю, что инкриминируемые ему крамольные стихи сочинил отнюдь не он, а Шекспир. И поскольку сочинены они были без малого четыреста лет назад, их ни при каких обстоятельствах нельзя счесть клеветой «на советский общественный и государственный строй».
Но вся штука в том, что сам он, оказывается, вовсе не считал случившееся недоразумением, поскольку эти стихи -
…с абсолютной точностью выражали отношение подследственного к славной действительности первого в мире социалистического государства, к его охранительным силам, к его вождю, они удостоверяли правильность доносов, лежавших на столе у следователя, – это и было главным. Поэтому было бы лицемерием называть себя жертвой беззакония.
Впрочем, 66-й сонет Шекспира, переписанный его рукой и обнаруженный в его бумагах, был не единственным и даже не главным содержанием заведенного на него дела.
Главным содержанием дела оказалось другое, уже не столь зыбкое и эфемерное, а куда более основательное обвинение. Роковым образом оно тоже было связано с гибельной страстью подследственного к художественной литературе. Писатель вспоминает:
Вскоре после войны в Москве вышел роман Ганса Фаллады «Каждый умирает в одиночку»… Незачем пересказывать содержание этой достаточно известной книги. Я скажу о ней лишь несколько слов. В ней рассказано о стране, где все боялись друг друга, потому что каждый подозревал в другом доносчика. Люди затыкали уши, чтобы не слышать слова правды, и поэтому тот, кто осмеливался их произнести, был заведомо обречен. Он был обречен задолго до того, как был выслежен и арестован. В этой книге комиссар Эшерих объясняет уличному бродяге, что бывает с теми, кого схватит тайная полиция.
«Знаешь, Клуге, они посадят тебя на стул и направят на тебя сильную лампу, и тебе придется смотреть на эту лампу, и ты будешь изнемогать от жары и яркого света. И они будут тебя допрашивать долгими часами, они будут меняться, но тебя никто не сменит. День и ночь, Клуге, день и ночь… И они будут тебя морить голодом, так что желудок у тебя сморщится, как боб. И ты будешь рад подохнуть от боли. Но они не дадут тебе подохнуть».
В том же самом городе жил один рабочий-краснодеревщик. Он был тихий и незаметный человек. Однажды он получил известие, что его сын-солдат погиб во Франции. И вот этот человек, который никогда не интересовался политикой, затеял странное и опасное предприятие. Он купил нитяные перчатки, ибо он был очень осторожен, этот незаметный человек, он слышал, что от пальцев остаются отпечатки, – надел их и старательно, печатными буквами написал открытку с пропагандой против Гитлера. С тех пор каждое воскресенье он писал такие открытки, по одной в день, потом отправлялся в какую-нибудь отдаленную часть города, заходил наугад в подъезд и оставлял открытку перед чьей-нибудь дверью или бросал в почтовый ящик. Он представлял себе, какое они возбудят брожение в умах, как их будут передавать из рук в руки, рассказывать о них друзьям.
А в это время комиссар, занимавшийся делом Невидимки, аккуратно втыкал флажки на большой карте города Берлина, отмечая места, где были подобраны открытки. За два года их набралось почти две сотни, и все они, сложенные стопкой, лежали на столе у комиссара. Полиции не пришлось их разыскивать: люди сами несли их в гестапо, едва успев пробежать глазами первую строчку. И постепенно город покрылся флажками, и кольцо их сжималось вокруг района и улицы, где не было найдено ни одной открытки. На этой улице жил Невидимка… В этой книге, которую я не решаюсь перечитывать, чтобы не разочароваться в ней, меня поразило сходство атмосферы. Я недоумевал, как всевидящая цензура не заметила опасности произведения, описывающего почти то же самое, что было в нашей стране, – но странным образом остался глух к его безжалостной и безнадежной морали. Способ протеста, изобретенный краснодеревщиком Отто Квангелем, очаровал меня, и я поделился своими планами с двумя самыми близкими друзьями, один из которых давно уже писал о нас донесения комиссару Эшериху, сидевшему в своем кабинете в высоком доме па площади Дзержинского.
Рассказывать о том, что такое годы сталинских лагерей, как ломают и корежат они душу человека, не говоря уже о его бренном теле, нет необходимости. Немудрено, что, выйдя из лагеря с сомнительными документами, запрещавшими проживание в столицах, Геннадий Файбусович о филологии уже не помышлял. Он поступил на медицинский факультет и окончил его. Может быть, какая-то душевная склонность к медицине у него и была. Но главной причиной, определившей этот новый выбор профессии, я думаю, был все-таки его лагерный опыт. Многие мои друзья и знакомые, выйдя из «зоны» на свободу, поспешили – кто всерьез, а кто хоть накоротке – овладеть какими-то медицинскими познаниями. Камил Икрамов, например, выучился на фельдшера. С 15 лет скитаясь по лагерям, он убедился, что стать лагерным «лепилой» – едва ли не самый верный способ выжить в тех нечеловеческих условиях. А уверенности в том, что лагерь вновь не протянет к нему свои всесильные щупальца и не притянет его опять к себе, – такой уверенности тогда не было, да и не могло быть, ни у кого из вернувшихся.
По этой ли, по другой ли причине, но Геннадий Файбусович решил стать врачом. И стал им. Жизнь постепенно налаживалась. Не сразу, после множества мытарств, но все-таки появились и справка о реабилитации, и московская прописка, и квартира, сперва скромная, крохотная, а потом сравнительно большая, по московским понятиям просто отличная. Стали налаживаться и литературные дела. Была написана и вышла в издательстве «Детская литература» книга об истории медицины, в том же издательстве появилась написанная им художественная биография Ньютона.
Став литератором-профессионалом, он наконец решил распроститься со своей врачебной деятельностью, устроившись на работу в редакцию журнала «Химия и жизнь». Писал новую популярную книгу о медицине для издательства «Знание». Переводил философские письма Лейбница.
И вдруг все это хрупкое, ненадежное благополучие разлетелось вдребезги.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































