Текст книги "Если бы Пушкин…"
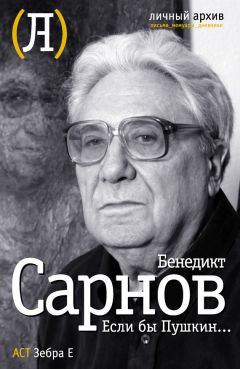
Автор книги: Бенедикт Сарнов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 40 (всего у книги 53 страниц)
7
В 9-м номере журнала «Знамя» за 1992 год в цикле «Невыдуманных рассказов» Григорий Бакланов, вспоминая о том, как трудно было ему в 1973 году, когда развернулась травля Сахарова и Солженицына, уклониться от публичного участия в этой травле, мимоходом обронил:
В «Известия» написал Войнович: позвольте через Вашу газету выразить презрение всем токарям, слесарям, академикам, Героям Социалистического Труда и т. д. и т. п., кто участвует в травле. Он свою судьбу решил, он уезжает из страны, он хлопнул дверью, но я уезжать никуда не собирался, для меня это значило то же, что от себя самого уехать. И я как о сущем чуде мечтал, чтобы обо мне забыли.
Не нужно мне ни чинов, ни орденов, забудьте. Но видел уже: не оставят добром, нельзя допустить, чтобы человек сам распоряжался своей совестью, твоя совесть не тебе принадлежит.
Получается, что у Войновича положение было более легкое, чем у Бакланова и многих других маститых советских писателей, от которых высокое начальство домогалось, чтобы они приняли участие в карательной акции. Получается даже так, что сохранить право самому «распоряжаться своей совестью» было вовсе даже не сложно: достаточно было только изъявить готовность покинуть родину. А уж изъявив такую готовность, можно было как угодно и сколько угодно хлопать дверью, защищая Сахарова, Солженицына, выступая против ввода советских войск в Чехословакию или в Афганистан. Получается даже, что мечтающие только лишь о том, чтобы про них забыли, не выволокли из щелей, в которые они забились, и не заставили произнести вслух нечто непотребное, в чем-то даже лучше тех, кто отваживался «хлопать дверью»: ведь тем оказалось не так уж трудно порвать кровные узы, связывающие их с родной землей, – не то что истинным патриотам, для которых уехать навсегда из СССР означало «то же самое, что уехать от самого себя».
Самое горькое в этой обмолвке – то, что она искренна. И это ведь не Иван Стаднюк говорит, не Михаил Алексеев, не фюрер «Памяти» Дмитрий Васильев, для которых Войнович – «предатель, клевещущий на свой народ», и этим все сказано, Из процитированного мною абзаца баклановских воспоминаний ясно видно, что на самом-то деле общественное поведение Войновича представляется автору более достойным, чем его собственное. И весь смысл абзаца состоит в том, чтобы оправдаться, объяснить, почему сам он на такое поведение решиться не смог. (Хотя никто его, разумеется, в этом не упрекает.)
Если не художественное воображение, так хоть собственный военный опыт мог бы помочь Григорию Бакланову, писателю-фронтовику, автору многих честных книг о войне, догадаться, какой долгий, чреватый ежедневным смертельным риском путь надо было пройти человеку, решившему «хлопнуть дверью», от момента, когда он это решение принял, до того часа, когда это его решение совпало с решением тех, от кого зависела не только его собственная жизнь, но и жизнь каждого из членов его семьи.
В тех же своих «Невыдуманных рассказах», в которых зашла у него речь о Войновиче, Бакланов несколько раз возвращается к воспоминаниям о войне:
Пехотинцу жизнь на фронте отмерена короткая, пока бумаги будут ходить снизу вверх да сверху вниз, ротный писарь как раз и выпишет ему похоронку…
Снимали фильм на местах бывших боев, и я узнавал и не узнавал наш плацдарм… Самое поразительное, каким узким казался мне теперь Днестр. А тогда, под огнем, многих жизней не хватило, чтобы его переплыть.
Вот так же и тот «Днестр», который переплывал Войнович, представляется автору воспоминаний узеньким ручейком, который ничего не стоило просто перешагнуть. А тогда, «под огнем», это было ох как непросто! И тоже многих жизней не хватило, чтобы ему его переплыть.
За годы своего «диссидентства» Войнович пережил исключение из Союза писателей (что означало запрет на профессию), обвинения в тунеядстве, отравление, неоднократные угрозы («Сдохнет в подвалах КГБ!»), нападение псевдохулиганов, лживое сообщение родителям, что сын их пропал и его уже, очевидно, нет в живых. Уже совсем перед отъездом из страны, который вот-вот должен был состояться, в один день скончались родители его жены, так и не сумевшие пережить мысль о неизбежной разлуке (навсегда!) с дочерью и внучкой… И – самое главное! – до последнего момента ведь так и не известно было, в какую сторону доведется ему отправиться: на Запад или на Восток.
Для каждого, кто хоть сколько-нибудь ясно представляет себе природу советского строя, не может быть сомнений в том, что даже если бы Войнович и в самом деле решил стать диссидентом, надеясь уехать на Запад, такая «игра» далеко не была бы «беспроигрышной лотереей». Как говорится, человек предполагает, а Бог – располагает. А в условиях тогдашней советской реальности «располагал» не Бог, а – КГБ. (Или – Политбюро, что, в сущности, одно и то же.)
Но главная неправда рассуждений Бакланова о поведении Войновича в той экстремальной ситуации (а подобным образом рассуждали и продолжают рассуждать на эту тему многие, иначе не стоило бы так подробно об этом говорить), – главная, коренная ошибка всех рассуждений такого рода состоит в том, что Войнович вообще никогда не принимал решения покинуть родину. Это решение за него приняли другие.
Вступая на путь своего так называемого диссидентства – путь, который и привел его в конце концов к неизбежности отъезда, Войнович и думать не думал, что конечным этапом этого пути станет эмиграция.
Строго говоря, он на этот путь даже и не вступал. Обстоятельства сложились так, что он оказался – это его собственное выражение – диссидентом поневоле. Ведь это его «диссидентство» началось вовсе не тогда, когда он, окончательно уверившись, что на родине его лучшие книги опубликованы быть не могут, решился публиковать их на Западе. Оно началось в тот день, когда он начал писать своего «Чонкина». И дело тут было не в выборе темы, не в выборе героя. Дело было в давно зревшем в нем и наконец осуществленном желании «отпустить тормоза», решиться писать без оглядки на цензуру, на редактора (даже такого уникального по тем временам редактора, как Твардовский), на любые внешние, привходящие обстоятельства. Писать, ни на миг не задумываясь о том – напечатают или не напечатают.
Не помню, была ли уже тогда сочинена знаменитая песня Галича про то, что «Эрика» берет четыре копии, и это все, и этого достаточно», но даже если песни такой тогда еще и не было, самиздат уже существовал. Во всяком случае, уже носилось в воздухе убеждение, что вовсе не обязательно писателю ориентироваться на прижизненную публикацию и прижизненное признание, что можно ведь писать в стол. Убеждение это, подкрепленное явлением на свет из небытия булгаковского «Мастера и Маргариты» с его знаменитой формулой – «рукописи не горят» – владело тогда многими.
Но Войнович, я думаю, даже и таких далеко идущих надежд тогда не питал. Просто писал так, к а к ему писалось. Он и сам еще не знал, отдаваясь на волю этого своего желания, куда оно его приведет.
Однако творчество (истинное творчество, свободное от насилия – любого насилия, не только идущего извне, но и того, источником которого бывает готовность самого художника ломать, насиловать живой поток своего воображения, вводя его в заранее заданное русло) – сама природа этого истинного творчества такова, что оно обретает огромную власть над творцом. Творение и творец как бы меняются местами. Уже не он отныне хозяин положения, а оно – меняет и ломает по своей воле всю его жизнь и судьбу.
Не я пишу стихи. Они, как повесть, пишут
Меня, и жизни ход сопровождает их…
Эта спокойная констатация, принадлежащая Тициану Табидзе (на русском языке – Борису Пастернаку), приложима к художественной прозе в той же мере, что и к лирическим стихам.
Именно это и произошло с Войновичем.
Едва только он начал сочинять своего «Чонкина», как книга эта – не только не напечатанная, но еще даже и не написанная – стала писать его жизнь как некую повесть, самим фактом своего существования обусловливая все новые и новые сюжетные повороты и перипетии этой невыдуманной повести.
Особенно круто переломилась его жизнь, когда рукопись первых глав романа об Иване Чонкине попала за границу и была напечатана в эмигрантском журнале «Грани».
– Позвольте! – слышу я тут ехидный, а может быть, даже и негодующий вопрос. – Как же это, интересно знать, она туда попала? Ведь вы же только что пытались нас уверить, что Войнович сочинял своего «Чонкина», даже и думать не думая о том, чтобы его опубликовать?
Да, сперва он об этом не думал. Заключил, правда, договор на будущую книгу все с тем же «Новым миром». Но – без всяких надежд увидеть ее напечатанной. Уже написанные главы сперва никому не показывал. Разве только позволял себе читать их в узком кругу самых близких друзей.
– Ну, а это зачем? – вновь слышу я тот же строгий, негодующий голос. – Если он и в самом деле, как вы только что пытались нас уверить, начал писать этот свой роман, даже и думать не думая об успехе у публики, а только лишь потому, что его толкал к столу бескорыстный творческий порыв, так зачем же тогда было друзей собирать, хотя бы даже и самых близких? Аплодисментов захотелось? Без авторского тщеславия, значит, все-таки не обошлось?
Да, пожалуй, что так. Не обошлось.
Но писательское тщеславие – явление особого рода.
Что вынудило слабого, затравленного, боящегося физических страданий Мандельштама, сочинившего свои крамольные стихи о Сталине, почти наверняка (он не мог не понимать этого!) чреватые для него гибелью, прочесть и х – и не двум-трем самым верным и надежным друзьям, а одиннадцати знакомым?
Жена поэта так высказалась по этому поводу:
Виновата ли я, что не повыгоняла всех друзей и знакомых и не осталась с глазу на глаз с О.М., как делало большинство моих современников? Мою вину умаляет только то, что О.М. все равно удрал бы из-под присмотра и прочел недопустимые стихи… первому встречному. Режим самообуздания и самоареста был не для него.
Да, режим самообуздания и самоареста был не для него. Но не только потому, что такой уж у него был строптивый, необузданный характер. Дело тут не в индивидуальных свойствах того или иного характера, а в самой природе того, что Блок называл назначением поэта.
– Но позвольте! – опять слышу я все тот же отрезвляющий, скептический голос. – Разве призвание поэта состоит в том, чтобы читать свои стихи первому встречному? Разве оно не исчерпывается целиком и полностью тем, чтобы их сочинить?
И в самом деле:
Ты царь, – живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.
Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить сумеешь ты свой труд…
Эту заповедь Пушкина можно понять так, что читатель, слушатель поэту, писателю вовсе не нужен. Конечная, даже единственная цель творчества состоит в том, чтобы «усовершенствовать плоды любимых дум», довести это совершенствование до некоего (своего!) художественного идеала, а там – хоть трава не расти!
Но такой вывод был бы чересчур поспешным. И не только потому что поэту (как, впрочем, любому мастеру своего дела) по естественной человеческой слабости хочется хоть с кем-нибудь поделиться своим удовлетворением от хорошо удавшейся работы. («Гляди, чего сделал!» – горделиво кивает на сработанный им гроб плотник Николай из рассказа Войновича «Расстояние в полкилометра». Он тоже ждет от жены сочувствия и похвал, хоть и знает наперед, что «баба, она, известно, дура» и вовек ей не понять, что этот гроб «может, как Большой театр, один на весь Советский Союз».)
Нет, дело тут не в естественной человеческой слабости, не в трогательной жажде сочувствия и похвал.
По определению Александра Блока, сформулированному им в его знаменитой пушкинской речи, потребность во что бы то ни стало донести написанное до читателя или слушателя является необходимым условием, без которого служение поэта, его назначение не может быть осуществлено.
Служение это, по мысли Блока, следует разделить на три стадии, три этапа, три дела. Суть первых двух сводится к тому, чтобы верно почувствовать, угадать, разглядеть «сквозь магический кристалл» еще не вполне ясный самому художнику образ и по возможности точно воплотить его (в краски, в слова, в звуки). И вот тогда, когда труд художника, казалось бы, уже завершен, -
Наступает очередь для третьего дела поэта: принятые в душу и приведенные в гармонию звуки надлежит внести в мир. Здесь происходит знаменитое столкновение поэта с чернью.
Столкновение это – неизбежно. В каждую историческую эпоху оно принимает свои формы, иногда выступая в форме конфликта поэта с не понимающей его публикой – толпой, как говорит Пушкин, иногда – в форме конфликта его с цензурой. В наше время потребность художника довести до конца свое третье дело неизбежно сталкивала его с самой мощной и влиятельной силой тоталитарного государства, с его «карающим мечом». Но это все – частности. (Хотя для художника, которому выпало жить в ту, а не в другую эпоху, – жизненно важные.) Суть же дела состоит в том, что труд писателя не может считаться завершенным до тех пор, пока рукопись сочиненного им произведения не стала книгой.
Страстное желание каждого писателя довести свое сочинение до печатного станка, таким образом, не просто плод авторского тщеславия, оно продиктовано не только естественной жаждой читательского сочувствия и одобрения. Эта глубокая внутренняя потребность есть не что иное, как стремление завершить, довести до конца главное дело своей жизни.
Именно это стремление и побудило Войновича не держать рукопись первых глав своего романа под спудом, а давать ее читать разным людям. Так она попала, как тогда говорили, в самиздат, то есть стала ходить по рукам. А в 1969 году эта первая часть первой книги недоконченного его романа каким-то образом попала в эмигрантский журнал «Грани» и была там опубликована. На сей раз без ведома и, уж само собой, без согласия автора. Это стало предметом разбирательства специально созданной для такого случая комиссии.
Но тут, пожалуй, имеет смысл предоставить слово самому герою описываемых событий:
Меня больше года изматывали настоящими допросами с пристрастием и угрозами… Мне была представлена комиссия, которой было поручено, как мне объяснили, выяснить, как и при каких обстоятельствах моя рукопись попала за границу. Я спросил: как комиссия выполнила поставленную перед нею задачу? Председатель сказал (цитирую дословно): «Как рукопись попала за границу – неважно. Для выяснения таких вопросов у нас есть специальная организация, и она с этим справится. Но если бы эта рукопись даже и не попала за границу, а была только написана и лежала в столе, если бы она была даже не написана, а лишь задумана, я и тогда просил бы компетентные органы наказать автора самым суровым образом».
На том этапе дело обошлось без вмешательства компетентных органов. Однако, как явствует из приведенной цитаты, за «преступлением» (которое состояло в том, что Войнович не пожелал изнасиловать или хотя бы зарыть в землю свой писательский дар) все же не замедлило последовать наказание.
Это было только началом того поворота в судьбе Владимира Войновича, причиной которого стал сочинявшийся им роман. Тихая травля продолжалась пять лет. А затем пришло время второго, следующего поворота в его судьбе.
На сей раз первый шаг сделал он сам:
Пять лет я сносил эту травлю, надеясь сохранить свое положение «официального» писателя, но затем увидел, что оставить за собой это звание я на самом деле могу только путем отказа от своих главных литературных намерений и от своих понятий о чести и совести. В 1973 году я демонстративно переслал на Запад первую книгу «Чонкина», подписал коллективное письмо в защиту Солженицына, написал свое собственное письмо против создания Всесоюзного агентства по авторским правам, после чего (в феврале 1974 года) был исключен из Союза писателей…
После этого прошло еще шесть лет. И все эти шесть лет ему не переставали намекать, что здесь, на родине, ему все равно жизни не будет. Намекали иногда деликатно (прокалывали шины его автомобиля, отключали телефон), а иногда и не столь деликатно (однажды отравили искусно подмененной сигаретой, после чего он долго и тяжело болел).
Войнович упорно не желал понимать этих намеков. Но силы даже таких людей, как он, имеют предел. А кроме того, ему прямо дали понять, что те, от кого это зависит, решили уже не ограничиваться намеками:
В день выборов в Верховный Совет РСФСР ко мне явился мрачный человек, который назвался работником райкома КПСС Богдановым.
Став посреди моей комнаты, этот Богданов тоном полководца, объявляющего разгромленной армии условия капитуляции, сказал:
– Мне поручено вам передать, что терпение советской власти и советского народа подошло к концу…
Я думал, что он меня тут же расстреляет, но оказалось совсем другое. В отличие от всех остальных граждан Советского Союза мне в этот день был предложен не фиктивный, а реальный выбор: или – или. Поскольку терпение советской власти и народа подошло к концу одновременно с моим, я выбрал второе «или», и не прошло года, как (21 декабря 1980 г.) оказался на Западе.
Еще полгода спустя указом Брежнева я был лишен советского гражданства.
Таковы основные сюжетные перипетии той повести, автором которой по справедливости следует признать выдуманного Войновичем солдата Ивана Чонкина. Пока Войнович сочинял свою главную книгу книга эта творила, преобразовывала, меняла не только его жизнь, но и его самого.
Под влиянием меняющихся обстоятельств менялось сознание автора «Чонкина», его понимание действительности и его отношение к ней. Взгляд его становился зорче и в то же время – жестче, злее. И как следствие этого – стала меняться его художественная манера.
От чуждой канонам социалистического реализма «поэтики изображения жизни как она есть» он сделал шаг в еще более чуждую этим канонам поэтику сатирического гротеска, граничащего с фантастикой. У него также возникло желание ввести в роман новые пласты действительности. Раздвинуть рамки повествования. Дать как бы срез всего общества, всей социальной структуры описываемого им уникального тоталитарного государства. Так в роман о солдате Иване Чонкине и его необычайных приключениях входят все новые и новые действующие лица: прокурор, редактор областной газеты, секретарь обкома и, наконец, лица уже самого высокого ранга: Сталин, Берия, Гиммлер, Гитлер…
В связи с этим меняющимся и изменившимся замыслом изменилась вся художественная структура романа.
Некогда была придумана теория движущегося героя. Считалось, что такой герой дает художнику наилучшую возможность изобразить широкую панораму действительности, показать самые разнообразные ее пласты и социальные сферы. Так, например, все преимущества композиции «Мертвых душ» в том, что Гоголь поставил в центр своего повествования движущегося героя: Чичиков только и делает, что ездит от одного помещика к другому, и это позволило Гоголю создать целую галерею ярчайших социальных типов и человеческих характеров. По такому же принципу «движущегося героя» построен и «Дон Кихот», и «Приключения бравого солдата Швейка», и приключения членов Пиквикского клуба, и знаменитые романы Ильфа и Петрова…
Вторая книга романа Войновича о Чонкине, озаглавленная «Претендент на престол», могла бы послужить поводом для создания противоположной теории – теории неподвижного героя.
Тут главный герой романа не только не совершает никаких передвижений в пространстве, но и вообще не действует. Он – лишь точка приложения вовлеченных в действие романа разнообразных зловещих сил. Никаких «необычайных приключений» с ним уже не происходит. На протяжении всего повествования Чонкин сидит в тюрьме, а главные события книги происходят уже не с ним, а – вокруг него. Происходят с другими персонажами романа, которые так или иначе оказываются втянутыми в «дело Чонкина» или заинтересованными в том или ином исходе этого «дела».
Как я уже говорил, менялся автор и, естественно, менялся его герой. А изменившийся герой в свою очередь продолжал менять автора…
8
В стихотворении Генри Лоусона, строки из которого Войнович взял эпиграфом к своей повести «Хочу быть честным», а мог бы, как он признался однажды, взять эпиграфом ко всей своей жизни, очень ясно сказано, кем мог бы стать, но так и не стал его лирический герой:
Богат и горд осанкой
Тот «я», кем я не стал.
Давно имеет в банке
Солидный капитал…
Вот, оказывается, ради чего «всю жизнь он лез из кожи»: чтобы не стать сытым, преуспевающим, благополучным. Применительно к меркам и понятиям западной жизни – преуспевающим дельцом, имеющим солидный счет в банке, применительно к меркам и представлениям жизни советской – партийным функционером, литературным бонзой, секретарем Союза писателей…
Но на самом деле, сказав, что процитированные выше строки Генри Лоусона могли бы стать эпиграфом ко всей его жизни, Войнович себя оклеветал. Для того чтобы НЕ СТАТЬ тем, кем он «мог бы стать», по этой лоусоновской схеме, ему вовсе не надо было всю жизнь «лезть из кожи». Смею думать, что если бы даже он очень захотел сделать вышеописанную карьеру, из этих его намерений все равно ровным счетом ничего бы не вышло. Ведь людям такого сорта корежить, насиловать себя – куда мучительнее, чем поступать по-своему, сколь бы это ни было трудно и даже опасно.
«Не рыпаться», «не лезть в бутылку», «послушно выполнять все предписания начальства» – ведь это значило бы ежедневно лгать, белое называть черным, а черное – белым. И даже – если прикажут (а ведь обязательно прикажут!) – принимать участие в различного рода карательных, палаческих акциях. Под силу ли такое человеку который хочет сохранить верность своим понятиям о чести и совести!
Издавая на Западе свою повесть «Хочу быть честным», Войнович вернул ей прежнее название – «Кем я мог бы стать» – и убранный редакцией эпиграф. Название «Хочу быть честным», навязанное ему редакцией, не нравилось ему чисто эстетически. Оно раздражало его своей декларативностью.
С эстетической точки зрения он, вероятно, был прав. Но по смыслу эта и в самом деле чересчур прямолинейная и декларативная формула целиком исчерпывала не только ситуацию, в которой оказался герой его повести, но и главную коллизию его собственной жизни.
Позже он сам так скажет об этом:
Говорят: а мы все не святые. Но среди не святых есть люди честные и бесчестные. По классификации автора есть (условно) святые, герои, честные и бесчестные. Он относит себя к честным, который героем быть не хочет, но если выхода нет, готов стать им на время, чтобы не стать подлецом.
У всех нас, живших в то время, выбор был небольшой. Но все-таки так остро вопрос не стоял. Все-таки можно было, я думаю, не быть подлецом, не становясь при этом – даже на время – героем.
Но всего лишь «не быть подлецом» – этого ему было мало. Он ведь хотел не только сохранить верность своим понятиям о чести и совести, но и (казалось бы, такая малость!) – не отказываться от главных своих литературных намерений!
Нет, чтобы НЕ СТАТЬ «тем, кем он мог бы стать», прилагать особых усилий ему не пришлось. А вот для того, чтобы СТАТЬ ТЕМ, КЕМ ОН СТАЛ, ему и в самом деле приходилось не только лезть из кожи, но и на протяжении многих лет ежедневно рисковать своей жизнью и свободой.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































