Текст книги "Если бы Пушкин…"
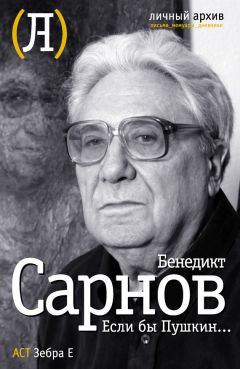
Автор книги: Бенедикт Сарнов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 52 (всего у книги 53 страниц)
5
Алексею Максимовичу Горькому показали однажды, – где-то в Европе, – грандиозное по тем временам шоу: сто, – а может, и больше, – полуобнаженных юных дев совершали одинаковые телодвижения, с точностью часового механизма одновременно выбрасывая вверх то правые, то левые свои нижние конечности.
По окончании действа режиссеры, постановщики этого тщательно отрепетированного зрелища с волнением ждали, что скажет о результатах их труда великий писатель.
А.М. помолчал, подумал и, по обыкновению напирая на «о», произнес:
– Работу вы проделали большую, сложную и никому не нужную.
Так называемое «антидогматическое» литературоведение породило легионы ученых мужей (и дам), целиком посвятивших себя вот такой же кропотливой, трудоемкой, сложной и никому не нужной работе.
К сказанному я бы, пожалуй, еще добавил, что эта их работа не только никому не нужна, но и вредна.
Когда я узнал, что Игорь П. Смирнов (автор книги «Роман тайн – «Доктор Живаго») – профессор университета в Мюнхене, я с ужасом подумал о его студентах: «Боже мой! Чему же он их там учит!» Хорошо, если его уроки не пойдут им впрок. А вдруг этот корм пойдет в коня! Количество ученых мужей (и дам), занятых этой бессмысленной, никому не нужной и даже вредной работой, стало быть, возрастет! А Игорь П. Смирнов ведь не единственный постструктуралист, преподающий студентам основы своей странной науки. Ведь не только Мюнхену, наверно, так повезло. Кроме мюнхенского, есть на свете и другие университеты, и в каждом небось в роли профессора подвизается какой-нибудь такой же адепт «антидогматического литературоведения».
Но и это еще не самое страшное.
Хуже то, что эта методология, так старательно разработанная адептами «антидогматического литературоведения» оказалась привлекательна и для многих серьезных ученых – из числа тех, которые весьма успешно трудились и трудятся на ниве доброго, старого, «догматического» литературоведения.
Вот, например, в недавно вышедшей книге Н.А. Богомолова «От Пушкина до Кибирова», среди многих интересных, содержательных и даже глубоких работ обратила на себя мое внимание статья «Пласт Галича» в поэзии Тимура Кибирова».
В этой своей работе Н. Богомолов, в частности, рассматривает кажущийся ему, как он пишет, «несомненным парафраз одного из наиболее известных и вошедших в интеллигентскую речь стихотворений Галича «Пейзаж»:
Напомним его, благо невелико:
Все было пасмурно и серо,
И лес стоял, как неживой,
И только гиря говномера
Слегка качала головой.
Не все напрасно в этом мире
(Хотя и грош ему цена!),
Покуда существуют гири
И виден уровень говна!..
В знаменитом послании «Л.С. Рубинштейну» Кибиров писал:
Все проходит. Все конечно.
Дым зловещий. Волчий ров.
Как Черненко, быстротечно
И нелепо, как Хрущев,
Как Ильич бесплодно, Лева,
И, как Крупская, страшно!
Распадаются основы.
Расползается говно[35]35
Н.А. Богомолов. От Пушкина до Кибирова. Статьи о русской литературе, преимущественно о поэзии. М., Новое литературное обозрение. 2004, с. 505.
[Закрыть]…
Литературоведу «антидогматического» направления этого было бы вполне достаточно: там «говно» – и тут «говно». Чего ж вам боле?
Но Н. Богомолов – еще в плену своего «догматического» прошлого. Ему этого мало. Его обуревают сомнения. Он еще слегка колеблется:
Казалось бы, аналогия наша слишком шатка, чтобы принять ее даже как гипотезу. Однако Кибиров (и в этом – один из ярких образцов метода именно его, индивидуальной центонности) на этом не останавливается, а продолжает, переходя уже в следующую главку:
Вот этот «силомер» делает безусловной связь с Галичем. На первый план выдвинуты общепонятные Пушкин и Лебедев-Кумач, чуть менее заметно, но вполне ощутимо – Мандельштам (из страшных «Стансов» 1937 года:
Вот «Правды» первая страница,
Вот с приговором полоса), —
А на стихотворение Галича – лишь беглый намек, который далеко не всякий поймет и оценит. Но, услышав и оценив, не сможет не задуматься, насколько само представление Кибирова о советской действительности сходно с представлениями Галича[37]37
Там же, с. 505–506.
[Закрыть].
У Галича, стало быть, «говномер», а у Кибирова – «силомер». Последние сомнения отброшены! Несомненность парафраза (он же – центон) подтверждена и доказана с математической точностью.
Насчет того, насколько «само представление Кибирова о советской действительности сходно с представлениями Галича», и в самом деле сомнений быть не может. И слово «говно» у обоих возникло, конечно, не случайно: сама она, эта наша родная, наша советская действительность, постоянно давала поводы для такой ассоциации.
Но поводы-то всякий раз были разные. А в данном конкретном случае разность этих поводов видна особенно ясно.
У Галича повод был вполне конкретный. Весомый, грубый, зримый, осязаемый и даже, надо полагать, обоняемый:
В Серебряном Бору, у въезда в дом отдыха артистов Большого театра, стоит, врытый в землю, неуклюже-отесанный, деревянный столб. Малярной кистью, небрежно и грубо, на столбе нанесены деления с цифрами – от единицы до семерки. К верху столба прилажено колесико, через которое пропущена довольно толстая проволока. С одной стороны столба проволока уходит в землю, а с другой – к ней подвешена тяжелая гиря.
Сторож дома отдыха объяснил мне:
– А это, Александр Аркадьевич, говномер… Проволока, она, стало быть, подведёна к яме ассенизационной! Уровень, значит, повышается – гиря понижается… Пока она на двойке-тройке качается – ничего… А как до пятерки-шестерки дойдет – тогда беда, тогда, значит, надо из города золотариков вызывать…
Мне показалось это творение русского умельца не только полезным, но и весьма поучительным. И я посвятил ему философский этюд, который назвал эпически-скромно: «Пейзаж»[38]38
Александр Галич. Когда я вернусь. Полное собрание стихов и песен. Посев. 1981, с. 314.
[Закрыть].
Как видим, «говно» у Галича – самое что ни на есть натуральное. То есть оно, конечно, и символическое тоже – недаром это свое стихотворениеж, озаглавленное «эпически скромно» («Пейзаж»), поэт назвал «философским этюдом». Но натолкнуло его на мысль об этом философском этюде вполне реальное изобретение вполне реального русского умельца.
Что же касается грустной сентенции Кибирова («Распадаются основы, расползается говно»), то его на этот его философский вздох натолкнули совсем иные образы и ассоциации: Черненко, Хрущев, Ильич, Крупская. И «говно», которое у него «расползается», – это уже совсем иное, чисто символическое говно: говно обанкротившихся, протухших идей, обанкротившихся, канувших в Лету исторических фигур и персонажей.
Тут я совсем было уже собрался выйти на обобщение, заключив этот пример рассуждением о том, что пытаться установить генетическую близость двух разных художественных текстов, основываясь на одном-единственном слове, выловленном в каждом из них, все равно, что – в математике – строить экстраполяцию по одной точке.
Но тотчас же всплыло в памяти одно очень точное наблюдение, где опознавательным знаком безусловного генетического родства двух, казалось бы, очень далеких друг от друга поэтических отрывков тоже стало одно слово.
Наблюдение это было сделано не структуралистом, и не постструктуралистом. Разве что – постмодернистом. Но и постмодернизм автора этого наблюдения тут тоже не при чем. Меткость его наблюдения объяснялась тем, что он был поэтом. То есть – тонкостью и изощренностью его поэтического слуха.
Поэтический отрывок, ставший объектом этого пристального наблюдения, принадлежал Борису Леонидовичу Пастернаку. А наблюдателем – или, лучше сказать, дегустатором, смакующим впервые услышанный им этот поэтический текст, был Валентин Петрович Катаев.
История эта описана в романе Катаева «Алмазный мой венец», и Пастернак, как вы, конечно, помните, выведен там под именем мулата.
…мулат читал нам:
«Я бедствовал. У нас родился сын. Ребячества пришлось на время бросить. Свой возраст взглядом смеривши косым, я первую на нем заметил проседь… Весь день я спал, и, рушась от загона, на всем ходу гася в колбасных свет, совсем еще по-зимнему вагоны к пяти заставам заметали след…»
Мы были восхищены изобразительной силой мулата и признавали его безусловное превосходство.
Дальше развивался туманный «спекторский» сюжет, сумбурное повествование, полное скрытых намерений и темных политических намеков. Но все равно это было прекрасно…
Триумф мулата был полный. Я тоже, как все, был восхищен, хотя меня и тревожило ощущение, что некоторые из этих гениальных строф вторичны. Где-то давным-давно я уже все это читал. Но где? Не может этого быть! И вдруг из глубины памяти всплыли строки:
«…И вот уже отъезд его назначен, и вот уж брат зовет его кутить. Игнат мой рад, взволнован, озадачен, на все готов, всем хочет угодить. Кутить в Москве неловко показалось по случаю великопостных дней, и за город, по их следам помчалось семь троек, семь ямских больших саней… Разбрасывая снег, стучат подковы, под шапками торчат воротники, и слышен смех и говор: «Что вы! Что вы, шалите!» – и в ногах лежат кульки».
Что это: мулат? Нет, это Полонский, из поэмы «Братья».
А это тот же пятистопный рифмованный ямб с цезурой на второй стопе:
«…был снег волнист, окольный путь – извилист, и каждый шаг готовился сюрприз. На розвальнях до колики резвились, и женский смех, как снег, был серебрист. – Особенно же я вам благодарна за этот такт, за то, что ни с одним… – Ухаб, другой – ну как? А мы на парных! – А мы кульков своих не отдадим».
Кто это: Полонский? Нет, это мулат, но с кульками Полонского[39]39
В. Катаев. Уже написан Вертер. М. «Панорама», 1992, с. 281–282.
[Закрыть].
Дело тут, конечно, не в «кульках», которые перекочевали к Пастернаку из мало кому уже тогда помнившейся поэмы Полонского. «Кульки» только подтвердили, что память Катаева не подвела, что восхитившие его строки Пастернака не случайно напомнили ему знакомый звук, – тот же рифмованный ямб с цезурой на второй стопе и те же ритмико-синтаксические фигуры, что у Полонского.
Никаких ученых трудов теоретиков и практиков постструктурализма Катаев, конечно, не изучал. Он самостоятельно, «одновременно и даже несколько раньше», как некогда было сказано про Ломоносова и Лавуазье, открыл получивший впоследствии такое распространение пост-структуралистский метод интертекстуального анализа. Сам, как говорится, изобрел этот велосипед. И хотя двигали им, быть может, не самые благородные побуждения (что ни говори, а приятно все-таки было попрекнуть вторичностью гения, безусловное превосходство которого над собой они все сразу признали), нельзя отрицать, что на этом своем самодельном велосипеде он уехал гораздо дальше, чем все упомянутые выше постструктуралисты на своих ультрасовременных машинах, в массовом масштабе сходящих с заводского конвейера. А главное, он знал, куда и зачем едет. И поэтому возникшая у него «интертекстуальная» ассоциация нам что-то дает! Из его сопоставления строф Пастернака с припомнившимися ему похожими строфами Полонского можно что-то извлечь. Ну, а что можно извлечь из «интертекстуальных» сопоставлений наших постструктуралистов, мы уже видели.
А можно выразиться по этому поводу и несколько иначе. У ученых мужей, с интертекстуальными анализами которых мы знакомились, что ни выстрел, то – мимо. А Катаев без всякой тренировки и пристрелки сразу попал в яблочко.
Объяснил я это (для себя) тем, что, как уже было сказано, в отличие от всех знакомых мне постструктуралистов, Катаев – поэт, художник. И как бы кто ни относился к нему как к писателю, нельзя не признать, что читатель он – на редкость талантливый.
Сформулировав такое объяснение, я готов был поручиться, что в трудах как знакомых, так и незнакомых мне пост' структуралистов ни одного такого точного попадания, как в этом катаевском сопоставлении, нам не найти.
В бесспорности этого своего вывода я был абсолютно уверен.
И ошибся.
6
Работая над вторым изданием своей книги «Заложник вечности. Случай Мандельштама», я пытался вникнуть в смысл одного из самых сложных мандельштамовских созданий – его «Стихов о неизвестном солдате». Помимо того, что без анализа этого стихотворения в задуманной мною книге и вообще-то было не обойтись, меня побуждали к этому выросшие вокруг него с годами горы всякой чепухи. И авторами этой чепухи сплошь и рядом оказывались люди весьма почтенные. Вот, например, М. Гаспаров посвятил этой теме специальный труд, в котором старался доказать, что стихотворение это – не более чем агитка, выражающая готовность поэта, «если завтра война», встать наравне со всеми гражданами Страны Советов в строй защитников родины. В полном соответствии с этой своей концепцией едва ли не самые сильные и трагические строки стихотворения («Я рожден в ночь с второго на третье января в девяносто одном ненадежном году, и столетья окружают меня огнем») он трактует как перекличку на призывном пункте военкомата.
При этом он полемизирует с вдовой поэта, которая видит в этой перекличке «след утомительных перерегистраций ссыльного Мандельштама каждые несколько дней в участке воронежского НКВД».
Объяснение Надежды Яковлевны мне показалось таким же далеким от истины, как и объяснение М. Гаспарова. И я по этому поводу высказался так:
Выяснять, какое из этих двух предположений ближе к истине, – все равно, что, толкуя строку Маяковского «по длинному фронту купе и кают», затеять спор насчет того, где происходит дело: в поезде или на пароходе?
Сам я трактовал смысл этих пронзительных манедельштамовских строк совершенно иначе:
Совершенно очевидно, что эта перекличка происходит вообще не здесь, не в нашей, земной, а в какой-то иной реальности: в Вечности? В Истории?
И отвечает он на этой перекличке не заурядному земному начальнику – лагерному или военкоматскому, а – року, судьбе. Выражаясь высокопарно, – Провидению. Это Ему он шепчет своим «обескровленным ртом», что к смерти готов[40]40
Бенедикт Сарнов. Заложник вечности. Случай Мандельштама. Аграф. М. 2005, с. 402.
[Закрыть].
Для меня это было совершенно очевидно. И я подумал: быть того не может, чтобы никто из писавших об этих манедельштамовских строчках не увидал этого, столь очевидного их смысла!
Не скажу, чтобы этих единомышленников я отыскал много, но, по крайней мере один сразу нашелся.
Им оказался американский исследователь Омри Ронен, на протяжении многих лет занимающийся поисками «контекстов и подтекстов» к самым разным стихам Мандельштама.
В предисловии к его книге, в которой я обнаружил в нем своего единомышленника, о мандельштамовских штудиях ее автора говорится так:
Это энциклопедия контекстов и подтекстов ко всему творчеству Мандельштама.
Контекст (перекличка с другим местом того же автора) и подтекст (перекличка с другим автором) – это основные понятия интертекстуального анализа, ставшего в последние десятилетия ведущим методом изучения Мандельштама. Сформировался этот метод в работах К.Ф. Тарановского, гарвардского учителя О. Ронена; наиболее полное выражение он нашел в работах О. Ронена[41]41
Омри Ронен. Поэтика Осипа Мандельштама. Санкт-Петербург. «Гиперион». 2002, с. 5.
[Закрыть].
При всем моем скептическом отношении к методу «интертекстуального анализа», ставшему в последние десятилетия «ведущим методом изучения Мандельштама» (увы, не только Мандельштама!), ассоциация, которую вызвала у О. Ронена мандельштамовская «перекличка», показалась мне куда более оправданной, чем «военкоматские» ассоциации М. Гаспарова и лагерные аллюзии Надежды Яковлевны.
У него эти мандельштамовские строки вызвали ассоциацию со строчками Гейне:
Даже в день, когда архангел
Мертвецов в гробах разбудит
И на Страшный суд последний
Собирать восставших будет,
И начнется перекличка
Всех идущих в область ада,
Или в рай обетованный —
Вспоминать о нем не надо.
Перевод Д. Минаева.
Сближение этих весьма далеко отстоящих друг от друга поэтических строф высвечивает истинный смысл мандельштамовского образа. А в основе сближения – как это принято у всех наших постструктуралистов, – как будто всего лишь одно слово: «перекличка».
Тут надо сказать, что нет никаких указаний на то, что Мандельштам знал это стихотворение Гейне именно в переводе Минаева. У Гейне же – в оригинале – никакой «переклички» нет. (Слова этого, кстати сказать, нет и у Мандельштама.)
Но Омри Ронен ведь и не утверждает, что строки Мандельштама генетически связаны с гейневскими. Да и к одному вроде бы совпавшему слову тут (как и у Катаева) дело не сводится. У Катаева слово «кульки» высвечивает близость ритмическую, интонационную. У Омри Ронена слово «перекличка», натолкнувшее его на сближение, высветило близость смыслов. И сближение мандельштамовских строк с гейневскими не покажется нам бессмысленным, если мы обратимся к другому переводу гейневских строк, где никакой «переклички» (как и в оригинале) нет и в помине:
Даже в день, когда раздастся
Трубный глас в господнем храме,
И, дрожа, на суд последний
Мертвецы пойдут толпами,
И читать начнет архангел
У дверей господня града
Длинный список приглашенных —
Поминать его не надо!
Перевод П. Карпа
Что ни говори, а эти мертвецы, идущие на «суд последний», и архангел, читающий длинный список приглашенных «у дверей господня града», гораздо лучше высвечивают трагический пафос мандельштамовских строк, чем гаспаровский образ военкома на призывном пункте и воронежские ассоциации Надежды Яковлевны.
Так что поструктуралист Омри Ронен в этом случае не промахнулся, а, можно сказать, «попал в яблочко» – не хуже Катаева.
Относясь к «интертестуальному анализу» ставшему «в последние десятилетия ведущим методом изучения Мандельштама», заведомо отрицательно и даже с некоторой предвзятостью, я не придал этому его попаданию особого значения. Ведь даже часы, стрелки которых не движутся, два раза в сутки показывают время правильно. Вот я и решил, что Омри Ронен со своим интертекстуальным анализом попал «в яблочко» по чистой случайности.
И снова ошибся.
7
В начале 70-х в Большом зале ЦДЛ (Центрального Дома литераторов) был творческий вечер Фазиля Искандера. Открывал его один близкий мой приятель, уже довольно известный в то время литературный критик. И в этом своем вступительном слове он позволил себе такую маленькую (впрочем, как вскоре выяснилось, по тем временам не такую уж маленькую) вольность.
Он сказал:
– Я смотрю в зал и вижу перед собой умные, прекрасные лица пришедших на этот вечер людей. Это читатели Фазиля Искандера. Несколько дней назад в этом же зале был вечер писателя Михаила Алексеева. На том вечере я не был. Но я уверен, что тогда в зале сидели совсем другие люди. И лица у них были совсем другие.
Михаил Алексеев – весьма посредственный (лучше сказать – никакой) литератор был в то время большим человеком. Одним из тех, кого Хрущев назвал «автоматчиками» и, – разумеется, – одним из секретарей Союза писателей.
Высказыванием моего приятеля, о котором ему, конечно, тут же донесли, он был оскорблен до глубины души. И не он один. Оскорблена была вся тогдашняя литературная общественность. В общем, разразился скандал, и приятеля моего вызвали, как это тогда у нас называлось, «на ковер». На Большой секретариат.
Таким поворотом событий он был несколько обескуражен. И советовался со мной: как, по моему мнению, на этом секретариате ему надлежит себя вести.
– Ну, вот ты? – спросил он. – Будь ты на моем месте: что бы ты им сказал?
– Я бы сказал, – не задумываясь, ответил я, – что если критику запрещают одного писателя считать талантливым, а другого бездарным, произведения первого – литературным событием, а печатную продукцию другого – дешевой подделкой, профессия литературного критика лишается всякого смысла.
Этот ответ моему приятелю показался неумной шуткой. И в самом деле: сказать такое на секретариате было бы самоубийством.
С тех времен положение, конечно, изменилось. Но – не слишком.
То, что раньше запрещало партийное руководство литературой, теперь нам запрещает этика ученого.
В одной своей статье я уже приводил замечательное высказывание на этот счет одного из самых блестящих представителей нашей литературоведческой науки – Г.О. Винокура:
У нас безнадежно путают понятия «критики» и «науки». На самом деле, между критиком произведения искусства и ученым, исследующим его, такое же соотношение, какое существует между барышней, составляющей букет из цветов, и ученым ботаником. Первые – критик и барышня – оценивают предмет с точки зрения своей или общепринятой эстетики, вторые – искусствовед и ботаник – хотят лишь понять, что за предмет они наблюдают, на какие элементы он распадается, каковы законы соединения этих элементов, каков генезис их и т. д. Ученый не оценивает, а изучает. Как ботаник не знает растений красивых и уродливых, как математик не знает чисел дурных и хороших, так и искусствовед не знает прекрасных и безобразных, талантливых и бездарных произведений искусства. Такое разграничение – дело критика[42]42
Винокур Г.О. Чем должна быть научная поэтика // Винокур Г.О. Филологические исследования. М, 1990. С. 9.
[Закрыть].
Сравнение критика с барышней, составляющей букет из цветов, отдавало, конечно, некоторым высокомерием, но, как бы то ни было, критику Григорий Осипович все-таки позволял иметь (и высказывать) свое мнение о том, какого писателя он любит, а какого нет, какое произведение считает хорошим, а какое плохим. Сейчас высокие ученые авторитеты запрещают это не только литературным критикам, но даже поэтам.
Вот весьма характерная реплика М.Ю. Лотмана, брошенная им на Мандельштамовской конференции в Лондоне. Речь шла о знаменитой вымученной Мандельштамовской «Оде», в которой он пытался воспеть Сталина. Иосиф Бродский назвал там это стихотворение Мандельштама грандиозным, гениальным, пророческим, а Александр Кушнер позволил себе в этом усомниться.
М.Ю. Лотман на этот обмен мнениями отреагировал так:
Я считаю, что это разные вещи: учитывать субъективность и вводить ее контрабандно в качестве оценки. И когда Александр Семенович [Кушнер] начал говорить о том, что нужно исключить оценки, а кончил тем, что «друзья мои, – стихи сомнительные!» и долго объяснял, почему это стихи, в общем-то, неважные, – мне кажется, тут что-то не в порядке… Для меня это вопрос профессиональной этики: когда я разбираю стихотворение, я не смею думать о том, хорошее оно или плохое. Поскольку мы, грубо говоря, влезаем человеку в душу, то мы не имеем права его оценивать. Так врач, когда оперирует, он не имеет права думать, хороший это человек или плохой, он только делает свою работу, – так же и мы должны[43]43
Сохрани мою речь. 3/2. Российский государственный гуманитарный университет. Манделынтамовское общество. М. 2000, с. 42.
[Закрыть].
Я не знаю, является ли эта точка зрения общепринятой в современном «антидогматическом» литературоведении. Одно могу сказать с полной уверенностью: постструктуралист Омри Ронен явно ее не разделяет. И может быть, именно поэтому его интертекстуальные анализы так отличаются от причудливых интертекстуальных ассоциаций большинства его коллег.
А отличаются они от них разительно.
Для убедительности, помимо уже известного нам сопоставления стихотворных строк Мандельштама с минаевским переводом четверостишия Гейне, приведу еще парочку примеров:
…Цветаева почти всегда сознательно вступает в «разговор, начатый до нее», черпает в чужих словах доводы в пользу своей правоты и отвечает на возражения.
Вот она говорит возлюбленному: «Сверхбессмысленнейшее слово: расстаемся», и за этим словом встает строй предшественников: «Брошена. Придуманное слово / Разве я цветок или письмо?» (Ахматова, «проводила друга до передней…»); «Кончилась? Жалкое слово, Жалкого слова не трусь» (Анненский, «Пробуждение»); «Vorbei! Ein dummes Wort» (Гете, «Фауст» в пер. Холодковского: «прошло? Вот глупый звук, пустой!»; в пер. Пастернака: «Конец? Нелепое словцо!»)[44]44
Омри Ронен. Из города Энн. Издательство журнала «Звезда». Санкт-Петербург, 2005, с. 79.
[Закрыть].
Другой пример: интертекстуальная ассоциация, которую вызвала у него короткая сцена из воспоминаний Евгения Петрова об Ильфе:
«…Я не могу плодотворно трудиться, если в доме напротив поет начинающее колоратурное сопрано. Женя, Женя, смотрите, мальчики играют в волейбол.
Мы легли на подоконник животами и стали глядеть вниз. Мальчики образовали кружок и кидали мяч друг другу. Перед соседним домом дожидались похоронные дроги. Вынесли гроб, выкрашенный масляной краской, под дуб. Дроги тронулись в свой обычный страшный путь. Сзади шла поникшая женщина. Ее поддерживали под руки. Это были нищие похороны без участия общественности и без музыки. Дроги подъехали совсем близко к мальчикам, но мальчики продолжают играть. И только когда печальная черная лошадка коснулась мордой спины одного из пятнадцатилетних верзил, круг распался и мальчики отошли в сторону. Но и там они продолжали перебрасываться мячом. Ни один из них даже не посмотрел на похороны.
В этот день мы не написали ни строчки».
Паоло и Франческа в воспетый Дантом день больше не читали о любви[45]45
Там де, с. 144.
[Закрыть].
Казалось бы, что общего между заключающей эту сцену фразой Евг. Петрова и знаменитой строкой Данта? Сходство вроде случайное и чисто внешнее…
Общее, однако, есть.
Паоло и Франческа «в тот день уж больше не читали», потому что любовь «в тот день» перестала быть для них литературой, стала событием их собственной жизни. И нечто очень похожее случилось с Ильфом и Петровым, когда они глядели на эти нищие похороны. В отличие от мальчиков, играющих в волейбол, для которых смерть продолжала оставаться абстракцией, их лично никак не касающейся («Кай смертен», – так ведь это не я, а какой-то Кай, к которому я не имею никакого отношения), для Ильфа (да и для Петрова тоже) в тот миг предчувствие близкой смерти, оледенившее их души, тоже превратило чью-то чужую смерть в событие, лично и непосредственно их касающееся. Об этом, в сущности, – вся статья О. Ронена, из которой взята приведенная мною цитата.
Книга Омри Ронена, из которой взяты все эти примеры, не совсем обычная.
С одной стороны – вроде научная, филологическая, и по основным научным подходам автора постструктуралистская. С другой же стороны, она – по меньшей мере наполовину – мемуарная. Я бы даже сказал – ностальгическая:
Я с легкостью вспоминаю воспарение первой встречи с именем и стихом Пастернака. Кожей левой щеки я ощущаю на трехметровом расстоянии наискосок и сзади от меня на книжной полке песок и выцветшее серебро обложки, и могу сейчас дословно переписать со стр. 205 выдержку с цитатой, запомнившейся мне еще полвека назад: «Самому большому дереву четыре тысячи лет. Называется оно «Генерал Шерман». Американцы – люди чрезвычайно практичные. Возле «Шермана» висит табличка, где с величайшей точностью сообщается, что из одного этого дерева можно построить сорок домов, по пяти комнат в каждом доме, и что если это дерево положить рядом с поездом «Юнион Пасифик», то оно окажется длиннее поезда. А глядя на дерево, на весь этот прозрачный и темный лес, не хотелось думать о пятикомнатных квартирах и поездах «Юнион Пасифик». Хотелось мечтательно произносить слова Пастернака: «В лесу клубился кафедральный мрак…»[46]46
Там же, с. 21.
[Закрыть].На даче было несколько книг, принадлежавших, может быть, еще первоначальным хозяевам этого домика с заросшим лопухами и крапивой маленьким садом. Я нашел там два или три серо-зеленых, плотненьких киевских «Чтеца-Декламатора» со стихами Балтрушайтиса и Шелли… и разрозненный том Тургенева в издании 1880-х годов, переплетенный в пупырчатый караковый коленкор[47]47
Там же, с. 24.
[Закрыть].
Такое подробное ностальгическое воспоминание предшествует у О. Ронена едва ли не каждому его интертекстуальному анализу
Зачем тут они?
Совершенно очевидно, что все эти так отчетливо сохранившиеся в его памяти ассоциации – зрительные, обонятельные, осязательные, все эти «ненужные» подробности, львиную долю которых я вынужден был опустить, суть не что иное, как признания в любви. Я бы даже сказал, не в любви, а – влюбленности: ведь только влюбленный так ясно помнит запахи, сопутствующие его первой встрече с возлюбленной, и только влюбленный сохранит свое первое прикосновение к предмету своей любви «кожей левой щеки».
В.Б. Шкловский однажды написал, что безграмотно начинать театральную рецензию сообщением о том, что рецензент пришел в театр и занял свое место в театральных креслах. И точно так же безграмотно литературному критику предварить свой критический отзыв о книге рассказом о том, как он раскрыл эту книгу и начал ее читать.
Омри Ронен демонстративно пренебрегает этой азбукой нашей профессии, которая, конечно же, хорошо ему известна:
Сегодня передо мной лежит первое полное издание «Записных книжек» Ильфа. Да будет благословенна память Ильфа и Петрова! С ними нам было смешно, а не страшно в Советском Союзе. Мне хочется найти верные слова для понимания, сочувствия и благодарности для книги Ильфа. Я читаю ее уже полгода, она сама раскрывается на страницах, к которым я возвращаюсь.
Зачем ученому постструктуралисту нужны эти постоянные признания в любви – и прямые, и косвенные?
Ну, во-первых, очевидно, в этих признаниях, от которых он не может удержаться, есть у него какая-то неодолимая внутренняя потребность.
Но это – только одна сторона дела.
Другая же состоит в том, что между этими его признаниями и следующими за ними (не обязательно непосредственно за ними) интертекстуальными анализами существует какая-то связь. И даже не просто связь, а – прямая зависимость.
На этот счет у него есть своя теория. Лучше сказать – концепция. И не столько даже своя, сколько усвоенная от уроков, преподанных ему в свое время Учителем:
…очерк памяти Маяковского представляет собой исключение, а не общий случай в письменном творчестве Якобсона. Такого типа оценки, как правило, представляют собой часть его устного учения или же присутствуют имплицитно в его выборе предметов для научного исследования, которое всегда начинается у него с ценностного суждения, с восторженного интереса к исследуемому тексту – попросту говоря, с любви к материалу
Дело в том, что он никогда не занимался произведениями или авторами, которые бы ему лично не нравились, и терпеть не мог, когда ученики его избирали какой-нибудь посредственный текст для анализа из-за его облегченной и потому более наглядной структуры…
Его совет был такой: «Никогда не занимайтесь произведениями, которые вам не нравятся. Либо вы их просто не понимаете – тогда вам не следует о них писать, либо они и в самом деле нехороши – тогда подобного изучения они не заслуживают… за этими охотиться, только чутье испортить»[48]48
Омри Ронен. Литературная синхрония и вопрос оценки и выбора в научном и педагогическом творчестве P.O. Якобсона. Тыняновский сборник. Вып. 10. М. 1998, с. 410–411.
[Закрыть].
Вот оно, оказывается, как: если анализируешь то, что тебе не нравится, и даже то, что оставляет тебя равнодушным, – ничего хорошего из твоего анализа, будь он самый что ни на есть интертекстуальный, не получится.
Так может быть, интертекстуальные анализы Омри Ронена отличаются от тех, с которыми мы до сих пор имели дело, не в последнюю очередь потому, что он хорошо усвоил этот урок своего Учителя? Или – еще вернее, – потому что этот урок, эта якобсоновская заповедь в его случае (в силу некоторых особенностей его духовной конституции) пала на особенно благодатную почву?
Тут уместно вспомнить одно соображение К.И. Чуковского, высказанное им в сравнительно недавно опубликованном его письме А. М. Горькому. (Письмо это я однажды уже цитировал):
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































