Текст книги "Русское окно"
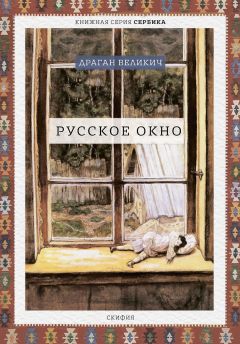
Автор книги: Драган Великич
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 25 страниц)
Позже он с удовольствием вспоминал пробуждения. А их было много, больше, чем утренних январских часов в квартире на площади Листа. Они спали несколько часов, ровно столько, сколько было необходимо телу, чтобы налиться страстью и силой, и тогда, проснувшись посреди ночи или в серый зимний полдень, лежали в кровати и разговаривали. Как мало надо, чтобы глаз привык к переменам, думал Руди, впервые замечая коллекцию миниатюрных жестяных коробочек с чаем, растянувшуюся во всю длину висячей полки. Неужели этого не будет ему хватать во время пробуждения у себя на бульваре? Некоторое время он будет отыскивать взглядом эту пеструю вереницу на фоне длинных штор, после чего переключится на сенсации известной тональности.
И прежде чем переменить положение, он продолжит разглядывать инвентарь на противоположной стене, ненароком, в полусне, касаясь Сониного тела, и его уносит в какое-то далекое время, в некий неопределенный лень, где многолетняя привычка к присутствию любимой женщины лишена ощущения собственности. Но именно это чувство, которое возникает только при долгой и серьезной связи, чувство обоюдной принадлежности, вызывало у Руди неодолимую страсть к той, которая в этот момент была рядом с ним в кровати. Он мог вызвать это чувство исходя из опыта с Иреной и был готов поделиться им с любой женщиной. Сонина рука на его животе, ладонь, под которой шевелится его мужское достоинство, возбужденное уже самой мыслью о том, что в любой момент может взять это тело, вещи и предметы на пути в кухню и ванную – все это находится внутри квартиры на площади Листа. Вне этого пространства – белизна. Не только белизна снега, но белизна непознанного, пустое маргинальное пространство, откуда время от времени прилетает ледяной воздух. Соня приоткрывает окно, чтобы выпустить табачный дым. В эти мгновения Руди осознает существование внешнего мира. Картина, в которой они с Соней играют главные роли, всего лишь одна из многих тысяч схожих ситуаций, возникающих в этом городе. Каждые несколько часов статическая картина уснувших любовников изменяется по предусмотренной схеме: после поцелуев и нежных касаний, следующих за пробуждением, быстро накаляется страсть; голос становится глухим, движения пробуждают юношеское влечение, волосы прилипают к влажным вискам, расположение фигурок на комоде, упоминание чьего-то имени, моментальное осознание обладания телом, в которое уже вписано присутствие других. Да, да, пришло время императоров, думает Руди. И сразу сбрасывает наваждение, пытается не думать о своих предшественниках. Смятение охватывает его. Быть частью кипящей материи, участвовать в метаболизме огромного города, стать невидимым муравьем, преодолевающим бессмысленные расстояния, руководствуясь намерениями, страстями и амбициями, также бессмысленными. И опять-таки, отделившись, радоваться зимнему дню, быстро гаснущему в ночи, тому, что многие не дождутся утра, что растут кладбища по окраинам города, что и он тоже чей-то предшественник в квартире на площади Листа, что он, похоже, научился радоваться этим бесцветным моментам, течение которых отмечает только шипение газа в печи.
Живешь годы, а все достойное воспоминания умещается в полчаса рассказа, говорит Соня, нежно ощупывая живот и бедра Руди.
И этого хватает. У моего отца багажа не хватило бы и на четверть часа монолога.
В отличие от моего, который едва бы мог поведать десятую часть того, что ему довелось пережить. А мамин отец? Пройти пешком пол-Сибири. Он был врачом, добровольцем в Красной армии. Его отец, мой прадед, строил Транссибирскую магистраль. Четыре года провел на стройках Сибири. Там влюбился и женился. Моя прабабка была русской из Осетии. Она так хотела однажды съездить туда.
Поэтому у тебя русское имя?
Нет, я же сказала тебе вчера, что отец назвал меня в честь героини какого-то русского фильма. Он не запомнил ни названия, ни режиссера, даже фамилию актрисы. Только то, что смотрел этот фильм в кинотеатре «Двадцатое октября» и что главную героиню звали Соней. Интересно, сохранился ли этот кинотеатр?
Да, он существует. А этот твой дед, врач, как он попал в Красную армию?
Летом тридцать восьмого года он отправился в Россию, якобы к родственникам в Осетию. Это мутная история, мама рассказала мне, что за два года до отъезда в Россию он бросил их. Ей было девять лет. Помнит, как ее мама безвылазно, целыми днями сидела в своей комнате. Она превратилась в тень, все время прислушивалась к голосам, раздававшимся снаружи. Но ей было что слышать, потому что ее муж, хирург из Пешта, был вечной темой скандалов, о которых судачили по всему городу. Его свела с ума одна молодая актриса, он совсем потерял голову. Бросил работу в больнице и стал поспешно разбазаривать наследство, которое ему оставил отец, мой прадед, инженер, строитель Транссибирской магистрали. Актриса получила ангажемент в венском «Бургтеатре», и дед уехал вслед за ней. Однако она вскоре бросила его, и он вернулся в Будапешт. Провел несколько месяцев в семье. Была весна. По воскресеньям они ездили на экскурсионном пароходике в Сентендре. А потом, в начале лета, дед уехал в Россию. Никому о себе не давал знать. А потом началась война. Его, гражданина враждебной страны, интернировали на Кавказ. Но поскольку он был хирургом, его призвали в санитарный отряд. Два года он оперировал на фронтах. Ампутировал сотни рук и ног. Я знаю это, потому что он вел рабочий дневник, записывал фамилии и другие сведения о пациентах. Я нашла эту тетрадь, а также пачку писем и фотографий. В конце войны его перевели в Казахстан.
В Венгрию он вернулся только в пятьдесят четвертом. Моей маме тогда исполнилось двадцать пять, за плечами уже был один неудачный брак. Она играла в филармонии на флейте. Она рассказывала мне, как дед, войдя в квартиру, опустил чемодан на пол в прихожей, снял пальто и, как будто его не было всего несколько дней, а не шестнадцать лет, попросил полотенце. В ту ночь он рассказал бабушке все о жизни в России. Он, выросший и живший как буржуй, стал заядлым леваком. Виновником дедушкиной метаморфозы был немецкий художник Герман Фогель, друг Ленина. После Октябрьской революции он занимал высокий пост в большевистской иерархии инженеров человеческих душ. Дед познакомился с ним в Москве. Через несколько лет вновь встретил его в Казахстане, в больнице колхоза имени Буденного, где Герман Фогель умирал от последствий голода и истощения. Потому что этого иллюстратора советской жизни в начале войны, как и всех иностранцев, интернировали далеко за Урал. Он ездил с культурными миссиями, был клоуном пропаганды, как его позже называл дед, постоянно рисовал сценки из жизни обычных людей, которых встречал на бездорожьях Сибири. Он попросил деда после войны передать его жене, которая осталась в Москве, сотню рисунков форматом с открытку, своеобразный дневник его путешествий. Тем временем дедушка влюбился в одну санитарку, она родила ему сына, и он остался жить в Казахстане. Хранил рисунки, на оборотной стороне которых были дневниковые записи. Через три года после войны, во время какого-то хирургического симпозиума в Москве, дед отыскал жену Германа и передал ей рисунки. Во время работы конгресса он каждый вечер навещал ее, рассказывая о последних неделях жизни мужа. Обманывал эту женщину, выдумывал события. Вскоре после этого сумел переехать в Москву, оставив в Казахстане жену и сына.
Что за человек, сказал Руди.
Бросил и жену Германа, вернулся в Будапешт. Он блуждал всю жизнь. Совершал хирургические операции на собственной жизни. Ампутировал часть прошлого, его больше не существовало. Погиб на улице во время беспорядков в пятьдесят шестом, до моего рождения. Они вытаскивали раненых из подвала на бульваре Ференци. Бабушка много лет пыталась отыскать следы его семьи в Казахстане, но потом отказалась от этого. Тот человек менял жизни как номера в гостиницах.
Как его звали?
Кальман Надь. После его смерти бабушка нашла штук двадцать акварелей размером с открытку и несколько рисунков с подписью Г. Фогель. Все они были датированы мартом сорок третьего года, то есть временем смерти Германа. И всюду одни и те же мотивы: деревенские дома, пустые дворы и окна с форточками, из которых выглядывают головы животных, птицы и люди. На одной акварели в форточке можно рассмотреть портрет моего деда: румяные азиатские щеки и рыжая борода. Непонятно, почему дед не отдал эти работы вдове Германа. Может быть, позже, живя с ней в Москве, он отобрал их? Миниатюрные акварели Германа в детстве были моими любимыми картинками. Бабушка регулярно раз в неделю рассматривала их. На обратной стороне были написаны слова, русские и немецкие, в них не было никакого смысла, и потому я думаю, что он рисовал в беспамятстве.
Ты покажешь мне эти картинки?
У меня их уже нет. Примерно в середине семидесятых мама была с филармонией на гастролях в Москве и нашла в доме престарелых вдову Германа. От нее узнала, что в Бремене, родном городе Германа Фогеля, существует его музей. Позже мои родители предложили музею купить эти акварели. Благодаря картинкам, купленным музеем, мы жили весьма неплохо. Нам тайком выплатили большие деньги.
Два года назад я была в командировке в Гамбурге и почти решила съездить в Бремен, в музей Германа Фогеля, но в последний момент отказалась. Мне стало нехорошо от мысли, что я увижу дорогие моему сердцу рисунки выставленными на всеобщее обозрение. Как будто я разделась перед незнакомыми людьми, залезшими в мое подсознание. Я и в самом деле верю, что самые важные решения мы принимаем в согласии с духами предков. Наши склонности также унаследованы, они долго дремлют в нас, чтобы потом внезапно пробудиться. Я неподъемна, не люблю путешествовать, а мои отец с дедом прожили несколько жизней, путешествуя с одного конца света на другой. Однако в собственной медлительности я узнаю сибирские и африканские дали. Как будто я прошла все эти края. Так ясно вижу пляж в Улцине, на который мой отец высадился с французскими легионерами в начале войны.
Соня продолжала рассказ. Руди на мгновение представил катушку ниток, вздрагивающую на «Зингере», как ухо жеребенка. Облик маминой машины напоминал ему лошадиную голову. В полумраке огромной комнаты с голубым огоньком газовой печки, пляшущим в углу каким-то иероглифом, возникали очертания театральной пошивочной. В этот момент Руди почувствовал себя необыкновенно мощным, воспарившим над собственной жизнью. Одним взмахом руки он мог обнять все истории как свои собственные. Перед ним в темноте бушевал океан. Вздымалось волнами будущее. В каком бы направлении он не устремился, ошибки быть не могло, потому что он создает мир своей страстью. И нет никаких сомнений, что этот мир вырастет в его делах. Каждый прожитый день – материал, сложенный в глубинах на хранение. Он не какой-нибудь мистификатор, жонглер, подбрасывающий рассказанные истории как мячики. Бесцветный слушатель семинара в поисках событий. Начало сокрыто глубоко, в запахе влаги, доносящемся из подвала одноэтажного дома в Воеводине, там же фиакры и кружева, дикие гуси в низком осеннем небе, аромат айвы в шкафах промерзших сельских комнат, фотографии предков – чудо аналогии.
Руди шагает в пространствах Сониных рассказов как репатриант. Узнает даже то, что видит впервые. Великодушный жест, которым внутри себя предает Соню будущему одиночеству – всего лишь рефлекс его эгоизма. Алиби для миссии, которая похожа на карточный долг. Каждое утро, стоя в хвосте у кассы универсама «Юлиус Мейнл» на углу Ракоци и бульвара Эржебет, он мысленно перебирает новые очередности и, уставившись отсутствующим взглядом сквозь стеклянную стену на противоположную сторону улицы с аптекой и торговым центром «Кайзере» на площади Блаха Луйза, отмечает, как через десять лет изменится окружающий его пейзаж. И что делать с этим? Что это за диагноз, слышит он злой голос Ирены. Блуждать как юродивый по городу, пялиться на фасады и каждый час отмечать свое присутствие. Или отсутствие. В чем смысл такой избранности? Нет, он не мог объяснить это Ирене. Ломбард, в котором он сам себе выписывает квитанцию. Отмена неверного выбора путем отказа от неизмеримого количества чувствительности, которую не на что израсходовать. Потому как признания его избранниц в том, что их прошлое начинается римскими императорами, вакханалиями без свидетелей, неизгладимыми событиями, на которые невозможно повлиять, ничуть не умаляют боль до такой степени, что можно с рассветом вступить в каждый новый день каким-то иным путем. Куда увела бы его Рыжеволосая? Коридоры Академии? Иная последовательность? Или же именно этот поворот выводит к правильному пути? Только те, с прошлым, умножают его владения. Собиратель процентов с чужих вкладов.
Все для него близко в этом пространстве. Как звали отца твоего деда Кальмана? Арпад. Арпад Надь.
Глубже в ночь предков. Отец Арпада увел бы тебя еще дальше, за кулисы семейной летописи, на грязные дороги Галиции, к речным пристаням, в темноту ночлежек, где зачинают байстрюков. И будут болезни, судороги и страсти, пороки и таланты блуждать по лабиринтам кровотока.
Еще один трамвай в ночиА Руди путешествовал в лабиринте подземной сети, вылезая на окраинах города как крот, вдыхал ледяной январский воздух, обнюхивал зимний пейзаж. Спал плохо, просыпался среди ночи, после чего часами не мог заснуть. В студенческие времена, накануне экзаменов, боролся с бессонницей, задавая себе вопросы. Паника возрастала, он ничего не мог вспомнить. Засыпал только под утро. И теперь, проснувшись посреди ночи, прислушивался к трамваям на бульваре и припоминал, где, собственно, он находится. Треть жизни израсходована, а он не знает, что поделать с собой. Только в глубинах бессонницы он стал осознавать блудающий курс, которым он отправился, тогда как следовало принять отчетливое решение. Были и минуты просветления: самая незначительная мысль, выросшая из нейтральной картины возбужденного сознания, увела его в фантастические высоты, в холодный мир понятий. Одно-единственное слово, внутренне произнесенное на венгерском, вызывало стих на сербском, выражение стальной силы, острое и несгибаемое. Оно укрепляло чувство, что миры возникают, что каждый творец вызывает космические взрывы. Это тот апогей хаоса, без которого нет осколков и пепла, засыпанных Трои и Помпеи, час, предшествующий одиссее. Вавилонская башня в огне. И в нем возникло сопротивление традиции – стая приматов в заброшенном храме. Он не хотел пить из источников сомнительных классиков, писать стихи на все времена, поощрять святыни. Он хотел убрать катарсис как ковер. Корона в тишине последнего акта. Сдуть пыль с вампирских книг, разогнать парад патетических фраз, вдохновенно изрекаемых приказчиками и пустоголовыми домохозяйками, учениками и солдатами, оболваненными симметрией.
Еще один трамвай, шумный ночной червяк, проползающий под окнами Руди в направлении Октогона. С тех пор, как он три дня назад покинул квартиру на площади Листа, Руди все никак не может освободиться от слов Сони, сказанных на прощанье.
Печальный январский день, запах кофе, тепло большой кафельной печи, неприбранная постель, тумбочки, заставленные тарелками, бокалами и пепельницами, и длинная белая нить нерастраченного времени, вакуум, в котором завтрашний день испустит дух. И существо Соня в этой обыденности, возникшей в часы страсти и историй. Она заполнит своим присутствием каждый уголок прошлого. Потому что Соня в первую очередь была свидетельством того, что он на правильном пути. И что он был на нем, когда блуждал по бездорожью одиночества, тщетно стараясь понять, какое несогласие он таит в самом себе. Его мучило сознание того, что проходят лучшие годы, а он расходует их без любви. Отсюда и взгляд со стороны, с фасада, отсюда опьянение мятежом. Он, собственник отложенной жизни, выстроил тонкую структуру причин и следствий, которая должна была подтвердить его избранность и всякому попутному решению придать ореол стратегии. Ничто не происходит случайно, каждая потеря – залог новой истории, тот, наверху, надумал что-то для него, указав окольный путь. А на этом пути множество искушений, остановок, соглашений с жизнью, наполненной удовольствиями и ежедневными успехами, пониманием и конспирациями. Тем не менее он не может позволить себе застрять в маленькой истории, которая может его поглотить. Комфорт провинции, повседневность, наполненная весельем и красками пряничного сердца. А глубоко под перинами дышат тела, которые однажды, в старости, предъявят счета за собственные слабости и заблуждения, вернутся к нерешенным ребусам молодости, этим неизбежным десертам напрасно прожитой жизни. Это те, кто шел кратчайшими путями, избранники легкости, самоуверенные и успешные, те, кто уважает хронологию и все делает в положенное время.
Но и в этот раз повторилось, в квартире на площади Листа, ощущение полноты, которое он в первый раз почувствовал с Иреной, но одновременно и боязни того, что его одолеет сила тяжести естественного решения. Он больше не будет одинок. У его намерений будут свидетели. Присоединятся обязанности соблюдать сроки, и неминуемое присутствие других вытеснит склонность откладывать окончательное решение. Потому что вымышленная жизнь, к которой он склонен, лишится страсти, ее укротит близость любимого существа. Почитая это алиби за отсутствие находчивости, Руди верил, что очень важно продлить пребывание на невидимой части льдины, потому что когда он наконец выплывет и продемонстрирует себя миру, начнется отсчет его карьеры, расход субстанции, накопившейся в его душе в результате долгого одиночества. Зима молодости для писателя – важнейшее время года. В ней он находится вне координат, которые могли бы определить его место относительно предыдущих лиц, сделать его истинно свободным в героическом периоде мифологии.
«А сейчас мы разъедемся, каждый в свою сторону»Руди именно в Будапеште отказался от идеи стать актером. Блуждая по городу, обнаружил в себе писательский дар. Он был собственником историй, которые происходили вокруг него. Писательство есть не что иное, как переживание за других. Он провожал взглядом молодую женщину, быстрой походкой исчезающую в мрачном подъезде пятиэтажки на Кристинавароши, или элегантно одетого господина средних лет, который странно оглядывается, прежде чем сесть в такси у отеля на Табано, и с этого момента они становились частью безразмерной памяти Руди. Однажды они всплывут, неизвестно в какой ситуации, чтобы наградить своим внешним видом выдуманного героя. Или не только им, они могут оказаться в центре невероятной авантюры, которая разыгралась исключительно в воображении Руди. Но от этого она не стала менее действительной. Она произошла в результате работы всей нервной системы, полного пробуждения духа, который сам по себе становится чувством.
Он знал наизусть части монологов Даниэля, громко произносил их, передвигаясь по пространству своей квартиры на стуле от «Икеи» с колесиками. Достаточно было отъехать в сторону на метр и увидеть в зеркале собственное лицо, как весь произнесенный текст получал другую визуальную интонация, а когда читал его у окна, то рассматривал фасады на противоположной стороне улицы. И не только это, он изменял текст Даниэля, обогащал его фактами собственной биографии, которая создавалась в этом городе. Этот метр в сторону на стуле из «Икеи» существенно менял оптику повествователя. Отклонение в сторону переносило его на сотни километров к северо-востоку, в приморский городок, в котором вырос Даниэль.
Кассеты мемуаров Марии Лехоткай вместе с отпечатанными страницами он передал ее родственнику,
так что фразы знаменитой актрисы он сохранил только в памяти. Записал их в то утро, часов через десять после возвращения с площади Листа. Не случайно он воспользовался именно этими словами, когда после бессонной ночи в своей квартире на бульваре Эржебет мысленно восстанавливал Сонин комментарий, высказанный на прощание как приговор. Записывая наугад фразы Марии Лехоткай, ту часть, к которой она часто возвращалась в воспоминаниях – что человек искусства никогда не проигрывает, потому что его жизнь вне категорий, которыми руководствуется весь нормальный мир, поскольку материал, с которым этот мир работает, неуничтожим, а человек искусства лучше всего чувствует себя на руинах, что чистое состояние души – мертвое море, губительное для пловца, что он лучше всего чувствует себя во время бури, а не в штиль, – Руди все время заполнял пространства огромных квартир, а у его собеседницы на мгновение появлялись за спиной голые кроны на площади Листа. Огромная ладонь музыканта с растопыренными костлявыми пальцами нависала над клавишами неизрасходованных дней, как летучее доисторическое чудовище.
И вот мощный аккорд. Сейчас мы разъедемся, каждый в свою сторону, говорит Соня. Погладила Руди по щеке. Это движение завершило трехдневный сеанс. Он стоял в прихожей и молчал, как ученик, не знающий ответа. Внезапно вся эта уже ставшая привычной декорация исчезла после одной фразы. Сцена опустела. Тишина снега, черный хлопок ночи. Кончиком указательного пальца Соня прошлась по сухим губам Руди и поцеловала его. В горле у него жгло. От кофе, коньяка и сигарет.
Что я вообще знаю о женской душе, подумал Руди, пока кабина лифта скользила в утробу здания. Лифт за это время починили, что дало ему минутную передышку. Сейчас самое главное – забыть. Попутное припоминание банальных деталей – лучшее лекарство. Использовать их как компресс. Вдохнуть полной грудью ледяной воздух, остановиться под уличным фонарем и осмотреться. Как будто прошел целый месяц. Сколько раз за эти три дня он перераспределил прошлое под гнетом новых историй, сколько раз обежал территорию завтрашнего дня в уверенности, что только от него зависит глубина Сониного присутствия. Обнимая ее, он вдыхал запахи ее тела, узнавал жесты и вкус ее слюны, чувствовал, как им овладевает существо, прошлое которого спрятано за занавесом языка, который пока доступен ему лишь ограниченно, растекшееся по улицам, от которых остались лишь очертания – потому что не портятся только лифты, целые же кварталы достраиваются и рушатся, – и как бы он не желал обладать этим телом, сплестись с ним историями и дыханием, в голове у Руди пульсировала еретическая мысль: надо подождать. Остаться на некоторое время в сторонке. Он узнал тоску, которая проявилась в последние месяцы с Иреной. Ему нужна была связь, которая стала бы материком и океаном одновременно. Пристанью и пароходом. Якорной стоянкой и плаванием.
Как он наивен и глуп! Аутист, не способный представить никакой иной природы, кроме своей. Неспособный с помощью собственного ума сохранить одиночество и при этом не оставаться одному. Для каждой будущей связи определить срок действия и тем самым сохранить свободу выбора. Как будто только он движется по спирали времени, а другие застыли в неизменных ролях, оставаясь только частицей мизансцены в тени. Все это время Соня таила мысли, которые не соответствовали происходящему на сцене. Она касалась губами его шеи и груди, рассказывала семейные истории, улыбалась ему, а в это время внутри у нее разыгрывалось неизвестно какое представление. О чем он никогда ничего не узнает. Шкафы, сказал он вполголоса. И в коридоре, ведущем в складские помещения провинциального театра, показались очертания огромных шкафов. На дверях висели записки с названиями спектаклей. Сколько раз он ребенком проходил вдоль сезона, нанизывая на неспешные шаги весь репертуар. Он узнавал на вешалках некоторые костюмы из полюбившихся спектаклей. Отвратительная смесь нафталина, пота и пыли создавала уникальный запах пронесшегося времени. Он помнил слова, интонации, жесты. Все это перетасовывалось в нем, развивались процессы, он стал подвергать сомнению официальные версии. Мир взрослых открывался перед ним как плохо отрепетированное представление, в котором то и дело становятся заметными огрехи. Противоречия сменяли друг друга. Из-за чрезмерного употребления прошлое изнашивается как костюм.
А сейчас мы разъедемся, каждый в свою сторону. Так сказала Соня. Не от дедушки ли она унаследовала привычку менять жизни как гостиницы? Хотя она сказала, что не любит передвигаться, потому что предки израсходовали лимит путешествий, Соня не монашка, которая из-за физического недостатка терпеливо дожидается своего случая. Нежная синкопа шагов делает ее единственной и неповторимой. Поэтому она так расслаблена в кровати, ее бесстыдство, как и хромота, врожденное. Как же мало хватило Руди, чтобы в его помутненном взоре возникла занесенная снегом крутая улица Кристинавароши, в которой раздаются хриплые голоса парней и девиц. Пьяные и веселые, они направлялись к главной улице. С ними была и Соня. Парень, с которым она провела ночь, на прощание целует ее. Она садится в такси. Над Будой начинается первое утро года Оруэлла. Время императоров. Почему же тебя не было там, Руди? Ты везде отсутствовал. Или это примета твоей особости? Печать взросления в маленьком городе. Ипотека любовной истории модистки и корреспондента столичной газеты.
Дни на площади Листа буду храниться отдельно, как спектакль в шкафу. Хотя, если он и не войдет в репертуар, его костюмы и реквизиты не потеряются в пространстве, где хранятся остатки сыгранных представлений. Потому что внезапность этого январского эпизода, сказочность его актов, магма, в которой сгорали герои, останется навсегда. Экспонаты Помпеи. Пустые саркофаги.
Оборот ключа поставил точку. Он не ожидал такого быстрого конца. Резкий звук, сохранившийся в памяти, смешался со стенанием лифта, погружающегося в глубину здания. С райских высот он опускался вниз, в жерло города. Именно это слово, эпизод, пронеслось в его сознании, когда днем ранее он с Соней поднимался по лестнице в ее квартиру. Он испугался конечности, завершения уже вычерченных траекторий, по которым следовало пройти и тем самым выполнить кем-то начертанный план; сцена давила тяжестью и темнотой, и как бы ни было каждое мгновение с Соней наполнено страстью, Руди чувствовал, что в этой истории не он главный герой. Он понимал, что всего лишь играет в эпизоде. Что-то болезненное ощущалось в атмосфере квартиры, неважно, заходил ли он в неотапливаемую библиотеку или лежал в кровати, вслушиваясь в шипение газа в печи. Призраки населяли это огромное пространство, напичканное мебелью и предметами. Соня жила в осадках историй печальной жизнью отшельницы. Присутствие матери только усугубляло одиночество красавицы с физическим пороком. Так думал Руди. Он любил и одновременно жалел ее. Выстроил версию, в соответствии с которой он сам определит меру присутствия в ее жизни. Он был и в порту, и в пучине, любимец богов. Все увиденные им спектакли, все некогда прочитанное осело в нем. Впервые он осознал себя хозяином. Он был и Гомером, и Одиссеем.
Может, стальная игла «Зингера» опасно приблизилась к краю истории? «Лимбус!» – восклицала мама, слишком сильно потянув за край материи. Резкий звук металла в пустом пространстве механизма. Он полюбил это слово еще до того, как узнал все его значения. Для мамы это была всего лишь кромка, кайма, подрубленный конец платья или костюма. Вне суши провинциального городка Воеводины простирался океан непознатого.
Когда Руди вышел из Сониного дома в зимний вечер, площадь Листа показалась ему видом с новогодней открытки: фасады домов со светящимися окнами, голые деревья, уличные фонари и очертания памятника, похожего на стражника, бдящего в ночи. Добравшись до здания Музыкальной академии, он еще раз обернулся и постарался взглядом охватить всю площадь. Каждый следующий шаг уведет его за пределы этого идиллического пространства, которое показалось ему не просто передышкой, а материком, у которого заканчивается долгое плавание. Как ни странно, боли в нем не было. Она придет позже. Теперь, на улице, он погрузился во внешний мир, оставляя отражения в стеклах витрин, обмениваясь взглядами со случайными прохожими. На углу улицы Кирайи он поискал желтую неоновую вывеску кафе «Эклектика», вспомнил сапожника и его молодую жену. Шагал по расквашенному снегу, который в некоторых местах заледенел. На бульваре дул сильный ветер. Он поднял воротник куртки и натянул на уши шапку. Подошел трамвай. Он отказался от прогулки и побежал к остановке. Пассажиры в полупустом вагоне молчали. И, что еще удивительнее, все они были одиноки. Молчали и те, кто сидел рядышком, каждый занятый своей поездкой, конечная цель которой была далека от бульвара. Молодая женщина в шубе, сидевшая спиной к направлению движения, на мгновение задержала взгляд на Руди и улыбнулась. Он тоже ответил ей улыбкой. Вышел на площади Блаха Луйза. Рекламы на фасадах и крышах зданий призрачно мерцали на фоне низкого неба, обещающего снегопад.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































