Текст книги "Русское окно"
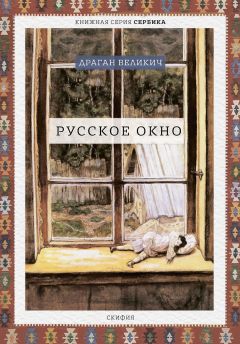
Автор книги: Драган Великич
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 25 страниц)
Проходили недели. Руди перестал посещать лекции Марианны. Обещал ей осенью записаться на курс в университете. Однажды вечером на улице Ваци встретил Эдину. Она шла, держа за руку высокого парня с длинными прямыми волосами. Он был похож на гуннского воина. Она только улыбнулась и кивнула головой в знак приветствия.
Соня с матерью уехала на две недели отдыхать в Шопрон. Ее жизнь протекала за высокими стенами твердо усвоенных привычек, и она определялась неумолимым решением не отдаваться беспокойной влюбленности. В конце она останется одна с горьким вкусом еще одной неосуществившейся возможности. Так она сказала Руди вечером накануне отъезда, когда они прогуливались рядом с Парламентом. Понтонный мост, по которому Руди в новогоднюю ночь вошел в ее мир, был разведен. Она не хотела пускаться в связь, не имеющую будущего. Потому что Руди рано или поздно уедет из Будапешта. Напрасно он рассказывал ей о своем намерении записаться осенью на курсы постдипломного образования в американском университете, что директор Института Гете обещал работу в библиотеке. Между ними разрасталась бездна невысказанного.
Однажды июньским днем спектакль закончился. Бомбардировки прекратились. За ночь свернули цирковой шатер, зверей развели по клеткам, акробаты и жонглеры упаковали реквизит, клоуны смыли с лица грим, и на поляне, где когда-то был цирк, осталась только затоптанная трава и следы от колес. Стоимость квартир в Будапеште резко упала. Беженцы покидали город.
Марианна и Константин готовились к отъезду в Америку. Джордже и его кубинка Апаресида решили еще на некоторое время остаться в Будапеште. В отличие от Константина Джордже вносил спокойствие, он все воспринимал таким, каким оно было. На праздновании дня рождения Апаресиды он долго объяснял, что кто-то должен написать «Сербскую Касабланку». По профессии он, как и Марианна, был социологом, но уже много лет занимался журналистикой. Несколько лет провел в
Берлине. Там и познакомился с Апаресидой. Писал репортажи из Восточной Европы для немецких журналов. Написал книгу о торговле людьми. Договорились в конце месяца устроить прощальный вечер.
Однажды после полудня, возвращаясь из кафе «Экерман», Руди решил обойти книжные магазины на бульваре Музеум. Оказавшись перед зданием Национального музея, он вспомнил, что кто-то рассказывал ему о выставке венгерского интерьера. Внутри посетителей почти не было. Он вошел в хижину, которую тысячу лет назад сооружали по пустошам на тогдашней венгерской территории. Перед ним разматывалась лента времени. Он ходил по средневековым дворцовым комнатам, прошел сквозь корчму, где в тишине сидели случайные посетители с восковыми лицами. Он ускорил шаги, попав в прихожую двадцатого века. Путешествуя во времени, он чувствовал, как переходит от одного себя к другому. Да, права Марианна, существует только внутренний мир. Он долго стоял в масонской ложе, засмотревшись на реквизиты тайного общества. Попав в маленький зал кинотеатра в Пеште, он уселся в последнем ряду. На стенах висели портреты артистов, улыбающихся из глубин небытия. Перед ним желтело полотно экрана. Он различал очертания городов, через которые предстоит пройти, видел мутные тени вещей и предметов в квартирах, где предстояло прожить некоторое время, слышал голоса женщин, которые принадлежали ему. В полумраке кинематографа к нему вернулось ощущение того, что все, именно все, что происходило с ним, таким и должно было быть. Что бесцветные годы учебы – залог бурной жизни, дрожь которой он почувствовал еще ребенком, исследуя театральные кладовые.
Это был тот же самый запах, который волновал его во время спектаклей, а позже на террасе квартиры на улице Королевича Марко, под Бранковым мостом, когда он выходил из трамвая, на плато Калемегдана, где всегда оказывался во время одиноких прогулок, в пустых утренних трактирах, во мраке «Кинотеки». Он вышел из кинотеатра в Пеште, разойдясь с пожилой парой иностранцев, шептавшейся на каком-то нордическом языке, и вошел в класс. Географическая карта на стене демонстрировала Венгрию до Трианонского мира. Он коснулся рукой глобуса. На следующей карте в какой-то канцелярии Венгрия была намного меньше. Серая краска бывших территорий принадлежала Королевству Югославия, Румынии, Украине. В конце он оказался на кухне пятидесятых годов. Такие он видел в Воеводине во времена своего детства. Алюминиевая посуда, плита с жестяной трубой, ящик для угля, длинная кочерга, три ступки разного размера, связка сушеного перца, застекленный шкафчик.
Когда он вышел на улицу, над городом пламенел летний закат. Он прошел мимо отеля «Астория» и далее по улице Ракоци в направлении дома. Уже не слышались на каждом углу слова на родном языке, в кафе и садах при ресторанах не встречались знакомые лица. У некоторых биографий нет даже дворов, услышал он голос Константина. Они сидели в кафе «Кер» на улице Шаш. Предчувствуя, что это, скорее всего, их последний разговор с глазу на глаз, Руди рассказал Константину, что больше года назад в Белграде он был профессиональным выгулыциком инвалидов. Писатель внимательно выслушал его. Нет, почему он считает, что надо было начинать раньше? У каждого свой путь. Важно только, чтобы было что сказать. Как узнать это? Излишний вопрос, сказал Константин. Почему он считает, что необходимо состоять в обществе подмастерьев? Строить карьеру означает прежде всего прислушиваться, не обижаться, не знать, в какой момент можешь пригодиться. А это ведь оковы. Так легче всего пропасть. И больше тебе нечего сказать. Писательство – раскопки, вид археологических работ. К некоторым моментам приходишь только в результате беспощадного разоблачения самого себя. То, что он рассказал ему о Даниэле, о Марии Лехоткай, всего лишь факты, которые можно и придумать. Но литература – не пересказ. Невозможно придумать несрежиссированную субстанцию, которая будет единственным залогом дара. Этот запах пыли на сцене, шкафы с костюмами и реквизитом, эти долгие поиски самого себя и есть единственный, настоящий путь. И неважно, сколько это продлится, пока мир в себе не превратишь в слова. Обрабатывай собственный сад, сказал Вольтер. Но ведь у некоторых биографий нет даже двора. Говоря это, я имею в виду захватывающие картины, которые возникают до того, как появится потребность описать их, нарисовать или скомпоновать. Сад – это единство. А мы – люди из подвалов.
Это первое лицо множественного числа, которым он ввел Руди в мир литературы, определило направление следующих дней. В торговом центре напротив вокзала Нюгати он купил ноутбук «Тошиба». Всю зиму, спускаясь на эскалаторе в метро на станцию «Блаха Луйза», он проходил мимо старика в национальном костюме на рекламе, несущего под мышкой ноутбук японского производства. И теперь, сидя в трамвае по дороге домой, разглядывал возникающие фасады, рекламу, витрины магазинов, безымянных людей на тротуарах Пешта. «Meleg, meleg», – слышал он голос толстяка на станции Келети, приехав год с лишним назад в этот город. И не случайно именно в ту минуту появился незнакомый человек. Жара, жара, повторял он про себя слова, которые в то июньское утро принял за приветствие.
Ты все уже виделПотихоньку удалялся вокзал Келети, гигантские мачты Непштадиона с гроздьями прожекторов, высокая ограда кладбища Керепеши. Через несколько секунд показались аллеи, геометрические ряды зеленых поверхностей, под которыми уже год покоилось тело Радое Лаловича. Весной этого года они с Соней были на этом кладбище. На обратном пути он предложил ей зайти к нему на чашечку кофе, однако Соня отказалась от предложения. Она положила руку на плечо Руди и сказала, что кофе они выпьют в «Одеоне».
Руди сидел у окна в поезде «Бела Барток». Облачное сентябрьское утро, мелкий дождь, колонны автомобилей, купола зонтиков на тротуарах украшали сцену города, который он покидал. Добрый дух в образе директора Института Гете помог Руди получить годовую немецкую визу. Вечер накануне отъезда он провел с Джордже и Апаресидой в пабе на улице Кечкемет. Марианна только однажды позвонила им из Америки, сказал Джордже. Она сообщила, что у них с Константином все в порядке, она преподает в небольшом университете близ Нью-Йорка, Константин пишет книгу «Сербская Касабланка». Спрашивала о тебе. Я сказал ей, что ты вскоре уезжаешь в Мюнхен, и она просила передать, что ты уже не настолько молод, чтобы так разбрасываться. Руди на мгновение показалось, что Марианна с ними и резким голосом привычно раздает советы. Она терпеть не могла отговорок, и если кто-нибудь из собеседников давал ей отпор, то не успокаивалась, пока не убеждала его в ошибочности взглядов. Он вспомнил, как однажды она сказала ему, что еще не встречала человека, который бы так тщательно планировал каждый свой день, как Руди, а теперь уже вся следующая неделя выпала из его планов. Будущее тоже планируется, нельзя так просто плутать по следам случайностей. Ты не бутылка в море, а сознательная личность, которая должна знать, к чему ведет каждая из дорог.
Может, он и в самом деле бутылка, брошенная в море? Или же прав Константин, который в тот вечер в кафе «Кер» сказал ему, что настоящий художник черпает из собственной прожитой жизни? Писательство всегда взгляд назад. Ты все уже видел, контуры окончания видны в самом начале.
Он вернулся в вечер, когда Константин напился и пребывал в хорошем настроении. Вот, посмотрите на парочку в том углу. Руди осторожно обернулся. Молодой человек с глубокими залысинами, бледной кожей и большими темными губами с восхищением смотрел на собеседницу, которая живо жестикулировала, заглядывала ему в лицо, как будто убеждая его в чем-то. Все время говорила только она. Что мы видим, спросил Константин. Неуверенного в себе парня. Вам не обязательно знать хоть что-нибудь о его жизни. Достаточно просто посмотреть на него. Он станет живее всего, когда умрет, и чем мертвее, тем будет живее. Он еще не верифицировал свою жизнь, еще не пришел к себе, но уже проделал половину пути, потерявшись в мире внешних вещей.
Константин говорил путанно, прерывисто, делая долгие паузы, во время которых только улыбался и подмигивал в сторону парочки в углу. В какой-то момент вытащил из кармана свернутый лист бумаги и положил его на стол. Постучал указательным пальцем по бумаге и продолжил говорить. Руди едва удавалось связать фрагменты, относящиеся к таким разным периодам жизни Константина. Вот и бомбежки закончились, произнес он задумчиво. Все опять продолжится. Кое в чем Марианна, видимо, права. Ты ведь не одинокое дерево посреди поля. Потому что всегда есть какая-то побочная история, в которую ты можешь свернуть. А ты их не учитываешь, считая компромиссами. Я всегда жил вне главного течения, для меня разрушение – нормальное состояние духа. Меня никогда не вдохновляла постоянная занятость. Годами я пытался участвовать в конкурсах, не было новинок, которые я бы не попытался использовать. Двадцать лет спустя я создал свой тип колонки. Но все-таки нет во мне желчи, зависти, злобы из-за того, что я ко всему шел окольными путями. Где-то я сильно согрешил. Какая небрежность, что я не присоединился ни к одной стороне. Позже, с первым романом, пришел успех. Потом Марианна.
Хорошо с нехваткой, сказал Константин. Излишества опасны. Я всегда был высокомерен по отношению к пробивным людям. Несчастные существа, думал я. Сколько труда и умения положено зря, сколько самообмана и лжи. Бедняги, которые только рабским трудом добиваются чего-то, да и тогда это не чего-то, а просто ничто. Еще при жизни обрушивается сооружение, созданное ими путем уступок, мимикрии. Они не способны коснуться мира и тишины красоты, живут в постоянном напряжении, ожидая встречи с тем, чего они якобы желают. Вспоминаю, учился я с одним парнем, чистым и грубым, приехавшим из какого-то сада. Он любил Чехова. Писал пьесы еще во время учебы. Какая амбиция, но ничего из него не вышло. Лицо у него постоянно было сведено судорогой, и все принимали это за уверенность. Он весь был в поисках путей, ведущих в белградские круги, используя с этой целью женщин. Потом писал эссе, критику, но на самом деле его ничто не интересовало. Тем не менее он не пропал, бросил якорь в министерстве культуры, там и продолжает пребывать. Я был виноват перед ним. В одном интервью высмеял его. И зачем? Верю, он искренне любил Чехова. Но любви тоже надо добиться, Руди. Потому что надо учиться любить. И не переживайте, что еще не нашли себя. Только берегитесь амбиций. Это болезнь, которая съедает сама себя.
Он поднял со стола сложенный лист бумаги и медленно развернул его. Я всегда бежал, никогда мысленно не оставаясь на территории пребывания. Прошлой зимой ехал поездом в Берлин. Поезд долго стоял на станции Хоф. Занесенный снегом пейзаж напомнил мне Дивачу. Вы когда-нибудь были в Диваче? Руди кивнул головой, Константин надел очки. Две недели назад я получил это письмо от одной приятельницы. Она художник, живет в Белграде. Я прочитаю вам.
«Дорогой друг, жизнь – лес, страшный и мрачный. А по этому лесу человек бредет сквозь символы, которые пристально следят за ним. Я знаю, вы прекрасно читаете символы, так что не сомневаюсь в вашем выборе. Именно об этом хочу сказать вам. Конечно, меня радует ваше решение оставить страну, но должна сказать то, что должна сказать по своей должности. А ведь я сентиментально отношусь к вашему творческому существу, но только в том смысле, что эгоистично люблю ваш редкий для нашего времени талант. В этом таланте кроется вся ваша сила творческой здравой грубости, презрения к посредственности. Думайте как хотите, но именно это вызывает мою симпатию к вам. И если я могу хоть на секунду выразить какое-то сомнение, а вам покажется, что я отказываю вам в дружеской поддержке, то это не потому, что не люблю, как бы сказали вы, “переливание крови”. Я этого, видите ли, не люблю и у себя. Думаю, что этого никогда не произойдет со мной. Тем не менее вы наверняка сумеете найти силы, чтобы совершить нечто подобное. Я же – остаток старого волшебного мира. Вы, вероятно, знаете это. Так что представьте, какую жертву я приношу, посылая вам это письмо. Желаю счастья, ваша Диана».
Все проходит, задумчиво произнес Константин. Остаются ккие-то здания, парки, кладбища, предметы. Сменяются хозяева, ничего не остается. Собственно, остаются картины, статуи, книги, симфонии.
Он уже был там, куда следовало прибытьПоезд скользил по мосту по направлению к Буде. Справа показалась Цитадель, лесистые склоны, серый фасад отеля «Гелерт» у подножия. На другом берегу Дуная, на равнине, поднимались здания Белградской набережной. На мгновение мелькнул остров Маргит, мосты и Парламент. А потом он погрузился в монотонный пейзаж районов, построенных в пятидесятые годы. Вид вызывал какие-то другие мысли. Низкие дождевые облака давили. Ехали медленно. Он не мог распознать ни улицы, ни город, ни самого себя. В жерле прошлого потеряны воспоминания, смешались костюмы и маски, видения и люди. В нем разрасталась территория, поселялись призраки из давно услышанных историй. Лица без облика, только мысли о каком-то полудне в швейной мастерской, жужжание мух на террасе дома в провинциальной Воеводине, гул голосов, затихающий с поднятием занавеса. И хватило тонкого луча солнца, пробившегося сквозь серое небо, чтобы Руди мгновенно осознал всю красоту существования. Он уже был там, куда следовало прибыть.
Еще одно началоПервые дни после приезда в Мюнхен Руди провел в пансионе «Фиделио» неподалеку от железнодорожного вокзала. Вечерами улицы тонули в трепещущем неоне и музыке, доносившейся из ресторана и баров. Проститутки стояли на углах или прогуливались перед отелем с почасовой сдачей номеров. На каждом шагу он слышал слова своего языка. Встречал группы темноволосых юношей. Весь район принадлежал иностранцам.
Связь с Институтом Гете помогла легко зарегистрироваться в полиции. Он получил временный статус беженца, нашел гарсоньеру в пригороде Мюнхена Пазинге. Все время он рассматривал мир вокруг себя с расстояния, как будто все это происходит не с ним, а с героем, о котором он пишет. Включая утром ноутбук и глядя в
окно, он видел там нечто постоянное: прямоугольник кирпичного фасада здания напротив. Сквозь прозрачные шторы просматривались очертания жильцов. Он наугад записывал мысли, вызванные дыханием внешнего мира. Не бывает ни одного мгновения, в котором бы ничего не происходило. Все, что было, продолжает существовать и далее. Проходя в Пазинге мимо кладбища, он часто вспоминал Радое Лаловича. В нескольких кадрах он выстраивал трассу, которая вела от пляжа в Улцине к аллее кладбища Керепеши, где бывший испанский боец, легионер, генерал и заведующий хозяйством будапештской филармонии обрел место вечного покоя. На этой трассе единственным четким ориентиром была квартира на площади Листа. А когда уже в следующее мгновение приближался к ограде кладбища маленького городка, в котором вырос, и пытался найти холмик и крест на могиле отца, Руди старался понять, почему этот незнакомец, Радое Лалович, так часто появляется в его мыслях. На это ему отвечал Даниэль, всегда одной и той же фразой, что один ювелир из Пулы оказал на него большее влияние, чем собственный отец. Гуляя по мюнхенским улицам, Руди думал, существуют ли еще адреса, знакомые его маме: модный салон по изготовлению свадебных платьев, дом, в котором она жила, места, которые посещала по вечерам. Живы ли еще мужчины, с которыми она занималась любовью? Что скрывалось за ширмой «мюнхенских лет», которые однажды в ссоре с мамой упомянул отец?
Говоришь, Мюнхен, хочешь там попробовать, спрашивала мама, когда еще в августе он сообщил ей о своих намерениях. Тогда мне надо как можно скорее приехать в Будапешт. Неделю спустя она появилась в квартире Мариэтты и Дьюри. За минувший год она помолодела, движения стали быстрыми, лицо дышало свежестью. Новая роль шла ей. Там, в городке провинциальной Воеводины, она вновь переживала «мюнхенские годы». В Будапеште она пробыла три дня. Провожая ее на вокзал Келети, Руди почувствовал, что за такое короткое время они исчерпали все, что хотели сказать друг другу. Конечно, он не собирается возвращаться, пока не объявят амнистию для беженцев. А до этого момента пройдут годы, сказал Руди. Будем видеться в Будапеште, сказала мама. Знаешь, твой дед в молодости часто приезжал сюда. Пешт был городом для времяпрепровождения, большим театром.
Руди не сомневался, что его мама живет в этом театре. В пятьдесят она выглядела лет на десять моложе. Новые декорации превратили ее в другого человека. Или же эта инакость всегда тайно существовала в ней? Потому что чем были ночи премьер, как не проявлением этой чужеродности? И тогда следовали резкие слова, которыми они обменивались с отцом, когда она под утро, словно фея, появлялась в квартире. Весь день в корпункте были слышны нервные шаги и стрекотание «Империала». К вечеру напряжение между ними спадало. Они сидели в гостиной и разговаривали.
А сейчас, в Мюнхене, ему этого недостает. Он вновь оказался в ловушке одиночества. После Будапешта, где в течение года его повседневность была наполнена событиями, надо было справиться с еще одним началом. Вся прелесть неясного ожидания, которую он испытывал в течение дня, таяла, когда он всматривался в дом напротив.
Знаешь, ребенком ты отказывался слушать конец сказок, которые я тебе рассказывала, сказала мама за обедом в пештском ресторане «Карпатиа». Стоило мне приблизиться к концу, как ты требовал вернуться к началу. А если я отказывалась, ты начинал плакать. Не помню, сказал Руди. Сколько мне тогда было? Ты был совсем маленьким, два или три года. Позже ты перестал это требовать.
На следующий день она уехала. Возвращаясь пешком с вокзала Келети, Руди почувствовал, что беспокойство накануне новой истории – а Мюнхен был именно новой историей – выросло из первых лет жизни, которые он не помнил. Осталась только тоска, запечатленная в интонациях, движениях, очертаниях вещей и предметов. Если бы он мог за короткое время, как сторонний наблюдатель, рассмотреть какую-нибудь картину из тех первых лет своей жизни или вызвать к жизни мгновение, когда перед грозой внезапно захлопывают окно, касание материнской руки, которое вносит в его мысли непонятное беспокойство, отцовский голос в глубине квартиры, звуки ночных шевелений в спальне, все то, что предваряет воспоминания.
Привычный кирпичный фасад дома напротив, который он каждое утро рассматривал сонным взглядом, превращался в бездонную память, мотивов которой он не мог понять. Только неуверенный след чего-то, что он не узнает. Пустые склады двухлетнего ребенка пополняют великолепные утра провинциальной Воеводины. Шаги на террасе, бегонии, собачий лай, щекотная поверхность ковра под стопами ребенка. Пестрая ткань так близко. Она навсегда остается в детских глазах. У историй нет конца.
После четырех недель пребывания в Мюнхене он нашел место кладовщика в универмаге «Херти». Каждую субботу после закрытия он выносил со склада одежду, которую декораторы надевали на пластмассовые манекены. Они меняли их положение, создавали в витринах новые мизансцены. Запах тканей, подушечки с булавками, как в швейной мастерской его матери. Надежность знакомого мира. И потом глубокое сомнение в том, с ним ли все это происходит. Неужели он в такой мере заперт сам в себе? Мир в мире. Из мюнхенской обыденности Будапешт казался простором, в котором он придерживался твердых координат.
Он часто вспоминал Марианну. Что бы она сказала сейчас? Что бутылка брошена в море. Чего ты ждешь? Зачем ты положил деньги в американский банк? На черный день? Никогда не позволяй себе играть всеми картами. Опасайся плавающего курса. Ты вообще знаешь, чего хочешь? Жизнь не кинотеатр. Но и в таком случае ты сам выбираешь фильм, который хочешь посмотреть. Или просто желаешь погрузиться в мрак зала? И ждешь. Оставаясь спутником самому себе.
Все это где-то оседает, произносит про себя Руди. Может, в пестром узоре ковра было записано то, что должно неминуемо случиться? И эта запись сопровождает его, неудобство, вызванное касанием босых стоп щекочущих ворсинок. Он разглядывает линии ладоней. Контурные карты. Без названий и дорог, только очертания материка, предназначенного ему. И бескрайние воды. Он неважный пловец. Никогда не мог преодолеть боязнь воды. Однако плывет под полными парусами. Нет на его курсе ни одного острова. У историй есть конец. Ирена, Эдина, Соня… Выйти из себя самого, сбросить панцирь, освободиться от ритмов «Зингера» и «Империала». Мы люди подвалов, слышится голос Константина.
Он ходил по складам универмага «Херти», загружал каталку товарами, поднимался и опускался на грузовых лифтах. Через несколько недель уже знал каждый уголок этого лабиринта. Однажды оказался в помещении, куда сваливали мертвых кукол. Так их называли декораторы. Были они тут без суставов, скрюченные как пугала. Какой-то художник выкупил старых кукол. Полдня Руди выносил со склада в подвале пластиковых покойников и грузил их в машину. Материал, думал он. Материал для каких-то инсталляций. Возвращаясь вечером в Пазинг, он рассматривал на станциях метро рекламу. Опять в жерле. Поменялись границы и формуляры, флаги и гимны, и все время за фасадами, в невидимых квартирах, повторяются частные истории, дышат тела, взрываются и затихают.
Сжавшись на сиденье у окна в вагоне линии направления на Пазинг, Руди чувствовал пагубность непринадлежности. Тем не менее любая ситуация, которую он мысленно создавал, вскоре расплывалась, он оставлял надуманную обыденность, не успевая окончательно домыслить ее; собственно, останавливаясь, как в детстве, когда он в панике требовал от матери вернуться к началу сказки, которую она ему читала. Непрерывное in medias res. Утро по Преверу. Она и Он. Жизнь в одном кадре. Потом занавес опускается. Далее следующий акт, тезис, извлеченный из какой-то иной истории. Быть выше жизни. Артист, который не бросает свои роли. Блуждая по ночным улицам Мюнхена, он измерял шагами белградские и будапештские дали. Мальчик пальцем ведет по красной нитке железной дороги. Продвигался на север, меняя отели, поезда и женщин.
Станция Пазинг. Выходит в ночь, частица движущегося множества. Сверкают взгляды, каждый где-то в другом месте, улицы узнают пешеходов. Усталость птичьей перспективы. Погрузиться глубоко в собственную тьму. Пестрые узоры ковра превратились в события, пейзажи и людей.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































