Текст книги "Русское окно"
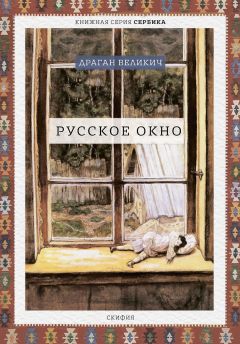
Автор книги: Драган Великич
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 25 страниц)
Больше всего времени ты проводишь сам с собой. Не так ли?
Несоизмеримо много.
Тогда ты должен прекрасно знать себя?
Именно так.
Вовсе не так. То, что снаружи видят другие, обнажено, без грима. Образец ткани, из которой соткана душа. Эндоскопия покажет истинное состояние, понравится это тебе или нет. Не сомневайся в результате. И не пытайся выйти из себя. Какую бы ты дверь не открыл, из нее выхода не будет – все они входные. Ты тонешь все глубже. И будь доволен, что тебе есть где утонуть.
Но и я вижу других лучше, чем они сами себя.
Твоими глазами. Это самая прекрасная карусель, все вы летите, касаетесь на лету, весь мир вертится. Понимаешь ли ты, как прекрасно жить? Каждый день – чудо. Почему у тебя сегодня каждый день завтрашний?
Я постоянно кружусь. Нет, карусель – неважная метафора.
Ты не ответил мне.
Где-то надо остановиться, передохнуть, осмыслить позицию, с которой буду писать, с которой стану просто наблюдать, жить. Сделать выбор. Шар теряет высоту, корзина стала слишком тяжелой, чтобы продолжить полет, надо что-то выбросить.
А ты не хочешь ни от чего отречься. Не так ли?
Так. Но сейчас у меня уже нет времени. Выхожу на следующей станции, Либекерштрассе.
Я сказал тебе, что не можешь выйти. Перестань паниковать. До Либекерштрассе еще две остановки. Когда метро остановится, ты опять куда-то войдешь. Ты богаче на четыре трупа, которые сегодня окончательно обработал. Через пару месяцев станешь начальником смены. Ты заметил, как Франц ревнует тебя?
Это не моя проблема. Через пару месяцев я буду далеко от «Парадизо».
Собираешься вернуться?
Планы не строю, но знаю, что буду уже в другом месте.
Тебе станет лучше?
Будет иначе, а это уже хорошо.
Ошибаешься. Будет все то же.
Либекерштрассе. Я выхожу.
Входишь.
Хорошо, вхожу.
Да. Так уже лучше.
Как он надоедлив. Все бы ему только расспрашивать. С дивана бы не вставал. Трубочист с мотком проволоки на плече. Сверлит, все время сверлит. Я слишком много позволил себе. Каждый защищается, возводит укрепления. А я опускаю мост. Что же они не открывают?
Кто это они? Идиот! Арно? Ты же видишь, что сам ослеп, думает, что составил жизнь по-своему. Почему же тогда пьет?
Потому что так сложилась жизнь.
И это ты называешь жизнью? Несчастный, бежит сам от себя. Трус, который постоянно возвращается на место преступления. Ходит по музеям, восхищается мастерами, а когда надо было сделать выбор, предпочел омывать мертвецов.
Но ведь и это выбор. Что ты об этом знаешь?
Вместе мы узнаем больше. Пошли дальше. Франц? Животинка, чавкающая, когда ест. Вацлав? Вылупился сам из себя. Откладывает деньги и мечтает, вернувшись в Прагу, создать собственный «Парадизо». Хельга? Она тебе нравится? Несколько старовата. Это тебе нравится. Все возьмет на себя. Рассчитываешь стать ее последним берегом? Прикидываешь? Ты бы женился на ней. Наконец что-то окончательное. А что с Алисой? И Мелика может вернуться? Настоящий гарем. В любой момент можно начать с нескольких мест. Камикадзе ждут. Но оплодотворяет только один сперматозоид. Только один.
Что ты хочешь этим сказать?
Пора понять, что блуждание несерьезно. Где-то ты должен определиться. Не можешь постоянно только рассматривать возможности.
Почему?
Потому что ты хронически неудовлетворен. Постоянно откладываешь исполнение. Она и Он? Это твое заблуждение. Ты ничего не решишь, постоянно откладывая.
Не злись. Мне очень хорошо. Я столько всего пережил с тех пор, как уехал из Белграда. Мне есть о чем написать. Я почувствовал голую жизнь. Во многих местах. Ничего этого не было бы, если бы я вдруг решил чего-то, просто так, вдруг. Я пишу. Получается хорошо. Пишу почти ежедневно.
Ты бормочешь. Так-то ты пишешь.
Нет, не бормочу. Я изучаю язык, на котором однажды смогу сказать все, что пожелаю.
Ну вот! Почему однажды? Почему не сейчас?
Потому что нет. Потому что я другой. Потому что это я.
Ты слышишь голоса?
Голоса?
Тех, кого обрабатываешь. Они рассказывают тебе о чем-то?
Штайнштрассе. Я выхожу.
Входишь.
Да. Вхожу. Еду на Эльбу.
Тогда поезжай до Месберга. Зачем тебе Эльба?
Посидеть, сощурившись, на солнышке.
Они не щурятся. Их нет.
Когда сощурюсь, тебя тоже нет.
Только тогда я и существую.
Хорошо.
Конечно же хорошо, ты ведь не клевер.
Нет.
Почему же тогда ведешь себя как цветок клевера, который перед дождем сворачивается? Зачем щуришься?
Чтобы тебя вызвать. Ты же говоришь, что в такой момент тебя становится больше всего.
Это точно. И не только меня. Еще много других. Не одинокий голос, а целый хор. Но почему ты щуришься? Хочешь всю жизнь так прожить?
Чего тебе надо?
Чтобы ты не щурился. Чтобы ты всегда был ты. Без перерывов.
Месберг. Здесь я вхожу.
Так, парень. А теперь прямо на Эльбу.
Что это ты надумал?
С тобой все так разговаривают?
А это важно? Даже если только ты, ты и есть ты.
Не могу же я жить вне себя?
Конечно. Потому я и спросил тебя, слышишь ли ты голоса, когда их обрабатываешь.
Да. Я разговариваю с ними.
Слушаю. А что сейчас, чего молчишь?
Это всегда только два голоса. Мама и отец. Неважно, кто лежит на столе. Все начинается весьма банально.
Что-то узнаю. Вчера это был некий Михаэль, умер на шестьдесят шестом году. Как и мой отец.
От чего он умер?
От неудовлетворенности.
Это диагноз?
Инфаркт. Но я знаю, что он отказался.
Откуда знаешь?
Внешний вид сохранился. Кожа эластичная, без признаков болезни. Мог прожить еще десять лет.
А мама? Когда ее слышишь?
Видишь ли, после нет ничего. Она всегда появляется с этой фразой.
А где ты? На чьей стороне?
Между.
Поэтому ты на Эльбе. Был Дунай, потом Исар.
И опять будет Дунай.
Не важно, где ты. Двигайся.
Куда?
Скажем, в Сибирь. На дрезине. Двигай рычагом вверх-вниз. Радуйся, что мчишься. Посмотри, как велико и прекрасно то, что ты хочешь охватить.
Иной раз я испытываю только ненависть.
Ненависть?
Видишь ли, после ничего нет. Каждый раз я вижу это на столе.
Ошибаешься. Ты не ее, ты себя ненавидишь. Ее в себе.
Это одно и то же.
Не так. Это две различные личности. Ты когда-нибудь испытываешь ненависть к отцу?
Нет. Он такой слабый.
Ты жалеешь его?
Да. Потому что он отказался.
Не разговаривай больше с ними. Прекрати ненавидеть и жалеть. Ты – не они. Твоя история намного больше.
Ты думаешь?
Знаю.
Как мне войти в свою историю?
Сначала выйди из их истории.
Значит, все-таки выхожу.
Да. Выходишь.
Не плыви чужим курсомНет, это не бегство. Взять обеими руками хлеб, положить его на доску и отрезать ножом кусок. В любой момент быть на своем месте, не спешить в до или после. Если Алиса, значит, Алиса. Ты любишь то, что она есть. Или не любишь. Если лебеди на Альстерском озере, то лебеди. Понедельник не начало, возвещенное тимпанами, это еще одно подведение черты в попытках поиска курса. Не плыви чужим курсом. Ты не капитан озерного флота. Ты в океане. Каждый день – бесконечность. У каждого есть своя мера неоткрытых островов. Ты хотел без ошибок. Без начала и без конца. Просто блуждать. Плыть нетронутым. Но длительность – не история. Тебе мешает закольцованность. Говоришь, она надуманна. Ты ошибаешься, Руди. Ты должен сам начертить свои карты. Курс плавания не наследуется. И почему всегда Она и Он? Почему не Руди и Алиса? Руди и Мелике? Руди и Рыжеволосая? Почему ты всегда винишь тех, кто сам пришел к тебе? Не озаботились тем, достаточно ли тебе того, что у них есть. Где ты потерял гири? Вот ходишь и волочишь цепи, чтобы тебя случайно не уволокло в дорогу.
Когда ты впервые постеснялся своей матери? Отца? Из-за чего? От своего имени? По какому праву? Ты думаешь, это был не только Богдан Тонтич. Конечно же, это был не только он. Твоя мама не считает. Она живет. Что в этом плохого? Отец отказался. Так, вероятно, ему было легче. Ты, по крайней мере, знаешь, что на столе нет ничего. Там лежат рассказанные истории. Аморально появляться в прохладных помещениях «Парадизо» без истории. Говоришь, весь городок знал, чем она занималась. А что же она делала? Жила в своей истории. И кто же тут аморален? Тот, кто живет, или тот, кто отказался?
Никто у тебя ничего не отнял. Всегда и во всем это был твой выбор. И поэтому не путайся с Алисой. Хочешь искусать дракона? Тогда кусай. Какое тебе дело до того, что она постоянно ездит в Линебург. У нее там кто-то? У нее и ты есть. А сколько их у тебя? Целый гарем. Тебе нравится Хельга? Скажи ей об этом. Скажи ей что угодно. Чтобы омыть ее. Она замужем. Почему это тебя беспокоит? Твоя мама тоже была замужем.
Слушай, неумно то, чем мы занимаемся. Этой историей с самим собой. Она скучна, поверь мне. Не бывает пропущенной жизни. Каждый день неповторим. Поэтому, парень, влезай на дрезину. Рычаг в руки, и качай. Вверх-вниз. Езжай, Руди.
Внезапно трупы «Парадизо» исчезли, как пластмассовые манекены универмага «Херти». Побледнели пастельные галстуки Арно Кроненберга, очертания драконьих голов на спине Алисы, неоновые огни баров на Репербане.
Был Руди.
Однажды мартовским утром он вышел из метро под стеклянный свод Главного железнодорожного вокзала Гамбурга.
«Невидимый мир»Два часа до отправления поезда. Чемодан и сумку он оставил в камере хранения, какое-то время сидел на террасе вокзального кафе, выпил три капучино, потом купил в книжном магазине газеты, после чего долго искал, что бы почитать в дороге.
Билет Гамбург – Суботица в один конец. Две пересадки, в Нюрнберге и Будапеште. И далее несравненно более короткий путь, чем дорога Фогеля в вагоне Москва – Самара. Мы сказали – несравненно, потому что оттуда всего лишь шаг до Казахстана, до колхоза имени Буденного. Существует и другой вагон, без таблички, движущийся в направлении, о котором знаешь только ты. Не важно, в каком мы лице. Те, из газет, вечно хотят, чтобы это были мы, даже если это ты или когда это он и когда это я. Пропусти первую полосу, а еще лучше – начни с конца, для начала разгадай кроссворд. Сколько сотен кроссвордов составил папа, но сам не сумел разгадать один-единственный – собственную жизнь. Хорошо, пропусти кроссворд. И папу, и маму.
На самом дне стеклянной полки, среди книг о кислотных дождях и антологии индийских сказок, тонкий зеленый переплет, белые буквы: Штефан Гурецки – «Невидимый мир». Он снял книгу с полки. На корочке фотография: очертания человека на трамвайных рельсах, в перспективе уходящих в темную ночь и исчезающих за далеким углом. Фасады напоминают белградскую улицу, по которой он часто ночами возвращался домой. Открывает книгу, первая фраза: Он страдал от известного нервного напряжения, которое в течение последних лет полностью захватило его ум. Инстинкт в этот раз не обманул его – он нашел подходящее чтение, которое поможет скоротать часы, проведенные в поезде. Он отложил книгу до Ганновера, чтобы начать чтение после него. До Будапешта целый день езды. И еще ночь до Суботицы. Выйдя из магазина, наугад открывает зеленую книжечку. Внизу страницы: …жил в Европе между войнами, в Европе без границ, в мире, который всего лишь антракт между двумя спектаклями. Жил в структуре цирковых династий, в мире «Юлиуса Майнла», эмблема которого – голова негра в красной шапке – сопровождала его во всех путешествиях.
Поезд тронулся. Мелькают фасады из красного кирпича, на мгновение появляется серая поверхность Альстерского озера. Следующая станция Гамбург-Альтона. В купе он один, на сиденье у окна, по ходу поезда. Первую фразу мы знаем наизусть. Прочитаем ее еще разок. Страдал от известного нервного напряжения, которое в течение последних лет полностью захватило его ум. Кондуктор на минуту-другую прерывает чтение, выходит из купе, закрывает двери. Руди входит в «Невидимый мир».
Его звали Фабиан Мазурски. Его могли звать Мартин Конрад или Лео Рупени. Под любым именем он прошел бы все тот же путь. И неважно, в каком городе, в каком государстве он был занесен в книгу регистрации новорожденных. Потому что по соседству говорили на корейском и болгарском, а также на немецком и венгерском или итальянском, французском, русском. На одном углу в мире Фабиана пели на неаполитанском, на другом в сумерках рычали львы. Запах печенья с миндалем и имбирем, которое пекла фокусница Жизель, много лет спустя он увидел в пекарне Домодоссолы. Да, он мог видеть запахи, благодаря этому свойству он принадлежал к миру цирка, он умел ходить по краешку каждой мысли, которая проявляла к нему наклонность. Отец поздно вечером приводил его к клетке со львами. Он садился совсем у самой решетки и, затаив дыхание, смотрел на отца, который терпеливо готовил зверей к представлению, пока не добивался от них точности, от которой Фабиану делалось тоскливо. Мама тренировалась до обеда. Но и трапецию он тоже не любил. Свое место он нашел среди жонглеров и рано показал способность работать с кольцами, мячиками и булавами. Когда много лет спустя он устроился в «Ветроп», некоторые его способности удивили комиссию. Он подхватывал тарелки, когда они неминуемо должны были разбиться, пробирался меж столами вагона-ресторана, демонстрируя идеальную гибкость тела.
Это был его первый полдень в железнодорожном общежитии «Мирамара», где останавливались стюарды «Ветропа». Он грыз печенье с миндалем и имбирем, пытаясь пройти по поселку Барасани. И как бы он ни старался точно запомнить порядок расположения вагончиков, окружавших огромный шатер, постоянно что-то возникало на его пути, нечто, что относилось к предыдущей географии варьете «Рош». Но все равно, оказывался ли он в мире «Барасани», «Рош», «Аполло» или, много позже, «Олимпии», «Брандини», «Каролли», всегда находилось пространство внутри круга, пространство Ноева ковчега, и тот бескрайний внешний мир, в котором непрерывно менялись афиши. Фабиана вновь и вновь удивляли формы городских автобусов и трамваев, запахи и формы печенья, шум уличных разговоров, цвета банкнот, первые полосы газет в киосках. Путешествовать по миру внутри собственного мирка, менять школы, в которых преподают на незнакомых языках. И только начинал вникать в значение слов, останавливаться в тени фраз, как его перебрасывали в другой язык, хотя он все время находился в кругу около огромного шатра, где жонглеры, клоуны, акробаты, фокусники, дрессировщики говорили на жаргоне, смеси всех языков. Да, жаргон был главным принципом, безумием Вавилонской башни, настоящим ульем. В плотности этого мира не было периферии, куда, как на каком-то складе, сваливают все то, что портит картину мира. Карликов очень много, они живут не только в сказках и не только в преданиях Бессарабии и Трансильвании. Они ходят по стойбищам «Орфея», «Медрано», «Барасани», «Каролли», «Ренцо», поселяясь во временах существования славных цирковых династий, которые роднятся между собой и существуют некоторое время, в котором единственным точным сведением является только дата смерти. Кровное родство сводилось к слову «кузен». Прошлое создавалось много позже, создавались легенды, вырастали стволы подвижных родословных лесов. На фасадах домов в городах, сквозь которые они прошли, долгое время выцветали их плакаты. Но прежде чем исчезал всякий след присутствия «Орфея», «Ренцо», «Алътхофа» в забытых городишках, начиналась мечта, в мысленные тетради вписывались яркие строки…
Забытые места? Руди на мгновение опустил раскрытую книгу на сиденье рядом с собой и уставился на пейзаж. То, что он видит в окне вагона, сливается с картинами забытого городишки, в котором он вырос, там, где родились первые стремления и первая тоска, запахи и шумы. Там, где отмечено расстояние между Ним и Ней.
Не случайно «Невидимый мир» всплыл в вокзальном книжном магазине в тот момент, когда он отправился в путь. В глубине стеклянной полки осталась трещина между книгой о кислотных дождях и индийскими сказками. По следам Мазурского – в новые главы.
Он жил в Европе между войнами, в Европе без границ, в мире, который всего лишь антракт между двумя спектаклями. Жил в структуре цирковых династий, в мире «Юлиуса Майнла», эмблема которого – голова негра в красной шапке – сопровождала его во всех путешествиях. В этом мире нет границ. Но однажды, во время лондонского сезона, они каждые шесть недель возвращались в Германию и оформляли новые визы. Он не обращал внимания на препятствия, создаваемые бюрократами, которые направляли жизнь в определенном направлении, где не бывает сюрпризов. Расписанный по рубрикам, он получал пропуска для передвижения по миру вне циркового мира. Ночью он слушал рев львов и был где-то в Африке. Отец занимался дрессировкой поздними вечерами, соблюдая ритм жизни зверей. Как тот монгол, который только на ночь стреноживал лошадей. Дневник Фабиана менялся каждый год. Менялись школы, занятия на языках, которые он едва понимал. На стенах висели портреты – серьезные лица с бакенбардами. Но это было позже, в период «Орфея», когда он сам начал обучаться искусству дрессуры. Невидимый бич внешнего мира щелкал в воздухе и направлял его движение.
Год в Южной Америке с «Барасани» в финансовом отношении был весьма успешным. Но в тот год его родители разошлись. Герман Мазурски отправился в большое турне по Испании с цирком «Кроне». Мама, Матильда Мазурски, акробатка, родом из знаменитой династии Арпад, ушла из профессии. И тогда на сцене жизни Фабиана появился Густав Клепер. Знаменитый импресарио, в тетради которого были адреса кандидатов во всей сумрачной Восточной Европе и далее, вплоть до сибирской тайги и монгольских степей. Маленького роста, с седыми бакенбардами и черными глазами, которые живо бегали, как будто их бросили в кипящее масло, Густав Клепер, разменявший шестой десяток, обожал артисток, их тела, парящие под куполом циркового шатра. Он много лет был влюблен в Матильду Мазурски, и когда она после развода с Германом решила отказаться от трапеции, появился Густав Клепер. Он отвез ее с сыном Фабианом на свою виллу на берегу Вердонского озера. Густав время от времени отправлялся в длительные путешествия, объезжал окраины мира и возвращался оттуда с товаром, который быстро находил покупателя. Минда, девушка с тремя грудями, или Дулат, мальчик с огромным носом, который как хобот свисал над губами, стали собственностью варьете «Аристон». Клепер проводил на своей вилле с Матильдой и ее сыном Фабианом месяц-другой, после чего опять уезжал, путешествовал по Южной Америке в поисках товара, который будет удивлять публику в цирках и варьете.
А потом, вернувшись из долгого путешествия по Азии, лег в кровать и на следующее утро не проснулся. После смерти Клепера объявились наследники. Матильда с Фабианом оказалась на улице. Мальчика она пристроила к пиаристам, а себе вынесла приговор с помощью большого количества снотворного. Фабиан провел у пиаристов три года, после чего в восемнадцать сбежал из школы. Несколько лет спустя, блуждая по просторам, люди в которых не были такими сполоченными, как в цирковых кругах или в холодных залах пиаристской семинарии, Фабиан устроился стюардом в «Ветроп». Мир опять стал единым. Он катался по рельсам от северных берегов до южных морей, подавал знаменитые чаи и кофе, накрывал завтраки в вагоне-ресторане «Ветропа». Скучал в дни отдыха, проводя праздные часы в каких-нибудь общежитиях.
Слух Фабиана сохранил фразу в скорлупках нескольких языков, фразу, которую повторяли учителя физики: «Если бы у меня была точка опоры, как говорил Архимед, я бы перевернул мир». И в школах, где он учился, помнил эту фразу, потому что видел эту точку опоры иначе, он знал, что это не метафора, что в воздухе существуют точки, с помощью которых возможно все. Годы, проведенные в «Ветропе», были годами поиска точки опоры. Сначала на линии Кельн – Будапешт. Позже его переводят на более теплые линии: Марсель, Генуя, Венеция.
Теперь он ночевал в общежитии «Адрия» неподалеку от будапештского вокзала Келети и утренним поездом отправлялся в сторону Кельна. Погружался в облака слов родного языка. Кружевной польский его детства и тягучий венгерский матери опять объединились, и даже после десяти лет в «Ветропе» он иногда ловил себя на том, что считает на польском.
Но в тот вечер в Будапеште, впервые оказавшись в затонах памяти, в которых возник его родной язык, впервые оказавшись в городе, который воспринимал только на слух – потому что та зима в Шопроне, в семье матери, давно растаяла, – теперь его корявый венгерский становился все более гибким. После каждой поездки он чувствовал, как у него в наслоениях памяти пробуждается новый язык. Он мечтал добраться туда, откуда нет возврата. Ночами он бродил по темным улицам в окрестностях вокзала Келети. Ему казалось, что из личной жизни он перебирается в бесконечность безличного. И его это радовало. Он опустошал резервуары, удаляя из них даже осадок. Любую деталь, любое слово, любое лицо он хотел воспринимать как в первый раз, и тогда однажды ночью он отправился в бордель, и все было как будто в первый раз. Не с чем сопоставить, не устранить различия, потому что если это в первый раз, то и сравнивать не с чем. Прохладное майское утро, Фабиан спешит из общежития «Адрия» в направлении вокзала Келети, входит в вагон «Ветропа», по спине ползут мурашки холодной ночи, он с удовольствием смотрит на солнечный луч, ползущий по зеленой поверхности стола рядом с окном. Вырезать квадрат вагона-ресторана и перенести его в какое-то похожее утро, приблизительно с такой же температурой на каком-то вокзале в Монтевидео, там, где отец во время турне с цирком «Барасани» впервые встретил ту, из-за которой бросит Матильду и затеряется в паутине турне.
На линии Кельн – Будапешт Фабиан Мазурски с трепетом находит силу в иероглифах вновь обретенного родного языка, забытого за долгие годы, проведенные в доме Клепера, и позже, в пиаристской семинарии, во времени, связанном с вагонами «Ветропа». Он бродил по Будапешту в поисках новых привычек. Однажды вечером, разволновавшись до слез, он увидел негра в красной феске, товарный знак империи «Юлиуса Майнла». Мысленно раздвинул занавеску, вздрагивавшую на втором этаже, точно над входом в магазин «Юлиус Майнл», дорисовал в пространстве комнаты некие очертания мебели, озвучил квартиру шумами, голосами, скучными гаммами, которые кто-то из детей заучивает на пианино. Или это этюды Черни? Он добился великолепного вида, живет фрагментами, освободился от террора целого, которое сквозит в презрительных взглядах таможенников, пустых рубриках гостиничных анкет, в тетради, куда он заносит расходы. Наконец-то он смог, не прикасаясь, ощутить дрожь женского тела там, высоко, под куполом шатра, и стал силен в этом обладании, совсем как Густав Клепер. Он спокойно сдвинул с окна занавеску, и в этом движении была его целостность, он ничего не начинал и не заканчивал, это было движение счастья, ощущаемого интуитивно, всего лишь при глубоком вздохе. Возможности выстроились перед закрытыми дверями, которые защищали его от беспокойных перемен. Он бросил якорь во времени, которое, возможно, так никогда и не наступит, потому что где-то на этом пути настанет ночь, когда он, совсем как Густав Клепер, уснет в последний раз. Войдет в узкий тоннель, из-за легкой кривизны которого выход не виден, но все еще рисуется в идиллической рамке, и тогда все погаснет, и, может быть, последним звуком станет звонок на руле велосипеда какого-то ребенка, упорно звонящего и не решающегося въехать в глубину тоннеля. Только звук, но не рука, лежащая на руле велосипеда, не палец, непрерывно нажимающий на рычажок звонка.
Здесь, в Будапеште, на двадцать восьмом году во время прогулки по вечернему бульвару Ракоци он познакомился с Рекой Толди. Отсутствие возможностей позволило ему начать разговор. Ее удивил сомнамбулический иностранец, который как будто выучил венгерский язык по какому-то учебнику, и она соглашается на совместную прогулку, а затем и на ужин в «Карпатии». Цыганский оркестр времен «Барасани», или позже, во времена «Орфея»? Возможно, «Каролли», спросил он Реку. Да, похоже, это период «Каролли», сказала она с улыбкой. Во время ужина он опытным взглядом стюарда ловит ее движения, фиксирует их. Кружева на блузке пришиты ниткой несколько иного оттенка, черный лакированный ремешок часов скрывает глубокий шрам, запах цветочных духов непозволительно силен. Они были последними посетителями «Карпатии», окруженные на некотором расстоянии цыганским оркестром. Выходят в ночь, Фабиан останавливает такси. Провожает Реку до ее квартиры в одной из поперечных улиц Элизабетвароши, выходящей на бульвар. Произносит «Корут» и приближает лицо так, что смог почувствовать дыхание Реки. Поцелуй в такси, пожатие руки и фраза: «Карпатия – имя парохода».
Река стояла рядом с такси, одной ногой на тротуаре. Он держал ее руку, ни единым жестом не намекая на новый поцелуй. Другой рукой коснулся ее волос и сказал, что через четыре дня опять будет в Будапеште и что станет вечером ждать ее в «Карпатии».
Возвращаясь в общежитие «Адрия», он опять оказался в мире неограниченности, в мире, окруженном ярко окрашенными вагончиками, там, где смешиваются многие блюда, где говорят на десятках языков и часы жизни состоят из препирательств и любви.
Ганновер. На перроне толкучка. Он медленно протирает глаза. Просыпается от «Невидимого мира». Фабиан, Матильда, Густав Клепер… Они так отчетливо существуют, совсем как три молодых человека, входящих в купе. Смеются. С тишиной покончено. Сегодня утром на террасе вокзального кафе в Гамбурге тоже была троица. Он смотрит в окно. Может, в толпе на перроне увидит ту женщину из поезда в Бремене. Запах духов «ганноверской осени». Поезд трогается.
Мотаясь на линии Будапешт – Кельн, Фабиан не мог определить, когда он уезжает, а когда возвращается, где та точка опоры, на которой он может на мгновение остановиться, собраться с силами для нового шага, рассмотреть с этой точки мир, выработать стабильное мнение, сравнить с ним другие взгляды, потому что без такой точки мир существует только в других взглядах, которые в связи с недостатком того самого основного взгляда не являются другими, без этого четкого взгляда все, что он видит, на самом деле как бы и не видит, не хватает координат, не хватает Йойо, паука, растянувшего сеть в углу их вагончика цирка «Барасани». Часами Фабиан, стоя в углу, разглядывал Йойо, который движениями идеального акробата передвигается по своему пространству, не обращая ни малейшего внимания на внешние передвижения, потому что путешествовал цирк «Барасани», а с ним путешествовал и Йойо, дом внутри дома, путешествие внутри путешествия. Но тогда, по утрам в «Барасани», а потом в «Орфее» и «Каролли», Фабиан сидел в темноте шатра и смотрел на маму, тренирующуюся на трапеции, как безошибочно она определяет точку, в которой концентрируется вся сила, и элегантно отдается движениям тела, опираясь всей тяжестью на шест партнера, как впитывает сотни затаившихся дыханий, вздохи зрителей, за которыми следует крещендо оркестра. И тогда – головокружение в тишине, головокружение, оборванное резким ударом оркестровых тарелок. Аплодисменты. С противоположной стороны пустого шатра сидит Густав Клепер. Владелец точек опоры. Таинственный импресарио, снабжающий европейские и американские цирки чудесами из глухих краев Восточной Европы. У него широкая сеть осведомителей, его взгляд охватывает все, вплоть до монгольских степей, в любое мгновение он знает потребности по крайней мере двадцати самых больших цирков мира и безошибочно готов удовлетворить любой их запрос. Он обожал акробаток, фигуры которых успокаивали его душу, потому что вечное окружение из уродов, постоянные поиски ошибок природы требовалось компенсировать бальзамом. И Густав Клепер добивался этого, часами наблюдая за репетициями акробаток. Всегда в движении, в поисках ошибок, он мог по несколько недель кряду проводить с каким-то цирком. Останавливался в шикарных отелях, тратил баснословные деньги на развлечения в сопровождении многочисленной свиты, курил сигары и пил коллекционные вина. Менял женщин как галстуки. Небольшого роста, мелкий в движениях, как будто внутри его крутился тяжелый шар, какой-то перпетуум-мобиле все время двигал этот маленький организм. Ночами, которые он проводил в попойках, любил рассказывать о событиях, пережитых во время своих путешествий, как и где нашел женщину с тремя грудями, юношу ростом почти в три метра, четырехлетнего мальчика, который за это время прошел весь путь биологического развития, и все это делал, успокоившись красотой какой-нибудь акробатки. А поскольку он умел месяцами идти по следам, ведущим его к ошибкам, к уродству, к добыче, так и годами мог следить за акробатками, знакомясь с их любовными приключениями и дожидаясь своего часа. Потому что самым мощным оружием Клепера было терпение, молчаливая ловушка, в которую рано или пздно попадет его добыча.
С Матильдой, этой прекрасной венгеркой, за которую дрались европейские цирки, он познакомился еще во времена «Барасани». Это было еще в эпоху колониальных лавок, кускового сахара и молока в бочках, во времена, когда в немецких городах, где они задерживались надолго, в витринах колониальных лавок выставляли таблички: «Gab's noch alles often». Его действия всегда были стандартными, потому что он знал, из какого ядра парк развлечений вырастает в варьете, в какой момент провинциальное варьете превращается в серьезный цирк. Он дружил со знаменитыми цирковыми династиями, был одновременно советником и импресарио, безошибочно совершал обмены, находил способ убедить обе стороны в том, что от таких обменов они только выигрывают.
«Поначалу все вертится как карусель, это сердце всякого варьете, и очень важно, с какой скоростью раскручивать историю, – говорил Клепер. – Позже автодром, и обязательно дом ужасов. И тут наступает мгновение, когда появляется самый сильный человек или хотя бы самая толстая женщина. И чтобы кто-то ел стекло и живых мышей. И недостаточно целой конюшни пони, пары тигров или слонов, важна деталь, скажем, дрессированная утка. Но утку еще никто не сумел выдрессировать, а без какой-то мощной детали невозможно превратить провинциальное варьете в серьезный цирк. О да, важен клоун. Но еще важнее чудовище. Люди хотят увидеть ошибку природы, желают столкнуться с уродством, увидеть во мраке шатра то, что их миновало. Как все-таки Бог был милостив к ним в момент рождения. Оказаться с глазу на глаз с ошибкой природы утешительно. Однажды в Армении я нашел мужчину с головой льва, все лицо его заросло тонкими нежными волосами, а вместо носа настоящая львиная морда. И печальные глаза, как две темные миндалины. У этого мужчины был сын, маленький львенок, и жена, совершенно нормальная женщина, но сердце у нее было львиное. Неделями я торговался с ней, пока все трое не оказались по ту сторону Атлантики, в цирке “Родриго”».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































