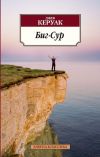Текст книги "Доктор Сакс"

Автор книги: Джек Керуак
Жанр: Контркультура, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
СЦЕНА 25 Тем вечером кто-то продрал кием сукно на бильярде, я сбегал за мамой, и она легла на него, почти оторвав ноги от пола, как большая бильярдная акула перед ударом под взглядом сотни глаз, только она держала нитку во рту и шила с тем же самым сладким серьёзным лицом, которое вы впервые увидели в окне за моим плечом под этим дождём предвечернего Лоуэлла.
Бог – да благословит детей в этой сцене, в этом книжном кино.
Я отступаю в Тень.
Книга третья
Снова духи
1
Он явился ко мне из Вечности – этот воскресный лоуэлльский день, совсем не для съёмок, вот я сижу в своей комнате в хорошем воскресном костюме, вернувшись домой из поездки в Нашуа, ничего не делаю, разве что тупо и рассеянно затеваю небрежную игру в хоккей, целая уйма шариков сражается за маленький шарик-шайбу, пытаясь загнать его в ворота, тем самым я убиваю двух зайцев мира спорта, сразу же проводя официальную межсезонную Церемонию скола скаковых лошадей, жеребьёвки скаковых лошадей, всё должно меняться в органической картине мира, мой Дёрн был почти таким же, мои лошади проходили через процессы расцвета и распада, как настоящие лошади – правда, вместо суеты (будь то баскетбол или футбол, футбол с его грубыми Профи железными прорывами линии я прекратил, потому что слишком много моих скаковых лошадей умирало, расколовшись пополам в этой бойне), устав от игр, я просто сижу за своим бильярдным столом, поздним красным воскресным лоуэлльским днём, великий безмолвный свет окутал красный кирпич Буттовских фабрик дымкой туманной печали, что-то немое, но готовое заговорить, скрыто во взгляде на это безмолвное светящееся молоко, в картине тупых воскресных дней удушливой чистоты и цветочного запаха… с одним лишь следом красной земли, по крупице ползущей из зелени, возвращаясь к реальности, чтобы разбить воскресную душную жизнь, вернуть землю к её истокам, с её ночью, потом… что-то тайно дикое и зловещее во взглядах детской души, резкий мастурбирующий триумф познания реальности… этой ночью Доктор Сакс выйдет наружу – однако сейчас воскресенье ещё живо, пять вечера, октябрь, тот самый час, когда красное молчание во всём городе (над рёвом белой реки) станет синим смехом этой ночи… долгим синим загробным хохотом – там стоит огромная красная стена тайны – я замираю, глядя на пылинку на шарике в углу, мой ум пуст, я вдруг вспоминаю, что когда я был пятилетним ребёнком на Хилдрет, то заставлял Великую Птицу преследовать Маленького Человечка, Маленький Человечек бежит на двух пальцах, Великая Птица, прилетевшая из вечности, падает с небес, чтобы схватить его своим пальцем-клювом… мои глаза округляются в тишине этой старой мысли – совсем не для съёмки – «Mende moi done cosse qui arrive (Интересно, что происходит?)» – обращаюсь я к самому себе: мой отец, запыхавшись на ступеньках, стоит в двери, громко дышит, с красным лицом, в соломенной шляпе, с голубыми глазами: «Ta tu aimez ta ride mon Ti Loup? (Тебе понравилось, мой Волчонок?)»
«Oui Pa —»
Он уходит за чем-то в трагическую спальню – я мечтаю об этой серой комнате – «daw chambre a Papa» – (папиной комнате).
«Change ton butain, – говорит он, – on va allez manger sur Chin Lee. (Переоденься, мы едем обедать к Чин Ли)».
«Чин Ли?!! Классно!»
Это место идеально подходит грустным красным воскресным дням… Мы поехали с мамой и Нин в старом «Плимуте» 1934 года, по мосту Муди-стрит, над скалами вечности, вниз по Мерримак-стрит, мимо салонных одиночеств Шаббата, мимо церкви Святого Иоанна Крестителя, казалось, что в воскресные дни она раздаётся в ширину, мимо Ратуши, до Кирни-сквер, воскресных киосков, оставшихся стаек маленьких девочек, они ходили в кино в новых лентах и розовых пальто и теперь наслаждаются последними красными часами дня развлечений в центре городских краснокирпичных Одиночеств, у часов на Пейдж, показывающих Унылое Время, – к змеиным свиткам и бобовым проросткам китайского тёмного интерьера с богатой, щемящей сердце кабинкой ресторана, где я всегда чувствовал себя так смиренно и сокрушённо… милые улыбающиеся китайцы подавали еду с тем самым вкусным запахом, который висел внизу в фойе с линолеумным ковром.
2
Каркас для начала рассказа – Пакины жили на той стороне Сара-авеню в Злато-Коричневом Доме, двухэтажном, на несколько квартир, с широкими ого-го верандами (пьяццы, галереи), пряничными карнизами и Ширмами на верандах, создающими тёмное Нутро… для долгих полдней без мух с Оранж Крэшем… братьев звали Биф и Роберт, Большой Биф вихлял своим задом на улице, Роберт был серьёзным веснушчатым гигантом, дружелюбным со всеми, о Бифе тоже не скажу ничего плохого, он был такой же веснушчатый, добродушный, моя мать говорит, что она как-то вечером сидела на крыльце, и Биф вышел поговорить с ней при луне, поведать ей свои глубочайшие тайны, он хотел просто выйти и насладиться природой, насколько это возможно – или что-то в таком духе – а она, моя мать, восседала там царицей этих дичайших разговоров; и Жан Фуршет, идиот, шёл мимо со своими петардами и хихикал на солнечных улицах лоуэлльского позднего полдня Четвёртого июля 1936 года, он устраивал обезьяньи танцы для тех леди, чьи дети в это время наверняка ошивались в толпе на Фейерверке и Ярмарке Четвёртого июля на Саут-Коммон, великие вечера – я всё расскажу – Жан Фуршет увидел мою мать, она сидела там на крыльце в предвечернем скрипе, и спросил её, если она одинока, может ли он развлечь её своим фейерверком, она сказала «окей», и старый безумный Жан вынул всё-что-у-него-было-в-карманах – бабах, дзинь, быдыщ; крест – он не успел и двадцать минут поразвлекать леди на Сара-авеню, как жахнула первая бомба на Коммон за тихими июльскими крышами Лоуэлла, если смотреть от белых маслобойных двухэтажек с верандами на Маунт-Вернон прямо в сторону безумной скирдатой Блузон-стрит за рекой, над красильнями, над дубильнями, над твоим Лу-ла, Лоуэлл – над долгим «ура», ра-ра ру-ру мотор как зверь закрытая дверь – нога из пижамы, и белые фамы фланируют вправо, смещаются влево, спускаются лентой – отмеривать время, машут крылом, напролом, глаза в небеса, звенят колокольцы серебряных звёзд, сквозь все описания, спасённый без знания, он всё хотел объяснить на старинном празднике тем, кто собрался вокруг его обувного рожка, «Посмотрите, леди и джентльмены», – а мы с Г. Дж. и Винни и Скотти толчёмся на Ярмарке – (моя мать улыбается Жану Фуршету) (Бум!) фейерверк начинается, блудомастер среди людской толкучки покажет, как скачут лошадки под дикие крики, да – Там были скачки деревянных лошадок, они продвигались вперёд при броске костей – кости вращались так быстро (в клетках), что было видно, как лошадки мчатся вперёд к своей победе – безумные бездушные дикие живые скачки, представь себе скачки ангелов… когда они осязаемы – знаком X отмечено место для игры в бинг-фонарики, клоун в цилиндре встал у стенда в ночном тумане – а потом мы пахли дерьмом в траве, видели камеры, ели попкорн, воздушные шары взлетали на ниточках в небеса – Ночь пришла в синем саване, закрывая руками весь хоризан – Висячий мох (так свисает мох в Замке, когда ты слышишь детский свисток своего воздушного шарика) (маленькие дети борются на траве в Крохе-Тим-Диме, едва различимы – большие души из маленьких желудей – Со всех сторон перекличка гудков, жареный арахис на лотках, скрытные хипстеры того времени, шаммисофтовская пыль под ногами) – Биф Пакин, сейчас, годы спустя, я вижу, как он в плотной футбольной куртке с капюшоном шагает домой с фабрик посреди декабря, свернув к порыву ветра на углу у Блезана, он спешит домой на ужин с гамбургерами высоких широт, золотая богатая насыщенность кухни его матери – Биф уходит в Вечность на своём конце без меня – мой конец так же далёк от его конца, как Вечность – Слышит ли Вечность гулкие голоса внутри скалы? Вечность слышит обычные голоса в гостиной.
По кости спускается муравей.
3
Сцена в Замке, в одной из самых роскошных комнат, с окнами на леса Биллерики, пока облака Мартовского Зайца мчат в черноту, – только что (уже вечер) говорил («Разумеется, не надо думать, что из этих попыток что-нибудь выйдет») Граф Кондю, безупречно одетый, недавно восставший из вечернего гроба, Атласного Судьбоящика со шпенглеровскими метаморфозными гравюрами на крышке. Адресат его речи – остроумный жовиальный посол Чёрного Кардинала, наш хороший друг Амадей Барокко – сидит, поджав ноги, в элегантном лаунже, попивает напиток, беззаботно слушает.
«Да, мой дорогой Граф, но вы же знаете, не так ли, сколь это будет не-СООБРАЗНО ничему из этого» – (радостное ликование) – «как-либо воздействовать на кого-либо, Бхоже! – это должно быть —»
«Во-вторых, я покажу вам…»
«– в положительном смысле —»
«– еретики, вот они кто – фантомогрюмые, воссаванные псари из рога Франциска, они думают, что смогут всех заставить болтаться – дальше нет хода, эти Голубисты предают декаданс – любая организация декадансит —»
«Но мой друг, это так барочно – я не имею в виду свою фамилию, – так весело —»
«И какова ваша конечная мера? Мне хотелось бы силы на вечеринке, крови – никаких Заундов и гузн с их благоглупостями, готовящих грушевые подушки в тени – пусть так, покажите, на что они способны – я не вижу никаких причин для этого, если Колдун из Нитлингена этого хочет – так сказать, допустить, и сверх того, у меня нет никаких предпочтений в этом вопросе», – он отвернулся, сморщился над цепочкой для ключа… ключ от его гроба, золотой.
«В конце концов Голубисты – просто любители, – они не отличаются от Браунингов других Римов, нытиков других гадостей – я имел в виду —»
Граф Кондю стоял у каменного окна, спокойно глядя в ночь; в элегантных покоях Барокко можно было расслабиться, так что он носил свой злобник – его голова в капюшоне нависала над плечами, как окрылённая – Стук в дверь, Сабатини ввёл юного Вооза, сына Смотрителя Замка, этот старый таинственный придурок вечно скрывался в своём подземелье – Вооз мл., с длинными тёмными ступнями и косым взглядом, странно-сатанински красивый, как вытянутая глиняная голова, искушённый сын отшельника, «Ох – ! – Барокко здесь».
«Однако, дорогуша, это моя комната».
«Ваша комната? А я думал, Графа Кондю. Да, могу ли я закрыть дверь?»
«Нет, улетай в канун», – пробурчал Граф в свою чашу.
«Дичайшие новости», – сказал Вооз.
«И теперь?» – Барокко выжидательно поднял голову (на нём была парчовая белая шёлковая пижама в форме туники а-ля казак с большим кровавым пятном, вышитым красной нитью над сердцем, он курил из элегантного мундштука, «такой запашистый», блестящий острослов из Ковчежных Галерей с Дыбы, он провёл там какое-то время, прежде чем спуститься (чтобы не посещать курсы таксистов), требовалось какое-то время, чтобы отвергнуть позднейшие мигамии на имущество его матери и сэкономить день, а также найти себе Сахарного Папашу, вот он и здесь) (брат Колдуна, кроткий злобный старикан Флэпсноу, мы его никогда не видели).
«И теперь, – продолжил Вооз, – они официально объявили Голубистов андеграундными еретиками Свободного Движения —»
«Свободное движение, – хмыкнул Кондю, – это такая разновидность дизентерии? Будет похоже на шутку, если Змей извергнется, как большой мокрый пердун, пролив и расплескав на землю ошмётки своего собственного благого избавления —»
В окне внезапно, никому не заметный, появляется Доктор Сакс, тёмный, слившийся с балконом, в саване, он молчит, а они беседуют.
«Какая занятная мысль, – смеётся Б. – Эти голуби… в родстве… со змеями, мой дорогой!»
«Они выводят это из близости голубей и змей».
«Вывод без доказательств ещё слабее, чем вывод без доказательств и без причины – эти люди проявляют своё невежество без обаяния».
«– Ладно, фам и вам, – сказал Вооз, поклонившись и хлопнув своими белыми перчатками. – Может быть, они когда-нибудь выдождят вас в блапе, где тогда будет ваш вердигрис? в саду под луком».
«Луковицы выявляют камни», – бросил Барокко.
«Будет лучше, если модные итераторы перетуманят свою наковальню остроумия».
«Touché».
Доктор Сакс исчезает – со двора донеслось слабое далёкое триумфальное ха-ха-ха-ха-ха внутренней тайной уверенности в черноте – за птичьей купальней увядал его саван – каркнула луна – Блук бродил на задворках в Саду с венком из веточек арахисового масла в волосах, их туда воткнул Семибу, недоверчивый карлик: «чтобы отгонять Лук». Блук жахался лука – На колокольне Замка триумфально оскалилась наводящая панику Летучая мышь – Паук свисал со стены, обращённой к реке, со своей серебристой лунной нити, весь в пыли; величавый Лев спускался по лестнице в подвалы, где содержался Зоопарк, грузовик с Гномами пролетел по проводам – (в подземных туннелях).

Кондю, глядя в окно, размышлял.
Барокко читал в постели книжицу с Голубистской поэмой.
Вооз сидел без движения и писал свою элегию для мёртвых, за столом, у лампы.
«В этот День, – читает Барокко, – облака Семенных Сизых Голубей вырвутся из пасти Змея, и он рухнет на Пророческий Лагерь, а они возрадуются и зарыдают в Золотом Воздухе: "Это лишь голубиная шелуха!"»
«Их очистят от шелухи, – усмехнулся Кондю, поднеся ладони к бороде, – фнуф-ф, что?»
«Я надеюсь, – сказал Вооз, подняв глаза, – что Змей сожрёт всех, кто того заслужил», – но он произнёс это так, что Кондю не мог сказать, было это заявление дружеским или нет —
«Просто божественно! – завершил Барокко, закрыв книгу. – Это так освежает – нам нужна какая-то живинка, мой дорогой, ведь вам известно, что в нём есть замечательные ойковые элементы Кони-Айлендского христианина». Он нагнулся и поставил свою любимую пластинку… Эдит Пиаф умирает.
Граф Кондю ушёл – он превратился в летучую мышь, пока никто на него не смотрел, и на луну он Улетел – ах, Лоуэлл в ночи.
4
В центре города был тихий краснокирпичный переулок между Театром Кита и Складом на Бридж-стрит, с красной неоновой кондитерской древних субботних вечеров с развлечениями, там до сих пор пахнет типографской краской и коктейлем с клубничным мороженым, пенным и розовым, с капельками росы наверху, у Дейны – через улицу от переулка – а в самом переулке шлак на подходе к служебному входу в театр – там было что-то фантастически грустное – там, под дождём, шёл живой У. К. Филдс после халтуры в дневном шестиактовом Вод-е-Виле (с жуткими масками, ха-ха-ха) – он вращал тросточку, как Старый Буйвол Баллон; У. К. Филдс и трагические братья Маркс, они опасно раскачивались на большущих верёвочных лестницах и дурачились в жутком холокосте Великосценной Печали, такой огромной, с драпировками и желеобразными шлёпанцами на дневном сеансе, в 1927 – в 1927 я увидел братьев Маркс, Харпо на лестнице – в 1934 я увидел Харпо на экране, в «Зверушках-Печенюшках», в мрачном и невероятном саду Доктора Сакса, где Нео – как Бог – как дождь и солнце, Чико смешал их для Космической Шутки: «Не выходите за эту дверь, там идёт дождь – лучше сюда» – птицы чик-чирик – «вот видите?» – Харпо швыряет столовое серебро в темноту, Боже, мы с Джо сидели на тёмном балконе, потрясённые этой картиной наших совместных снов с храпом на тёмных чердаках нашего общего детства… братья по безумному смеху в Лесу, в восемь лет, когда мы с Красоткой, огромной овчаркой Фортье, и маленьким Филиппом Фортье по прозвищу Храппо отправились в двадцатимильную поездку в Пелхэм, Нью-Хэмпшир, чтобы облазить там сеновал какого-то молочного фермера – там были мёртвые совы на соснах, гравийные ямы, яблоки, дали зелёных нормандских полей в туманной мистерии Непостижимых Пространств Новой Англии – среди деревьев, впечатанных в небо над горизонтом, я понял, что меня с каждым шагом отрывало от лона моей матери в Домашнем Лоуэлле в Неизвестное… эту серьёзную утрату не возместит моя разбитая плоть, когда она тупо тянется к свету —
Но у Джо никогда не было ничего общего с тем переулком трагического Харпо Маркса, куда-то спешащего на старопечатной засаленной бурой драной афише варьете, с масками в блистательном бальном зале, – Ночи 1922 года, когда я родился, в сверкающем невероятном Мире Золота и Богатой Тьмы Лоуэлла моего праотца, он сопровождал мою мать, Тилли Труженицу из своей еженедельной театральной колонки (в которой он на многословном сленге спорил о качестве фильмов) («Мальчик, мальчик, в следующую среду мы пойдём на "Большой парад" с Карлом Дейном, Мёртвым Героем Джоном Гилбертом – ») – сопровождал мою мать в кино среди чёрных картонных толп, давным-давно, в 20-х, в США, гадкая печальная петля часов на Ратуше, освещённая или грустно глядящая на прибрежные скалистые острова реального рвения – в другом воздухе, в другое время – другие крики на улице, другие чувства, другая пыль, другие кружева – другие радости, другие пьяные фонарные столбы – непостижимая радость поднимается в моей душе при мысли о маленьком ребёнке среди его забав под одеялом в новогоднюю полночь, когда в синюю сладость его окна проникают колокола и крики, гудки, звёзды и хлопья Шума и Времени, а синие ограды одеяльной ночи сверкают росой под луной, и странные итальянские крыши парламентских зданий при Дворах из старых комиксов – краснокирпичный переулок, по которому шёл мой отец в большой соломенной шляпе, с торчащими из кармана рекламными объявлениями Б. Ф. Кита, он курил сигару, не мелкий бизнесмен в маленьком городке, но человек в соломенной шляпе, спешащий по краснокирпичному переулку Вечности.
А ещё складские подъездные пути, несколько веток к текстильным фабрикам, Канал, справа за ним Почтамт – погрузочные участки, тёплые ящики в полдень, мрачный богатый сырой георгианский краснокирпичный переулок, похожий на улицу в недрах китайского квартала между оптовыми конторами и типографиями – мой отец сворачивал за угол в своём старом стонущем «Плимуте» времён Кроу и жал на клаксон – он въезжал в чернильную тьму на склад своей печатни, где субботним вечером в сонной трагедии бывают заторы или затворы, и мой отец с одним из своих бессчётных помощников занят какой-то громадной фигнёй и бессмыслицей, и трудно сказать, что я на самом деле вижу во сне – в реальном будущем. Сны – это место, где участники драмы узнают о смерти друг друга – в этом Сне нет иллюзии жизни.
Давным-давно, до детских линолеумов на Люпин-роуд и даже до Барнаби-стрит, воздух тех вечеров, когда мы идём в кино, был и будет непостижимо насыщен красными мягкостями. (Одно из тех маленьких безымянных насекомых, таких маленьких, что вы не знаете, кто это, пролетело перед моим лицом.)
Это была такая коричневая трагедия, в печатне – призрачный канал течёт в своей ночи, коричневый мрак ночных городов давит на окна, тусклые лампы покерных игр освещают одиночество моего отца – как и в Сентралвилле, он был совсем недоступен той давней ночью на Лейквью-авеню – О это молчание – там у него был спортзал, с боксёрами, факт реальной жизни – когда У. К. Филдс уже сел в поезд своей судьбы, с милями копоти до Цинциннати, мой отец спешит в переулок Б. Ф. Кита, отворяет дверь, входит в напрасном усилии, пьяный, с Канала спермы и нефти, текущего среди фабрик, под мостом – тайна лоуэлльской ночи простирается до самого сердца города, прячется в тенях краснокирпичных стен – что-то в затхлых архивных записях Ратуши – и старая, старая книга на полке библиотеки, картинки с индейцами – безымянный смех чистоты туманных волн на речном берегу, когда умирает мартовская или апрельская ночь – и пустые ветры в зимней тьме под мостом на Муди, за углом на Муди и Риверсайд, они несут крупный песок, там, на мрачном холодном рассвете, шагает Джен Плуфф, на работу на фабрику, он спал в своём саване тёмной ночью в старом доме на Джершом, сиянье ущербной луны, холодные звёзды мерцают, освещают пустой двор дома Винни Бержерака, там скрипят столбы для сушки белья, крадётся Тень, – духи У. К. Филдса и моего отца вместе выходят из краснокирпичного переулка, в соломенных шляпах, направляясь к освещённым чёрным ночным стенам косоглазого кошака, а Сакс ухмыляется…
Книга четвёртая
Ночь, когда умер человек с арбузом
1
И вот трагический нимб, наполовину золотой, наполовину незримый – в ту ночь, когда умер Человек с арбузом – стоит ли рассказывать, – (Ох-Йа-Йа-Йо-Йо) – как он умер, и О’Скудрилсон уссался до смерти на досках моста, вперившись взглядом в мёртвые волны, все мертвы, сколь ужасно знать – грех жизни, грех смерти, он нассал в штаны в своём заключительном акте.
И конечно, это случилось в гибельную чёрную ночь, полную саванов. Мы с матерью пошли провожать Бланш домой к тёте Клементине. Они жили в жутком мрачном коричневом доме, там умирал дядя Майк – последние пять, десять, пятнадцать лет, ещё хуже – рядом с навесом для катафалков, один гробовщик арендовал его за углом на похоронной Потакет-стрит, и там был склад – для гробов —
Боже, мне снились зыбкие странные сны об этом громыхающем навесе – из-за него я терпеть не мог ходить к Майку, Боже мой, сцена марихуанно-шишкабобовых сигарет, он курил их из-за своей астмы, «Ку Бабс» – зависал, как Пруст – в раме величия – Неплохая Цитата, Марсель – старая абиссинская пушистая борода – дядя Майк дует легальный медицинский чай во время мрачной дневной медитации – за тёмными оконными шторами, в печали – он был исключительно умным человеком, помнил целые потоки истории, долго рассказывал с сиплой тоскливой одышкой о красоте поэзии Виктора Гюго (его брат Эмиль вечно восхвалял романы Виктора Гюго), поэт Майк был самым печальным Дулуозом на свете – это очень грустно. Я бессчётное число раз видел, как он плачет – «O mon pauvre Ti Jean si tu sava tout le trouble et toute les larmes epuis les pauvres envoyages de la tête au sein, pour la douleur, la grosse douleur, impossible de cette vie ou o’ns trouve daumé a la mort – pourquoi pourquoi pourquoi – seulement pour suffrir, comme ton père Emil, comme ta tante Marie – ни за что, мой мальчик, ни за что, – mon enfant pauvre Ti Jean, sais tu mon âme que tu est destinez d’être un homme de grosses douleurs et talent – ca aidra jamais vivre ni mourir, tu va souffrir comme les autres, plus» – Иначе: «О, мой бедный Ти Жан, если бы ты знал все беды, и слёзы, и поникшие головы, в этой печали, большой печали, как невозможна жизнь, в которой нас обрекли на смерть – почему почему почему – остаётся страдать, как твой отец Эмиль, как твоя тётя Мари – ни за что – мой мальчик, бедный Ти Жан, знаешь ли ты, мой милый, что тебе суждено стать человеком большой печали и таланта – они не помогут ни жить, ни умереть, ты будешь страдать, как остальные, и даже больше» —
«Napoleon était un homme grand. Aussie le General Montcalm a Quebec tambien qu’il a perdu. Ton ancestre, l’honorable soldat, Baron Louis Alexandre Lebris de Duluoz, un grandpère – a marriez l’Indienne, retourna a Bretagne, le père la, le vieux Baron, a dit, criant a pleine tête, “Retourne toi a cette femme – soi un homme honnete et d’honneur”. Le jeune Baron a retournez au Canada, a la Rivière du Loup, il avais gagnez de la terre alongez sur cette fleu – il a eux ces autres enfant avec sa femme. Cette femme la etait une Indienne – on ne sais pas rien d’elle ni de son monde – Toutes les autres parents, mon petit, sont cent pourcent Français – ta mère, ta belle tite mère Angy, voyons donc s’petite bonfemme de coeur, – c’etait une L’Abbé tout Français au moin qu’un oncle avec un nom Anglais, Gleason, Pearson, quelque chose comme ca, il y a longtemp – deux cents ans – »
Иначе: «Наполеон был великий человек. Таким был и генерал Монкальм в Квебеке, пусть он и проиграл. Твой предок, благородный солдат, барон Луи Александр Лебрис де Дулуоз, дедушка – женился на индейской женщине, вернулся в Бретань, а его отец, старый барон, сказал ему, заорав во весь голос: "Вернись к этой женщине – будь честным мужчиной и порядочным человеком!" Молодой барон вернулся в Канаду, на Ривьер-дю-Лу (Волчью реку), ему отвели землю вдоль этой реки – у него с этой женой были ещё дети. Эта женщина была индианкой – мы не знаем ничего ни о ней, ни о её племени – все остальные предки, мой малыш, на сто процентов французы – твоя мать, твоя славная маленькая мать Энжи, бедная маленькая добросердечная леди – она была Л’Аббе, все французы, кроме одного дяди с английским именем, Глисон, Пирсон, что-то такое, давным-давно – двести лет назад —»
И затем: – он всегда был готов закончить плачем и стенаньем – ужасными муками духа – «O les pauvres Duluozes meur toutes! – enchainées par le Bon Dieu pour la peine – peut être l’enjer!» – «Mike! weyons donc!» Иначе: «O, бедные Дулуозы, они все мертвы! – прикованы Богом к боли – а может быть, к преисподней!» – «Майк! Ну что ты такое говоришь!»
И я говорю своей матери: «J’ai peur moi allez sur mononcle Mike (я боюсь ходить к дяде Майку…)». Не мог же я поведать ей о своих кошмарах, как мне снилось, что однажды ночью в нашем старом доме на Больё, когда кто-то умер, был дядя Майк со всей своей Тёмной роднёй (Тёмным я называю весь комнатный мрак, как во сне) – ужасный, свинячий, толстый, больной, лысый, зелёный. Но она поняла, что я распускаю слюни от жутких ночных кошмаров: «Le monde il meur, le monde il meur (если люди умрут, люди умрут)» – и добавила ещё: «Дядя Майк умирает уже десять лет – весь дом и дворы пропахли смертью —»
«И гробы где-то рядом».
«Да, и гробы где-то рядом, и ты должен помнить, что милая тётя Клементина страдала все эти годы, пытаясь свести концы с концами… Когда твой дядя заболел и потерял свою бакалейную лавку – помнишь большие бочки пикулей в его лавке в Нашуа? – опилки, мясо – надо было воспитывать Эдгара, Бланш и Ролана, и тётя Виола, pauvre tite honfemme – Ecoute, Jean, ai pas peur de tes parents – tun n’ara plus jamais des parents un bon jour. (…и Виола, бедная слабая женщина – послушай, Жан, не бойся своих родителей – в один прекрасный день у тебя больше не будет родителей.)»
И вот как-то вечером мы пошли с Бланш из дома на Фиб (в другой раз она упросила взять с собой мою собаку Красотку, поскольку боялась темноты, и когда эта собачка провожала Бланш домой, её сбил Роджер Кэррафел из Потакетвилла, он куда-то ехал тем вечером на своём маленьком «Остине», и низкий бампер убил её, а до этого на Сейлем-стрит у газонной калитки Джо её переехала обычная машина, но она прокатилась над собачкой на своих колёсах и не причинила вреда – я услышал о её смерти в тот самый момент своей жизни, когда лежал в постели, обнаружив, что у моего причиндала есть ощущения в кончике – крик сквозь фрамугу: «Ton chien est mort! (Твоя собака мертва!)» – её принесли домой умирать – на кухне мы с Бланш и Кэррафел со шляпой в руках глядим, как Красотка умирает, Красотка умирает в ту ночь, когда я открыл для себя секс, они удивляются, почему я такой ошалевший – ) Так что теперь Бланш (это было ещё до того, как родилась Красотка, двумя годами раньше) хочет, чтобы мы с мамой проводили её домой, и мы идём, прекрасная мягкая летняя лоуэлльская ночь. Звёзды сияют в глубине – миллионы звёзд. Мы идём сквозь великую тьму Сара-авеню у парка, дыхание огромного дерева наверху, и сквозь зловещую мерцающую тьму Риверсайд-стрит, и саваны железной ограды Текстильного, мы идём по Муди и через мост. В летней темноте, далеко внизу, мягкие белые кони молочной пены вздымаются над камнями на Ночном Свидании с Тайной и Туманами, Срываясь со Скал, в Серой Пустоте Анафемы, всё в рёве-роу-роу… дикое и пугающее Ионическое зрелище – мы сворачиваем на Потакет, проходя мимо большого серого дома и госпиталя Святого Иосифа, где у моей сестры вырезали аппендицит, и мимо похоронных домов на тёмной Флейл, за кривой чудовищной шаткой Сейлем с её извивами – возникают огромные особняки, торжественные, укоренённые на лужайках, с табличками – «R.K.G.W.S.T.N. Дрю, директор похоронного бюро» – с катафалками, кружевными занавесками, тёплыми богатыми интерьерами, сырыми шофёрскими гаражами для катафалков, кустами вокруг газонов, высокими склонами реки и канала, ниспадающими с черноты лужаек в великую тьму к огням пены и ночи – ха, река! Моя мать и Бланш беседуют об астрологии, шагая под звёздами. Иногда они углубляются в философию – «Разве это не прекрасная ночь, Энжи? О, моя судьба!» – вздохнув, – Бланш пыталась покончить с жизнью, прыгнув с моста Муди, – она рассказывала нам об этом под мрачные аккорды – она играла на пианино и поверяла нам свои чувства, эта элегантная гостья нашего дома иногда доводила моего отца до белого каления, особенно когда она нас так хорошо обучала – разъясняла и исполняла «Шорох весны» Рахманинова – красивая блондинка, неплохо сохранившаяся – старик Шэмми положил на неё глаз, он жил в этом старом белом доме на Риверсайд, напротив железной ограды Текстильного под огромным деревом 1776 года, и мы всегда говорили о Шэмми, проходя по ночам мимо дома, где он жил со своей женой (Печальные Гармонии Любви, Лоуэлльская Ночь) —
Грот – он Гигантски Встаёт перед нами справа… в эту зловещую ночь. Он относится к детскому приюту на углу Потакет-стрит и Скул-стрит, почти рядом с Белым мостом – это большой Грот на их заднем дворе, безумный, обширный, религиозный, Двенадцать станций Крестного пути, двенадцать маленьких отдельных алтарей, вы проходите мимо, преклоняете колени, не хватает лишь аромата ладана (рёв реки, тайны природы, светлячки мерцают в ночи в восковом взгляде статуй, я знал, что Доктор Сакс струился там, на заднем фоне, со своими дикими складками плаща) – кульминацией служит гигантская ступенчатая пирамида, на которой фаллически водружён сам Крест с его Бедным Бременем, Сыном Человеческим, скорчившимся в Агонии и Страхе – вот уж воочию, эта статуя двигалась ночью – …после того как… последний паломник ушёл, бедный пёс. Прежде чем увидеть, как Бланш уходит в ужасный коричневый мрак дома её умирающего отца – мы заходим в этот Грот, мы часто так делаем, чтобы помолиться. «Прошу, я уже говорила об этом, – произносит Бланш. – Ох, Энжи, если бы мне только найти своего идеального мужчину».
«Разве Шэмми не идеальный мужчина?»
«Но ведь он женат».
«Если ты его любишь, это не его вина – принимай плохое вместе с худшим». Моя мать была тайно влюблена в Шэмми – она говорила об этом не только ему, но и всем – Шэмми отвечал взаимностью с большой добротой и обаянием – когда он не заходил в клуб ради боулинга или бильярда, и не спал у себя дома, и не водил свой грузовик, он приходил к нам домой для шумных вечеринок с Бланш, моими отцом и матерью, а иногда со студентом Текстильного Томми Локстоком и моей сестрой – Шэмми был по-настоящему привязан к Бланш.
«Но он всего лишь водитель грузовика, – говорила она. – В нём нет ничего по-настоящему изящного». Может, она имела в виду, что он был таким неразговорчивым, этот Шэмми, его ничто не тревожило, он был симпатичным мирным мужчиной. Бланш был нужен Рахманинов вместо чая.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.