Текст книги "Улыбка Катерины. История матери Леонардо"
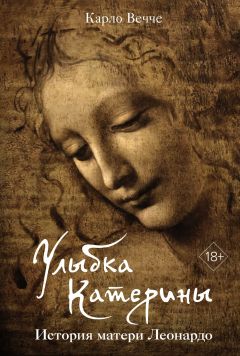
Автор книги: Карло Вечче
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 34 страниц)
Осталась только главная книга счетов, раскрытая на последней странице, с последним числом, которое я записал на внешних уголках с обеих сторон, 418, и общим балансом этой книги. Погруженный в собственные мысли, я бросаю на нее последний взгляд и наконец захлопываю потемневший, весь в отпечатках пальцев кожаный переплет.
5. Марья
Там же, в Константинополе, рассвет 26 февраля 1440 года
Яуже и не вспомню названия той крохотной деревушки, где родилась.
В памяти всплывают лишь обрывки языка, что постепенно стирается, слова, которыми старики называли горстку беспорядочно разбросанных по опушке огромного леса деревянных избушек, где мы тогда жили: derevushka, narod. Но derevushkoy и narodom запросто могли бы назвать любое селение и любую группу людей. Значение другого слова, которое тоже частенько слетало с уст, было еще пространнее и запутаннее: mir, то есть одновременно и покой, и все, что есть вокруг. Как же мне вернуться домой? Расспрашивать встречных: где moy narod, moy mir? Сочтут за безумную. А может, я и в самом деле безумна: существо, не имеющее ни дома, ни языка, ни Бога, ни покоя в душе, ничего. Я даже не могу объяснить, откуда я родом. Разве что сказать: я из далекой страны за тем великим морем, что омывает город, куда меня привезли в цепях; из края рек и деревьев, где земля черна как уголь. Как, скажите, мне ее отыскать?
Пока не явились эти всадники Апокалипсиса, я даже не предполагала, что там, за окоемом, есть какой-то mir, кроме того, что виден с невысокой колокольни церковки Svyatoy Velikomuchenitsy Yekateriny, деревянного сруба лишь немногим больше любой другой избы. В нашем краю все строили из дерева, его давал нам лес: камня мы не видели. Мой мир обрывался там, где заканчивались возделанные поля; с одной стороны он был ограничен рекой, с другой – опушкой густого, мрачного леса. Не пересекая этих границ, я не имела ни малейшего представления о том, что есть другие места, где земля и небо куда больше тех, что виделись мне, настолько обширные, что вместили бы и само Царствие Господне из молитвы Otche Nash. Одной лишь воде было известно, откуда она берется и куда уносится; воде той реки, за течением которой я любила наблюдать с косогора, всегда разной и всегда неизменной. Но вода ничего мне не рассказывала, просто текла себе мимо, немая.
Из внешнего мира к нам не забредал никто, кроме skomorohov, бродячих музыкантов и акробатов, обычно на màslenitsu с ее гуляньями. Да еще раз в году, после великого праздника Ивана Купалы и обмолота, приезжали дружинники и мытари knyazya Рязанского, которого никто никогда не видывал, подчистую выгребая драгоценные меха лесного зверя, куницы, соболя, лисы, а заодно большую часть урожая и скотины. Нередко уводили и самых красивых девушек, о которых мы больше не слышали. Говорили, что крестьяне нашего mira не были существами свободными: мол, все smierdi – не более чем raby. Но им, по крайней мере, посчастливилось родиться мужчинами, muzhikami. Женщина, zhena, ценилась еще меньше, немногим выше скотины, за которой ухаживала. Она должна была взвалить на себя всю работу по дому, рожать и воспитывать детей, выращивать лен и коноплю, прясть и ткать, шить одежду, а если случалась нужда, браться и за самую тяжелую работу, какую делают мужчины, потому что в такое время нужны все свободные руки, даже детские, чтобы успеть управиться с землей за ту краткую пору, когда она не покрыта ни грязью, ни снегом или когда наступит время пожинать плоды, чтобы зимой не умереть от голода: самой впрягаться в соху, удобрять поля навозом, сеять, жать, молотить, сгребать солому, таскать снопы.
Но даже в дни самой тяжкой работы все мы чувствовали себя равными, едиными на земле под высоким небом, как один великий narod. Особенно рады были женщины, которые наконец-то были свободны, ощущая внутри ту же непобедимую мрачную силу, что оплодотворяла и саму черную землю. Я, совсем еще девчонка, с серпом длиннее моей руки, тоже шла по просяному полю в длинном ряду поющих мужчин и женщин, и в ритме этой песни десятки лезвий, сверкающих под летним солнцем, взлетали в волнах золотистого моря колышущихся на ветру колосьев. То была самая макушка года, когда дни бесконечно длинны, а солнце словно замирает, зависает над горизонтом, прежде чем ненадолго скрыться в сумраке, чтобы совсем скоро появиться снова.
Да, это я помню прекрасно: ритмы, звуки и запахи, песни, руки, хриплые выдохи, взмокшие от пота тела; наши детские, а затем подростковые игры и беготню среди снопов во время полуденного отдыха в еще более жаркую пору обмолота, пока взрослые, поев ржаного zhita и сала, растягивались прямо на земле, продолжая напевать и попивать сладкую, но крепкую myedovukhu, от которой кружится голова, хотя ее дают отведать даже малышам; странные шепоты и стоны, доносившиеся из каждого омета на берегу… Собравшись с духом, я однажды подошла к одному и чуть раздвинула солому, чтобы лучше разглядеть два обнаженных, покачивающихся тела, что слились в лучах солнца, превратившись в надсадно сипящее существо о четырех руках, четырех ногах и двух головах.
Когда я впервые обнаружила у себя внизу кровь, màmuchka строго-настрого велела мне больше себя там не трогать, а главное, держаться подальше от всех muzhikov, что старых, что молодых, ибо отныне я стала ладной кобылкой, а они – волками; однажды взрослые сами подыщут мужчину, который обуздает меня и запрет у себя в доме. Но в то мгновение, у омета на берегу, я, вместо того чтобы испуганно убежать, стою как зачарованная дура и совершенно не понимаю, что вижу. Между ног у меня вдруг становится мокро, и я в ужасе ощупываю свою kunku: если это снова кровь, màmuchka точно прибьет меня за пачкотню. Рука в чем-то прозрачном, ароматном и липком, словно мед, но когда я кладу палец в рот, то чувствую, что привкус соленый, а не сладкий и терпкий, как у myedovukhi. Трогаю снова, надеясь распробовать этот странный мед, но поднести пальцы ко рту уже не могу: они так и остаются внизу, поглаживая другой рот, который, как я вдруг обнаруживаю, вырос у меня между ног, и на приоткрытых губах этого рта, будто на набухших сотах, выступают новые капли меда. Потом я закрываю глаза и дальше уже ничего не помню.
К пятнадцати я считаюсь samoy krasivoy devushkoy в деревне, и потому ни один парень не может набраться смелости ко мне посвататься. Когда я иду в церковь помолиться Пресвятой Богородице, именем которой крещена, и ее pokrovu, хранящему меня, то всегда благоговейно целую святую икону. Но стоит мне выйти в поле, я тотчас же срываю с головы цветастый платок, и длинные черные волосы свободно ниспадают на плечи и спину. Янтарного цвета глаза на узком лице невелики, но зорки, как у лисицы. Я выше других девушек, крепкая, а летом частенько вижу, как покачиваются мои груди под посконной рубахой, поверх которой у нас в жаркие дни не принято ничего надевать, и как натягивают ткань соски.
Купаясь в солнечный день в речке вместе с подружками, я не стыжусь своей наготы. Парни, спрятавшись в камышах, вечно подглядывают за нами: думают, мы этого не знаем, но мы все прекрасно видим и, плескаясь, нарочно трогаем себя, заставляя их страдать еще сильнее. Мы видим даже, как они там, за камышами, тоже себя трогают, чтобы высвободить семя, которое так их мучает. Если же я обнаруживаю, что какая-то точка моего тела доставляет мне слишком большое удовольствие, я никогда не касаюсь ее сама, позволяя сделать это другим девушкам, на речке или в banje, где наши тела становятся еще белее, будто растворяясь в клубах горячего пара; а подружки все шутят: вот тут тебя женишок потрогает, и тут, и тут.
Но вот настает священный день Ивана Купалы, когда солнце замирает в летнем небе, словно хочет задержаться подольше, украв часы у ночной тьмы. Вечером, в одной только длинной и тонкой льняной рубахе, босая, с распущенными волосами, украшенными венком из полевых цветов, я вместе с семьей выхожу на приречный холм. Обряд начинают сжиганием стеблей полыни, чтобы отпугнуть злобных rusalok, и пением гимнов в честь великого святого Купалы, Иоанна Предтечи, крестителя Христа: да будет он милостив и да приоткроет в эту колдовскую ночь завесу грядущего.
С приближением темноты мужчины разжигают большой костер из березовых поленьев. Вокруг огня заводят хороводы, все ускоряя шаг. В центральном круге, раскрасневшись от жара, скачем босиком мы, девушки, на глазах парней обращаясь в лесных духов. Хоровод кружит, кажется, целую вечность, но мы не замечаем ни усталости, ни царапин на ногах. Венки падают на землю, длинные волосы колышутся вслед движениям тел. Мужчины, обнажившись по пояс, словно охотники, обступившие добычу, все теснее смыкают круг. Сила, самый красивый парень в деревне, берет меня за руку, и мы вместе прыгаем через очищающее пламя. Праздник продолжается песнями, сказами, гаданиями и ритуальным распитием myedovukhi у костра. Потом и парни, и девушки, раздевшись донага, спускаются к реке. Погрузившись в воду, мы смываем все наши грехи, игриво брызгаемся, плаваем как rusalki, нисколько не боясь этих озорных, но смертоносных созданий, ведь каждому известно, что по весне они покидают воды, скрываясь до осени на ветвях самых высоких деревьев.
Вдруг по спине бежит холодок, будто из реки вынырнул злобный водяной. Оборачиваюсь и вижу позади нечто огромное, бесформенное. Это человек на коне, за ним другой, множество людей. Они, словно волки, не издавая ни звука, мчатся во тьме по берегу к нам и к тем, кто в счастливом неведении по-прежнему стоит у костра. Слышен одинокий крик, потом сразу несколько, одни вопят в страхе, другие – чтобы, подобно диким зверям, заставить добычу оцепенеть от ужаса, прежде чем вонзить в нее когти. Кто-то пытается бежать в сторону деревни, но тут одновременно вспыхивают десятки факелов, и всю поляну, от излучины реки до опушки леса, окружает жуткое огненное кольцо, которое сразу же начинает смыкаться, отрезая пути отхода. Прежде чем потерять сознание, я чувствую, как мое обнаженное тело, едва успевшее очиститься огнем и водой, хватают сильные руки. Они рывком поднимают меня и быстрее ветра уносят прочь.
Долгие дни, как две капли воды похожие один на другой, узкие лодки плывут вниз по течению. На берегу то и дело возникают всадники в тюрбанах или остроконечных шлемах, а когда и вереницы скованных цепью мужчин, медленно бредущих по пыльной степи. В лодке, не считая кормчего, что едва ворочает длинное рулевое весло, сгрудились одни только дети, девушки и женщины, одетые в грубые холщовые рубашки и тоже скованные цепью. Разнообразят череду бесконечных дней лишь короткие остановки, чтобы мы могли выбраться на твердую землю, съесть по куску черного хлеба и немного вздремнуть. Крутые берега понемногу расходятся, делаются ниже, лес редеет, течение замедляет бег. За очередной излучиной река уже шириной с озеро, а вдалеке видны костры и знамена большого татарского стана. Едва лодка причаливает, нас разделяют. Маленьких детей уводят под истошные крики матерей. Девушек и женщин раздевают донага и выстраивают в ряд для осмотра вождями Орды, которые, отобрав часть пленниц себе, велят пересадить остальных в лодки побольше.
Все это будто не со мной, будто во сне: цепи, случайные касания других тел, рыдания, молитвы, застойная вонь мочи и испражнений со дна лодки, непроницаемые глаза мужчин с жестокими лицами, щелканье кнута, руки, ощупывающие тело, которое больше мне не принадлежит… Я сижу, почти не двигаясь, словно мертвая, убаюканная мерным покачиванием лодки и непрестанным копошением вокруг. А может, я и в самом деле мертва и все прочие женщины тоже; может, уже наступил Судный день и всадники на берегу – это всадники Апокалипсиса, а те смуглые, с черными бородами и налитыми кровью глазами, вооруженные кнутами и крючьями, – вовсе не люди, а демоны, волокущие нас в ад?
Иногда я тайком поднимаю правую руку и трижды осеняю себя крестным знамением, привычно спускаясь ото лба к пупу, а после поднимаясь к правому и левому плечу, и шепотом призываю на помощь Пресвятую Богородицу, чье имя ношу. Время от времени кормчий дубасит нас веслом: не из беспричинной жестокости, а чтобы проверить, теплится ли еще в этих телах жизнь. Если же кто-то не шелохнется и веки его остаются сомкнутыми, а дыхание более не исходит из полуоткрытого рта, тело выбрасывают за борт: холщовый куль бесшумно уходит под воду, и мы лишь изредка успеваем заметить в темном водовороте клубящееся облако волос или взмах руки, словно на прощание. Луна поднимается и падает с небес, она успевает родиться заново, хотя мы уже не знаем, раз или два, потому что никто не ведет счета дням. В конце концов река, ставшая еще шире, распадается на запутанную сеть протоков. Течение почти стихает. Лодки подходят к песчаному берегу. По нему нам предстоит брести еще не один день, закованным в цепи, босым, истекающим кровью. Если же кто-то из пленниц спотыкается и падает, ее хлещут кнутом, покуда она не встанет, а если и это не помогает, размыкают цепи и оставляют как есть: о несчастной позаботятся тощие дикие собаки, из страха перед палкой следующие за нами на некотором расстоянии. Постепенно мы даже перестаем их замечать, просто идем вперед, кротко, как жертвенные агнцы, повинуясь злобным крикам и ударам кнута, и лишь изумленно поглядываем на реку, которая разливается уже до самого окоема, соединяясь с небом. Она вбирает в себя всю воду, что течет мимо моей деревни, все воды всех прочих рек и ручьев, а потом, должно быть, переливается через самый край света, возвращаясь в первозданный хаос и мрак. Значит, уже и Ад совсем близко.
Наконец мы добираемся до странного места, которое зовется Порто-Пизано. У берега покачиваются на воде огромные лодки-чудовища, каких я никогда раньше не видела: длинные, с торчащими по бокам рядами жердей, или широкие и пузатые, с высокими ветвистыми стволами, похожими на деревья в лесу. Рядом еще один татарский стан, с загоном для животных, куда набивается целая толпа женщин. В этом долгом пути, на пересадках и стоянках, я растеряла всех, кого знала и любила, narody и derevushki растворялись, терялись, смешивались с другими narodami и другими языками, непонятными говорами рассеянных по свету кочевых племен: черкесским, зихским, куманским, даже татарским. Окончательно перестав что-либо понимать, я теряюсь среди всех этих тел, стонов, криков, ударов хлыста. Я совсем одна, и в своем одиночестве могу только молча зажмурить глаза и помолиться Пресвятой Богородице, дабы она обратила на рабу свою милостивый взор и простерла с небес чудотворный pokrov, защитив от зла и от смерти. Когда меня тащат за ограду, эта молитва становится еще усерднее, еще истовее: там, в грязном шатре, уже не я, а лишь мое тело, поскольку душу свою я в эти минуты всеми силами и всею верою отдаю Пресвятой Богородице, чувствуя, как там, наверху, в синеве неба, ее pokrov окутывает и защищает меня. Но здесь, внизу, под раскаты звериного смеха и звон налитых вином чаш сразу несколько демонов оскверняют мое тело на соломенном тюфяке, а после волокут его обратно в загон.
Однажды татарский вождь велит нам умыться. Нас осматривают, даже и между ног, разделяют на группки, раздают чистые рубахи и деревянные башмаки. Потом отправляют в порт, в крепость, где продают на широкой площади, как скотину на торге. Когда приходит черед, нас с другими девушками-подростками загоняют на деревянный помост. Я оказываюсь нагишом перед десятками мужчин самого чудного обличья и платья. Громкий голос выкрикивает что-то на столь же чудном, незнакомом языке. Меня ощупывает множество рук: нет, не меня, а мое тело, ведь душа моя сейчас на небесах. Наконец новые руки хватают меня, одевают и тащат в темный сарай, а через несколько дней швыряют в трюм одной из тех огромных лодок, что покачивались на воде. Не знаю, сколько бесконечных дней, отмеченных лишь ритмом телесных надобностей, я живу в ней, чувствуя, как эта лодка движется, то скользя по ровной глади, а то, будто вступив в схватку с чудовищем, яростно вздымаясь и падая снова. В такие мгновения наши изможденные тела валятся друг на друга, бьются о стенки трюма, и я опасаюсь, как бы лодка, достигнув края вод, не рухнула в Ад. Время от времени над головами отворяется люк, и нам, словно собакам, бросают размоченные в морской воде куски черного хлеба и вяленой селедки. Воду для питья спускают в ведре, она пахнет гнилью, и одну из нас тошнит, у нее начинается жар. Когда она затихает и на ее лицо слетаются мухи, демоны вытягивают тело наверх, после чего раздается глухой плеск.
Потом нас выводят на солнечный свет, но я еще слишком слаба, чтобы осознать происходящее, а мои глаза, привыкшие к сумраку, не в силах различить очертания нового мира вокруг. Тогда меня вместе с несколькими девушками попросту заталкивают в другой полутемный сарай, на другой склад. А через пару дней выгоняют наружу, только для того, чтобы тайком, накинув на головы капюшоны, отвести в дом, похожий на церковь, но сложенный из камня, не из дерева. О, луч надежды: я узнаю крест, хотя и не совсем такой, как наш, следом образ Пресвятой Богородицы с Младенцем, и наскоро осеняю себя крестным знамением. Быть может, я еще жива, быть может, еще не в аду, быть может, молитвы мои еще будут услышаны? Монах, похоже, знающий три-четыре слова на моем языке, спрашивает, как меня зовут. Услышав «Марья», он кропит мне волосы водой, бормочет слова, которых я не понимаю, и называет Марией. Кажется, эти капли заменяют им погружение в воду во время святого крещения. Но зачем меня кропить, если я уже была крещена, а в день Ивана Купалы даже прошла очищение огнем?
Тянутся дни. Мое обнаженное тело снова осматривают, снова ощупывают, снова обсуждают на незнакомом языке. Но на сей раз я замечаю то, чего никогда прежде не видела: руки, касавшиеся меня, достают небольшой кожаный мешочек, откуда высыпают кругляши из металла, похожего на золото: да-да, они того же цвета и даже блестят так же, как крест, c которым batiushka, воскурив благовония и надев священные облачения, возглавлял шествие в праздник Великой Пасхи. Для чего же нужны эти золотые кругляши? Чтобы купить мое тело? Выходит, у моей жизни, моей души, моей свободы есть цена? И цена им – горстка золотых кругляшей, что переходит сейчас из рук в руки, те самые грязные руки, что трогали меня везде, даже в kunku залезли? Это он теперь и kunkoy моей владеть будет?
Должно быть, там, снаружи, уже зима. Я слышу завывания ветра, стук капель по крыше, но мне, привыкшей кататься на санках с заснеженного склона или гулять по льду замерзшей речки, совсем не холодно, даже когда я стою нагой посреди комнаты. Один из мужчин, тот самый, что достал мешочек с золотыми кругляшами, кладет руку мне на грудь, ощупывает, поглаживает кончиками пальцев кожу. Соски поднимаются, твердеют. Услышав, как меня называют Марией, а не Марьей, я понимаю, что сегодня войду в новую жизнь. Кошмар, начавшийся летней ночью, вот-вот закончится; правда, его может сменить другой, но что, если нет? Я ведь пока жива. И должна жить дальше. Как-нибудь справлюсь. Я натягиваю рваную рубаху, в которой меня привезли с той стороны моря, и следую за человеком, который меня купил. Моим хозяином.
Хозяин – человек не злой. Доверил новую рабыню заботам старухи-гречанки, и та понемногу учит меня языку, на котором говорит он сам и другие вроде него; одному из многих, что с утра до ночи звучат в нашем окруженном высокими стенами и складами дворе, но, кажется, самому главному. И самому нежному. Схватываю я быстро. Старуха моет меня, смазывает раны, затирает шрамы какой-то помадой, выводит вшей, расчесывает мои длинные черные волосы и укладывает спать на большом соломенном тюфяке под столом; буду ворочаться – еще и мышей разгоню. Но первые несколько ночей я проваливаюсь в глубокий, беспробудный сон, и мне снится наша деревушка, река, лицо Силы, с каждым разом все более прозрачное, пока он и вовсе не перестает являться, а после схождение во Ад, где бесы хлещут меня кнутом, сильничают, запихивая в kunku раскаленные уголья, вспарывают грудь и пожирают сердце. Я кричу во тьме, а после чувствую, как старухина рука касается моих волос, слышу ее хриплый голос, убаюкивающий меня незнакомой колыбельной. Через некоторое время я выхожу работать на склад, быстро став главной помощницей для старухи и остальных: мою отхожие места и полы в комнатах, готовлю щелок, стираю белье, поддерживаю огонь в очаге, хожу со старухой на рынок за провиантом, готовлю, подаю завтрак, подношу вино работникам и мастеровым. Все здесь для меня удивительно: стены, сложенные из камня, а не из дерева, медные кастрюли, обилие и разнообразие неведомых блюд, ароматные приправы, так непохожие друг на друга одежды и лица людей, снующих туда-сюда, самые невероятные языки…
Однажды старуха ведет меня на верхние этажи, чтобы прибраться в комнатах, пока хозяина и его помощников нет дома. Когда мы входим, она первым делом показывает мне кровать, да такую огромную, что я теряю дар речи. Мне еще никогда не доводилось видеть ничего подобного: высокое резное изголовье, мягкая, немыслимой толщины перина, застеленная простынями и одеялами… Я в шутку говорю, что хотела бы на такой поваляться. Старуха улыбается и мало-помалу подводит меня к мысли, что такая мечта вовсе не несбыточна. Хозяин – человек добрый, это всем известно, и очень важный, может, даже богаче императора, но порой будто дитя малое. Вечером, после работы, запрется в комнате, влезет в этот вот деревянный ковчег и давай писать: она сама это видела через щель в двери. Мария ведь знает, что такое писать? Конечно, я же не из какого-нибудь варварского края, я прекрасно знаю, что читать и писать – дело сокровенное. Вот почему в нашей деревушке это умел только batiushka: он торжественно раскрывал священную книгу в окладе из серебра и разноцветных каменьев и читал оттуда слова, продиктованные самим Господом. А это что за книга: заклинания, черное колдовство?
Я протягиваю руку, чтобы ее коснуться, но старуха взвизгивает: горе тебе, если тронешь или перевернешь страницу, когда будешь в комнате прибирать! Все должно лежать так, как хозяин оставил. Что ни вечер, он садится, пишет часа два-три, потом гасит лампу и ложится в постель, но не спит, нет: полночи, а то и всю – стонет, ворочается, плачет, как младенец. И наутро потом будто другим, дурным человеком оборачивается: бранится без причины, велит высечь всех, кто слово поперек скажет или сделает что не то; случалось, и вовсе без вины пороли. Говорят, в том далеком городе, откуда он родом, одна ведьма наложила на него чары, и теперь по ночам злые духи, что прячутся под кроватью, хватают его за ноги, ни на миг не оставляя в покое. Может, потому он и кровать себе завел высокую, словно стены замка, да только это не помогает. А чтобы победить колдовство, ему нужен кто-нибудь рядом. Не жена или там любовница, нет: кто-то вроде мамы. Или кормилицы. Только молодая, сильная девушка может, как в старинной русской сказке, помочь ему справиться с чарами. Хозяин – человек добрый, он непременно ее вознаградит: новой жизнью, а там, кто знает, глядишь, и свободой.
Старуха повторяет эту историю еще несколько раз на протяжении нескольких дней. В конце концов я понимаю, к чему она клонит, и, сравнив таинственную кровать со своим соломенным тюфяком на полу и стайками мышей, обнюхивающими по ночам мои волосы, соглашаюсь. Правила просты. Я ни под каким предлогом не должна с ним заговаривать, и он не будет говорить со мной. Вечером, вместо того чтобы лечь спать на кухне, я поднимусь в залу на втором этаже и стану молча ждать, пока он погасит свет. Потом войду в комнату и так же молча скользну за конторку: он даже не обернется, сделав вид, что не слышит. Я разденусь донага и заберусь в кровать, согревая для него простыни. Он не заставит себя долго ждать, а дальше мне вообще ничего не придется делать. Он будет спать, я тоже буду спать. Мне не следует его трогать, а если он сам ко мне прикоснется, я не шелохнусь и все ему позволю, даже если он захочет чего-то еще. На рассвете же я должна проснуться и, не разбудив его, молча исчезнуть. Вот и все. Разве что с вечера тщательно вымыться, но никаких духов: достаточно будет запаха чистых волос и тела.
И я добросовестно выполняю свою работу. Со мной хозяин действительно спит как младенец всю ночь напролет, ни разу не проснувшись. Его обнаженное тело, избавленное от громоздких одежд, рядом с моим кажется совсем крошечным, а когда он подгибает колени, становится еще меньше. Поначалу меня мучает страх, и я не смыкаю глаз, опасаясь, что может случиться нечто ужасное. Но ничего так и не происходит, по крайней мере, в моем присутствии. Понемногу я даже начинаю позволять себе кое-какие незначительные вольности – например, поглаживаю немногие оставшиеся на этой почти лысой голове волосы и шепотом напеваю колыбельную, которая напоминает мне о детстве: tili tili bom, zakryvay glaza skoree, не то придет бука и заберет всех, кто не спит… Изредка, может, раз в месяц, не чаще, я чувствую, как он ворочается, теребя свой тоненький sramnoy ud, а потом, сунув его меж моих теплых бедер, но не внутрь, почти сразу обмазывает меня чем-то липким и спокойно засыпает.
Разговорившись со старухой, я наконец-то узнаю, где нахожусь, и это открытие несказанно меня удивляет: я ведь в Константинополе, столице империи, где живет император ромеев, одном из немногих мест в мире, о существовании которого знала еще в своей первой, деревенской жизни. На Васильев день, последний день года, моя старая бабушка готовила вкуснейшую кашу из крупы-grechki, без конца помешивая в котелке и напевая старинную попевку. «Сеяли мы, ростили grechu все лето; уродилась grecha и крупна, и румяна; звали-позывали нашу grechu во Царьград побывать, на княжеский пир пировать, со князьями, со боярами, со честным овсом да златым ячменем; ждали grechu, дожидали у каменных врат; встречали grechu князья да бояре, сажали grechu за дубовый стол пировать; а нынче приехала grecha к нам гостевать», – смеялась бабушка, раскладывая нам, детям, по мискам парующую кашу.
Старуха улыбается, слушая напев, и поправляет: не только для твоей каши Константинополь важен. Когда-то он правил всем миром. Но, добавляет она со слезами на глазах, время сжирает все: и жизнь, и красоту. Она и сама в прошлом не походила на нынешнюю скрюченную, беззубую старуху. Звали ее тогда Ириной, и была она монахиней, которую с позором изгнали из монастыря, застав в постели с любовником. Расстриженная, выброшенная на улицу, она много лет сводила концы с концами, торгуя собственным телом и попрошайничая у Золотых ворот, пока однажды проходивший мимо венецианский торговец не сжалился и не приютил ее на складе, где она с тех пор выполняла самую черную работу, а заодно и рабов обучала.
Ирина рассказывает мне свою историю, и я с трепетом вспоминаю постигший меня Апокалипсис, mir, навсегда исчезнувший из моей жизни, mamuchku, подружек, Силу. С тех пор мы становимся ближе: две женщины, старая шлюха и юная рабыня. Для меня она становится babushkoy Ириной. Я хожу с ней на рынок, взваливая на свои плечи тяжелые сумки с покупками; сопровождаю в дни праздников в греческую церковь. Какими словами мне, знавшей одну только нашу крохотную деревянную церквушку, описать дивную красоту этих величественных храмов, созданных, кажется, рукой самого Господа? Я хотела было преклонить колени перед pokrovom Пресвятой Богородицы, который защитил и спас меня на пути во Ад, но babushka Ирина со слезами шепчет, что чудотворная пелена, maphorion, и священная Влахернская икона, к несчастью, погибли в огне.
Я в отчаянии. Неужто мне не суждено отыскать Приснодеву? Кто же тогда меня защитит? Но как-то июльским днем, когда мы с babushkoy Ириной и хозяином ходим по барахолке, я вижу на телеге, по соседству с медной туркой и двумя помятыми котлами, ту самую Богородицу: написанная на небольшой дощечке, вконец изъеденной древоточцем, яркими красками по золотому фону, она раскидывает мне навстречу свой pokrov. Подобные чудеса случаются тогда и там, где их меньше всего ожидаешь. Я визжу, плача от радости, указываю на телегу, несколько раз осеняю себя крестом и, словно капризный ребенок, отказываюсь двигаться с места, пока мне не купят эту икону. Babushka Ирина тоже крестится и что-то шепчет хозяину, а тому приходится купить у прохиндея-торговца и икону, и турку, и котлы. Вернувшись вечером к себе в кабинет, он обнаруживает, что я уже успела приколотить Влахернскую икону к стене, между кроватью и конторкой.
Так прошло два года. Я стала свидетельницей покупки еще одного раба, Дзордзи, тугоумного восемнадцатилетнего авогасса, который, похоже, и родного-то языка не знает. Его тут же нагрузили самой тяжелой работой, а спать отвели на конюшню, с лошадью.
Еще через несколько месяцев во двор следом за хозяином входит чудной светловолосый мальчишка в изодранной одежде нездешнего покроя и дырявых сапогах. Я в это время прибираюсь на втором этаже, а потому вижу его только сверху. Мальчишку ведут в кухню, туда же ковыляет и babushka Ирина. Заметив меня в окне, она машет, мол, спускайся, и мы идем вместе. Хозяин, указывая на жмущегося в угол мальчишку и глядя прямо в глаза, что бывает довольно редко, велит мне обеспечить Катерину всем необходимым и без дальнейших объяснений уходит, поскольку его уже ждет большая книга. Какую еще Катерину, скажите на милость? И при чем здесь этот белобрысый мальчишка? Мы с Ириной недоуменно переглядываемся. Поняв все первой, старуха прогоняет любопытных работников, собравшихся у самых дверей, велит принести лохань, кое-какую одежду и, прежде чем закрыть дверь, вполголоса объясняет мне, что мне делать.
Я кипячу воду, наполняю лохань, потом раздеваю Катерину, с любопытством разглядывая корсет, стянувший грудь, и особенно загадочное оловянное колечко у нее на пальце. Когда я пытаюсь его снять, она защищается с такой яростью, что я отступаюсь: наверное, это единственная оставшаяся у нее память о чем-то. Обнаженное, еще незрелое тело Катерины кажется мне priekrasnym, zhimichatelnym. У нее сильные руки и ноги, привыкшие не к изнеженности городов, а к жизни в лесной чаще. Если бы не коротко обрезанные волосы – не поймешь, то ли мужчина, то ли женщина, – мы были бы немного похожи. Для татарки, пожалуй, слишком красива: те все низенькие, плосколицые. Должно быть, черкешенка. На базаре я уже не раз видела других рабов-горцев, таких же высоких и диковато красивых. Хозяин даже покупал их, но только из желания нажиться на перепродаже. Право быть рядом с ним предоставлено только мне, Марии.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































