Текст книги "Улыбка Катерины. История матери Леонардо"
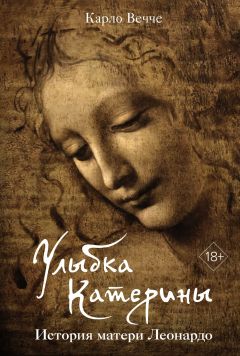
Автор книги: Карло Вечче
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 26 (всего у книги 34 страниц)
И вот в один прекрасный день я, набравшись смелости, смиренно приветствую его, кланяюсь и предлагаю свои услуги. К моему удивлению, он мне отвечает – сверху вниз и с явным пренебрежением, но все-таки отвечает, у нас даже завязывается разговор. Он спрашивает меня, откуда я, и когда слышит, что из Винчи, спрашивает снова: знаю ли я такого-то и такого-то. Ну, это все равно что ломиться в открытую дверь, я знаю там всех, или, точнее, отец мой знает всё и всех от Винчи до Эмполи, включая Совильяну, Сан-Донато-ин-Грети и Черрето. У рыцаря Кастеллани есть в этой местности несколько владений, хотя он даже не представляет, где и какие именно, слишком уж много запутанных вопросов с наследством, арендной платой, налогами и границами. В общем, ему нужен молодой нотариус оттуда родом, разумный и сметливый, да-да, так прямо и говорит, при этом способный вести крайне важные дела, какие только и подобают рыцарю вроде него. Мне кажется, что я сплю. Работать на великого рыцаря Кастеллани! Быть может, как это случается с важными синьорами, он ничего мне и не заплатит, как никогда не платил ни Ванни, утверждавший, что платит, пустив меня жить бесплатно, ни Донато, прикидывавшийся слабоумным, чтобы не думать о подобных мелочах; но уж наверняка у таких, как Кастеллани, дома полным-полно дорогих тканей, что ему стоит подарить мне отрез на новый лукко?
Рыцарь, не теряя времени, ведет меня в свой замок, прямо в кабинет на втором этаже, и вываливает на стол документы, так беспорядочно и с таким презрением, что мне совершенно ясно: он никогда ими не занимался, поскольку все эти бумаги навевают на него скуку и отвлекают от высших материй; потом он и вовсе оставляет меня одного, удалившись в соседнюю комнату, даже не дав себе труда прикрыть дверь. Признаюсь, как и всякий нотариус, я имею скверную привычку не лезть не в свое дело и не совать свой нос куда не следует. Поэтому только краем глаза кошусь на богато украшенные створки, но разглядеть почти ничего не удается. Зато слышится странный шум, только усиливающий мое любопытство и вызывающий смутные воспоминания о детстве, кажется, о том времени, когда в нашем доме только появилась Виоланте и мне снова пришлось разлучиться с матерью, полностью посвятившей себя этой незваной маленькой гостье, которой отдала всю любовь.
Я встаю, подхожу к открытой двери и сквозь щель вижу следующую сцену. Высокая и просторная кровать с расписным изголовьем. Какая-то молодая женщина кормит ребенка, держа другую женщину за руку. И я узнаю ее, узнаю эту вздымающуюся грудь, эти золотые волосы, и мне кажется, что она, тоже на мгновение вскинув свои огромные синие глаза, видит меня. Нет, это не она, не может быть, это призрак!
Я, пошатываясь, отступаю и тяжело падаю в кресло, вцепившись в подлокотники. Кровь застывает в жилах, руки холодеют, ни вдохнуть, ни выдохнуть. Именно в таком состоянии меня и находит рыцарь. Я, запинаясь, бормочу, что бумаги слишком запутанны, нужно будет вернуться еще не один раз или даже съездить в Винчи, чтобы все тщательно проверить. Небрежный жест – он меня отпускает, – и вот я уже очертя голову несусь по узкой и крутой лестнице, на каждом шагу рискуя споткнуться и упасть. Потом оказываюсь на улице и, не зная, куда идти, опираюсь на парапет, нависший над рекой. Может, перевалиться через него и утонуть? Я оглядываюсь на окна и, кажется, вижу тень, наблюдающую за мной сквозь свинцовое стекло. Это так смахивает на помешательство, что я, уронив голову в руки, захожусь в рыданиях.
На следующее утро я снова в замке, за письменным столом. Рыцарь, поздоровавшись со мной, ушел. Похоже, больше никого нет, даже той, другой женщины, вероятно, его жены. Я машинально перекладываю бумаги, не в силах читать, и тяжким сердцем чего-то жду. И это что-то происходит. В углу, неведомо как и откуда, вдруг возникает она. Молча смотрит на меня, и я никак не могу понять, что выражает этот взгляд, точно не упрек и не злость, но и не радость, скорее печаль, покорную грусть, должно быть, она тоже сразу узнала меня накануне. Постояв немного, мой ангел ускользает через узкую дверь для слуг, но в последний момент оборачивается, словно приглашая следовать за ней. Я, будто во сне, выхожу в эту дверь и поднимаюсь по лестнице на альтану между двумя башенками, где волнами белоснежного полотна трепещут на ветру вывешенные для просушки простыни.
Она ждет меня там, безмолвно глядя на реку. Я с трудом выдавливаю несколько слов, умоляя о прощении. Она отвечает вопросом: какое может быть прощение, если я бросил ее, исчез, ничего не сказав! Прощения нужно просить вовсе не у нее, а у ребенка, нашего потерянного сына, разлученного с ней сразу после рождения. Я оседаю на колени и, привалившись к стене, плачу, как младенец. Она подходит ближе, гладит меня по волосам, потом вдруг спрашивает: «Как тебя зовут?» Я, подняв на нее мокрые от слез глаза, называюсь и слышу в ответ: «Катерина, я – Катерина». И мы глядим друг на друга в изумленном молчании, среди простыней, раздувающихся на ветру, словно паруса корабля.
С тех пор мы виделись почти каждый день. Я много работал для рыцаря Кастеллани, часто ездил к Винчи, а заодно помог престарелому отцу: составил для него кадастровую декларацию, которую сам же и отвез во Флоренцию. Только тогда, с его слов, я и узнал, сколько земли он продал, чтобы меня поддержать. В замке мы с Катериной пользовались всей возможной свободой, поскольку рыцаря больше так ни разу и не видели, он то скрывался в подвале, то бродил по лавкам ювелиров и торговцев шелком. Его жене Катерина нужна была лишь для того, чтобы кормить Марию, то есть не чаще одного-двух раз в день: малышке уже исполнился год, и ее понемногу отнимали от груди. Работой монна Лена рабыню не занимала, та должна была отдыхать и есть с аппетитом, чтобы молоко не потеряло питательности. Меня поразило, насколько любовно и невзыскательно рыцарь и его жена обращались с кормилицей дочери, уж точно не так, как обычно ведут себя с рабыней.
Правда, видеться нам приходилось тайком, в обычном месте, на открытой солнцу и ветру альтане, куда, как правило, выходила только Катерина, развешивая чистое белье. Поначалу у нас не хватало смелости даже дотронуться, коснуться друг друга или взяться за руки, так живо было воспоминание о буре, что захлестнула нас два года назад и пугала до сих пор. Зато теперь мы разговаривали, и я смог узнать красоту ее души, которую раньше лишь читал в глазах.
Я узнал все, что с ней случилось после моего побега. Обнаружив, что беременна, Катерина сообщила об этом хозяйке, монне Джиневре, и та, дабы избежать скандала, сохранила тайну, но сразу после родов спровадила свою рабыню кормилицей в семью Кастеллани, поскольку у монны Лены, недавно родившей девочку, не было молока. Другого ребенка, нашего сына, забрали практически сразу, и для Катерины, девять месяцев носившей его в себе, следившей, как он потихоньку растет, отдавшей ему и свою кровь, и саму жизнь, мурлыкавшей ему колыбельные, пока он еще был внутри, это стало бесконечной болью, мукой, какую не выразить словами, быть может, даже сильнее той, что она почувствовала, когда малыш только появился на свет. Невыносимая жестокость, и рана, нанесенная ею, все еще не зажила.
Впервые ощутив эту боль, за нее и за ребенка, я почернел от стыда. Мне нужно было остаться с ней рядом, взять на себя ответственность перед монной Джиневрой, не отдать дитя и воспитать его соответственно тому, что предписывают законы, если уж сердце не смогло подсказать, как поступить правильно. Я же попросту сбежал, и ребенка мы потеряли. Теперь даже сама Катерина не знает, где он, крещен ли и каким именем. Они с малышкой Марией ровесники, и всякий раз, когда Катерина кормит Марию грудью, глаза ее полны печали, ведь она думает о ребенке, не имеющем ни имени, ни будущего. Она слышала о месте, которое называют Воспитательным домом, куда относят ничейных детей. Наверное, он тоже там и, может, еще жив, и тамошняя наемная кормилица баюкает его по вечерам.
Я рассказываю Катерине о себе, о своей семье и своей жизни, об унылом, одиноком детстве, о тяжких поисках жизненного пути и свободы, о том, как я изо дня в день пытаюсь удержать то, чего с таким трудом добился. Катерина же, напротив, не слишком-то хочет рассказывать о прошлом. Оно потихоньку стирается из ее памяти, мир, настолько не похожий на нынешний, что она иногда задается вопросом, существовал ли он на самом деле, или ее воспоминания – лишь навязчивые сны, мечты о чем-то небывалом. Судя по тому немногому, что мне удалось узнать, мир этот был на редкость диковинным. Даже наш язык в устах Катерины и тот звучит странно: почти без гласных, с гортанными призвуками, временами напоминая венецианское наречие. Как и у старого Донато.
Катерина родилась в горах на самом краю мира, куда причалил после Потопа Ноев ковчег, где был прикован богами Прометей, где Александр Македонский преградил исполинскими дверями путь бессчетной варварской орде Гога и Магога. Катерина – дочь тамошнего князя по имени Яков. Имя, столь обычное для рабыни, одно из тех, которыми лишенные воображения монахи называют всех новоприбывших язычниц без разбору, было дано ей изначально, ведь она была крещена в честь святой Екатерины Александрийской, о чем говорит надпись греческими буквами, выгравированная на колечке, единственном, что осталось у нее в память об отце. Да, она крещеная христианка, хотя представления о вероучении имеет несколько странноватые; впрочем, нам лучше не углубляться в эти вопросы, в конце концов, что простой народ знает о тонкостях теологических диспутов?
Катерина была захвачена и обращена в рабство в Тане, венецианском аванпосте в самой дальней части Великого моря, которое затем пересекла, она повидала и золотые купола Константинополя, и лабиринты каналов Венеции, а во Флоренцию прибыла вместе с мессером Донато. Собрав в кулак всю силу и гордость, настаивает лишь на одном: что она родилась свободной, как ветер и дикие звери, среди народа, чьим высшим благом является свобода. И ей невмоготу жить в рабстве, считаться имуществом, бездушной вещью. Случалось, к примеру, когда у нее отняли ребенка, она хотела умереть, и, возможно, однажды все-таки примет смерть по собственному выбору и от своей руки, поскольку эта крайность – единственный свободный поступок, что ей дозволен. Она перережет себе горло или спрыгнет с альтаны. Ведь у нее нет иного желания, кроме как снова обрести свободу и в этой свободе умереть.
Наконец вслед за словами начали снова сплетаться и наши руки, а после и наши тела стали говорить друг с другом на всеобщем языке, выходящем за пределы различий наречий и культур. На альтане рыцарского замка мы снова любили друг друга при свете дня, но не в томлении и вихре чувств, как в первый раз, а во всей полноте достигнутого понимания, абсолютного слияния сердец и желаний. Мы любили друг друга в настоящем, совершенном настоящем, не вспоминая о прошлом, не боясь и сознавая будущего. Катеринина любовь освободила меня от самого себя, дала мне силу и уверенность, сделала меня другим человеком.
Той золотой во всех смыслах осенью, 24 октября, умер Ванни, я был на его похоронах в Санта-Кроче, потом хлопотал об исполнении его завещания, хода которому, как я, впрочем, и предвидел, так и не дали. Но мне было все равно. Я думал только о Катерине.
В один прекрасный день Катерина поняла, что снова беременна. Мессер Кастеллани, с головой ушедший в свои книги и ткани, ничего не замечал, пока, убедившись, что скрывать живот Катерины уже не получится, я сам ему все не рассказал. Он, впрочем, ничуть не расстроился, напротив, сообщил, что симпатичный мальчишка, Никколо, которого я не раз видел носящимся по дому, тоже был подарен ему служанкой, еще до женитьбы на Лене. Каждая зарождающаяся жизнь – это вызов судьбе, попытка обставить мать-природу.
Но что нам теперь делать? Ведь Катерина принадлежит не ему, а монне Джиневре. Рыцарь, будучи нанимателем кормилицы, в не меньшей степени отвечал за возможную порчу имущества, случившуюся в его доме, в нашем случае – за новую беременность. Так не годится. Он не мог допустить, чтобы его честное имя было запятнано скандалом. Здесь, в замке, тайна будет сохранена, никто ничего не узнает. Монне Джиневре скажут лишь, что нужда в питательном молоке кормилицы еще сохраняется, поскольку малышка Мария никак не может от него отказаться. Но настанет время, когда нам придется уйти. Я должен буду забрать Катерину, чтобы она разрешилась от бремени в ином месте. Он в эти женские дела мешаться не собирается.
Так оно и вышло. Сообща мы пришли к твердому решению: дитя, что Катерина носила под сердцем, не будет брошено. В этом Катерина была непреклонна. Она подолгу молилась, прося у Всемогущего Господа лишь об одной милости, чтобы ребенок ее родился и жил свободным. Не важно, будет ли он разлучен с ней, только бы я не оставил его и воспитал как сына. Если же таковое возможно, она просила и еще об одной милости, чтобы я помог ей вернуть свободу и человеческое достоинство. Я поклялся, что сделаю все, лишь бы ее мечта сбылась, и в глубине души был уверен, что с помощью Господней и Девы Марии смогу этого добиться. Вот почему, избирая покровителя, дабы посвятить ему новую жизнь и умолять о свободе, мы остановились на святом Леонарде, освободителе узников, защитнике рабов, заключенных и рожениц. Наше дитя будет зваться Леонардой или Леонардо и станет символом свободы. Катерининой свободы.
2 апреля 1452 года, совершив долгое и утомительное из-за ее состояния путешествие в предоставленной рыцарем повозке, мы добрались почти до самого Винчи, точнее, до маслодавильни в Анкиано, где договорились встретиться с отцом. Эта встреча меня пугала. Отец еще ничего не знал. Я боялся, что он, возмущенный моим проступком, с позором выгонит меня из города, велев тащить свою шлюху-рабыню рожать где-нибудь в другом месте. Тогда нам обоим конец. Но случилось чудо. Старик с первого взгляда полюбил Катерину, а следом за ним и моя мать, и половина городка. И все старались помочь ей благополучно произвести на свет в этом маленьком деревенском домишке плод нашей любви. Мальчика, названного Леонардо.
Он родился поздно ночью, и вскоре после его появления на свет я уже шагал в сопровождении городского стражника в сторону Флоренции, где мне на следующее утро, 15 апреля 1452 года, предстояло заверить список капитанов. Не вышло и поприсутствовать на крещении, ставшем в Анкиано, как мне потом рассказали, большим и запоминающимся праздником. Как только смог, я вернулся в Винчи, куда переехали и Катерина с ребенком, поскольку в отцовском городском доме за ними было проще приглядывать. Катерина быстро оправилась, ее тело благодаря силе доброй крови немедленно откликнулась на зов матери-природы, и начала кормить малыша Леонардо грудью. Поселились они в той же комнате по соседству с родительской, где мы столько лет прожили детьми, где спали в одной огромной кровати, где я некогда пытался писать за низким столиком, пока Виоланта баюкала Франческино и завивала ему локоны, а Саладин, еще совсем котенок, мелким бесом прыгал вокруг. Мы с Виоланте давно покинули отчий дом, а Франческо, гордый своей новой ролью дядюшки, с радостью уступив место Катерине и племяннику Леонардо, отправился спать на кухню.
Бедняги Саладина давно не стало, он умер от старости, ушел в кошачий рай, несмотря на все свое лукавство и сарацинское прозвание; маленький рай, куда отправляются их маленькие души, место, о существовании которого мы, люди, даже не подозреваем. Но дедушка Антонио, которого называли теперь именно так, а не сером Антонио или стариной Антонио, уже обо всем подумал и все устроил. Едва войдя домой, я почувствовал, как между моих ног снова скользнул неуловимый черный бесенок. Там, где есть малыш, не может не быть кота, считал дед; на самом деле котов любил и он сам, ему было приятно, что они забираются поспать и помурчать на его закутанные в одеяло колени, поскольку дед теперь почти не вставал. Нового кота для краткости звали Секондо, Второй, полное же его имя было Саладин Второй.
Несмотря на все свое отвращение к котам, я был так счастлив, что гладил его и даже брал на руки, когда шел к Катерине. Она разрешала мне смотреть, как кормит Леонардо, и это были лучшие моменты в моей жизни. Между нами больше не могло быть той полной, безумной и свободной близости, как во Флоренции, и я знал, что ее уже никогда не будет. Но возникла иная, еще более прочная связь, не физическая, а духовная, и ею связало нас новое существо, что день ото дня, вскармливаемое Катерининым молоком, настоящим источником жизни, становилось все крепче и краше. Для меня, сидевшего рядом с ней в тишине, то было время молитвы иконе Богородицы, которую бабушка Лючия повесила над кроватью.
Во Флоренцию я вернулся 30 апреля по другому делу, но главным образом ради того, чтобы сообщить рыцарю обо всем, что случилось. И обнаружил, что его лицо, всегда чуть ироничное и саркастичное, на сей раз лучится чем-то вроде спокойного счастья. Монна Лена тоже была не похожа на себя, она вся светилась от радости и какой-то томности, отчего по большей части оставалась в постели, лелея или баюкая дочь. Как я позже узнал, в том же месяце, когда родился наш Леонардо, Господь благословил ее новой беременностью. Монна Лена знала о нас все и в полной мере одобрила решение защитить Катерину, отвезя в Винчи. И теперь они оба хотели поговорить со мной о ее будущем. Она должна остаться у моих родителей, восстанавливать силы и заботиться исключительно о ребенке. Они же возьмут на себя монну Джиневру, а когда придет время, дадут мне знать, что делать. Вероятно, мне придется хотя бы раз привезти Катерину с ребенком во Флоренцию, монне Лене не терпелось взять его на руки.
Мне как нотариусу доверили особую задачу, очень меня тронувшую: освобождение Катерины. Пришлось вернуться к учебе, к большой нотариальной книге, особенно к части, посвященной manumissio и emancipatio. Нужно было заняться подготовкой документа, а это оказалось не так просто, тем более что я еще никогда ничего подобного не делал. Юридическая традиция вообще-то восходит к римскому праву, но оно относится к древнеримскому обществу, где рабство регулировалось законами и, как правило, считалось временным: древние не задавались сложными богословскими вопросами, вроде того, есть ли у раба душа или нет. После воплощения Господа нашего его Евангелие донесло среди прочего весть об освобождении от рабства и цепей, но, увы, в последующие века, когда несколько крупных феодалов от имени императора получили абсолютную власть над землями своих вотчин и всем, что на них жило, росло и паслось, а следовательно, и людьми, оказавшимися не более чем рабами, все повернулось совсем иначе.
Раньше мы были рабами немногих важных господ, да-да, включая и предков моих стариков, живших до Микеле да Винчи, хотя от них не осталось даже имен, поскольку все они были не более чем невольниками. Двести лет назад власть синьоров была повержена, и наши города, а также деревни и городки вроде Винчи превратились в коммуны свободных людей. Но вскоре вернулся бесчеловечный обычай покупать и продавать людей, считая их подобными вещам или животным, низшими существами, лишенными души. Итак, мне предстояло найти верные формулировки, ведь этот документ станет самым важным в моей жизни. Это не освобождение какой-то там рабыни. Это освобождение моей Катерины. Матери моего сына.
Вот почему сегодня, 2 ноября 1452 года, я стою там, где все началось, в большой зале дома Донато ди Филиппо ди Сальвестро на виа ди Санто-Джильо.
Пока я один, но с минуты на минуту прибудут остальные. Имбревиатуру я уже заготовил, принес с собой и свиток пергамента, чтобы немедленно переписать текст in mundum и вручить его Катерине. Не хочу ни одной лишней минуты заставлять ее дожидаться свободы.
Входит монна Джиневра, ведя под руку старого Донато. Мы видимся уже не в первый раз, и теперь между нами нет неловкости. Месяц назад рыцарь Кателлани, успевший сходить на переговоры в надежде ее убедить, сообщил мне, что синьора наконец согласилась пустить в дом нотариуса. Больше ничего сказано не было, но я знал, что рыцарь заплатил за освобождение Катерины, не только погасив долг за наем кормилицы до дня подписания документа, но и добавив приличную сумму сверху. К тому же я прекрасно понимал, что для меня это не просто очередные переговоры. Это был экзамен, и куда более серьезный, чем те, что я держал на лицензию нотариуса. Монна Джиневра хотела взглянуть мне в лицо, увидеть, хватит ли у меня духу заговорить с ней, узнать, в самом ли деле я такой лицемерный негодяй, как она считает. И только тогда решать. Я обязан был с готовностью снести все, презрение, стыд, никак не ответив. Слишком уж высоки ставки. Это мой долг перед Катериной.
Да, в тот первый раз монна Джиневра была со мной крайне холодна. Мы не виделись три года, с того рокового лета. Но я сразу понял, что вопрос здесь не в мелочной корысти: она сердилась вовсе не потому, что я нанес ущерб ее собственности. Я недооценил ее. Она на самом деле любила Катерину. Почти как дочь – дочь, которой у них с Донато никогда не было. Может, монна Джиневра и вовсе не захочет с ней расстаться, а может, намерена освободить и выдать замуж, дав за ней небольшое приданое. Как я потом узнал, Катерина спасла Донато в самый трагический момент его жизни, именно она привела старика сюда, во Флоренцию, в объятия Джиневры, ожидавшей его целых пятнадцать лет. Смахивает на какой-то роман, хотя я точно знаю, что это случилось на самом деле. Ирония судьбы: ничтожная рабыня спасает богатого, сильного мужчину, возвращая ему жизнь и свободу. Но как решит монна Джиневра? Теперь все зависело от нее, от ее воли. А она способна на всякое. Может обвинить меня в том, что я соблазнил Катерину и она забеременела, причем не один раз, а дважды, а вдобавок похитил ее и увез в деревню. Ей вполне по силам навсегда погубить и меня, и Катерину, отомстить нам самым ужасным образом. Но монна Джиневра не стала этого делать, потому что любила свою рабыню.
Я же был для нее преступником, убийцей. И она заставила бы меня горько поплатиться, если бы только придумала, как это провернуть, не навредив Катерине и ее сыну. Она до смерти злилась на меня, главным образом за то, как я повел себя в первый раз, за то, что я просто-напросто сбежал, не набравшись духу подойти, поговорить с ней, взять ответственность на себя. Я же оставил их с Катериной самих разбираться с этой беременностью и этим ребенком, вынудил ее, монну Джиневру, лично, переодевшись служанкой, отнести его к Воспитательному дому и врать, что этот сверток – плод любви рабыни и некоего проезжего венецианца, так и не назвавшего своего имени. Монна Джиневра бросала мне эти обвинения так резко и грозно, что сердце мое пробирал смертельный холод от осознания, сколько пришлось перенести Катерине и как страдал малыш, которому выпала судьба родиться сиротой при живых отце и матери и столкнуться с тяготами жизни в совершенном одиночестве.
Впрочем, увидев, что я, полностью согласившись с ее словами, признаю вину, осознав, что слезы, катившиеся из моих покрасневших глаз, искренни, монна Джиневра понемногу смягчилась. Я ведь явился к ней вовсе не для того, чтобы избежать суровых последствий для моей жизни и карьеры, и теперь она это поняла. Возможно, случившееся с нами не так уж сильно отличалось от того, что произошло и с ней, тогда еще юной девушкой. Или виной тому всепобеждающая сила любви, стоящей выше людских законов, религии и рабских цепей. А может, когда-то давно она сама отдалась мужчине из одной только любви… В конце концов, чтобы выйти за своего Донато, ей пришлось ждать аж до сорока лет. Или она просто успела понять, что значит слово «свобода» и в чем его ценность, поскольку ей не раз, еще со времен девичества, когда она наотрез отказывалась, склонив голову, заключить устроенный семьей брак, случалось любыми способами отстаивать свою свободу в нашем обществе, где женщин считают низшими, слабыми существами, лишенными всяких прав, а то и вовсе неполноценными животными.
Монна Джиневра же, маленькая, пухлая и, увы, страдающая подагрой, своей силой и внутренней свободой вызывает лишь восхищение. Такие женщины совершают революции. Она практична, никогда не теряет здравого смысла и чувства меры, прекрасно понимая, что всему свое время. Пока я утирал слезы, она взяла меня за руку и сказала просто: «Выше нос, мессер нотариус. И не тяните с бумагами, суп остывает».
Пока не пришли остальные, я прошу монну Джиневру прочесть пункты соглашения, которые я подготовил, скрупулезно записывая все, что она мне говорила, дабы после перенести в имбревиатуру, extense vel saltem sub caeteris et imbreviaturis, nihili de essentialibus omittendo, а она внимательно следила за тем, что я пишу, поскольку не только умеет читать, но и знает латынь. Данные, касающиеся документа о происхождении, я не заполнял, впрочем, она велела на этом не останавливаться, этой бумаги у нее нет, и копий она не делала, ей ведь и в голову не могло прийти продать Катерину. Имени нотариуса она тоже не помнит, а тратить время на его поиски никто не станет; какая разница, кто продал рабыню и по какой цене, если нам прекрасно известно, что Катерину ей подарил Донато, а сам Донато приобрел ее в Венеции, хотя мы не знаем, как и у кого; неужто необходимо идти по этому следу и дальше, до Константинополя, до Таны, до туманной страны киммеров? Как найти бумагу, в которой написано: вот эта женщина была когда-то свободной, она родилась свободной, дочерью Всевышнего, но с сегодняшнего дня вдруг стала рабыней? Где началась эта цепочка преступлений против самой ее личности, эта грязная торговля телами и душами? Тут она хмурится, видно, что даже упоминать о подобных вещах ей противно. Я же совершенно не хочу ее расстраивать. «Ну и прекрасно, напишите только, что Катерина куплена много лет назад, не упоминая, у кого именно, и что она находится в моей исключительной собственности, и Донато к этому никакого отношения не имеет».
Подходят свидетели, двое приятелей, соседей по улице, похоже, ни о чем не подозревающие. Во дворе слышен какой-то шум – это из палаццо Кастеллани подъехала повозка, хозяин, разумеется, впереди, верхами. Сердце начинает биться чаще. Входит рыцарь, помогая монне Лене с ее животом, следом Катерина с Леонардо на руках, он тщательно укутан в одеяло, на голове фетровый чепчик, поскольку на улице похолодало и собирается дождь. К счастью, Леонардо спокойно посапывает, не то его, конечно, было бы слышно, наверное, Катерина покормила его перед выходом. Взгляды скрещиваются, острые, словно клинки. Особенно те, которыми обмениваются Джиневра и Катерина, они не виделись с того дня, как девушку увезли в дом Кастеллани. Катерина останавливается и, кажется, даже опускает глаза, но тут Джиневра встает, подходит к ней и обнимает – осторожно, чтобы не разбудить ребенка. На какой-то миг они застывают так, обнявшись, потом Джиневра возвращается на свой командный пункт.
Я начинаю зачитывать invocatio и datatio, включая полное указание года, индикта, дня и месяца: «In Dei nomine amen, anno ab eiusdem salutefera incarnatione millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo, indictione prima, et die…» – и тут понимаю, что неправильно записал день. И надо же было, чтобы именно я, человек, никогда не совершающий ошибок и буквально одержимый точностью дат, написал XXX, то есть тридцать римскими цифрами, mensis octobris, хотя сегодня уже 2 ноября, День мертвых. Немедленно исправляю цифры, безумно при этом смущаясь: мне еще ни разу не приходилось составлять договор, в котором я, хоть напрямую и не упомянутый, являлся бы не только нотариусом, но и одной из сторон. Продолжаю actum указанием места: в приходе Сан-Микеле-Висдомини, в присутствии свидетелей. Далее следует оговорка относительно главы семьи, поскольку монна Джиневра – женщина и, согласно варварскому лангобардскому праву, которому мы до сих пор столь безрассудно следуем, не может заключать сделок, не будучи уполномоченной своим синьором и господином, чью роль на протяжении жизни женщины может исполнять отец, муж или близкий родственник, но непременно мужчина. В случае Джиневры глава – ее муж Донато, тем временем уже играющий с волчком, принесенным Катериной для Леонардо.
Я зачитываю заявление Джиневры о ее законном и исключительном праве собственности на рабыню, предмет данного договора, определяемую как Катерина, дочь Якова, происхождения черкесского: filia Jacobi eius schlava seu serva de partibus Circassie. Джиневра заявляет, что имущество она приобрела de suis propriis pecuniis et denariis, до заключения брака с мессером Донато, который, таким образом, не имеет права владения или пользования рабыней, в то время как монна Джиневра имеет полную власть использовать, отчуждать, продавать ее и так далее. Кое-где мне попадаются на глаза и другие ошибки или пропущенные слова: хуже имбревиатуры я еще не составлял. Наконец, dispositio: здесь мое перо дрогнуло. Поскольку в течение нескольких лет и до сего дня вышеупомянутая рабыня Катерина верно и честно служила монне Джиневре и ее семье, монна Джиневра, желая выразить свою признательность, в здравом уме и твердой памяти, действуя не по ошибке, злобе или из страха, а исключительно ради любви Господней к себе, своим преемникам и наследникам, освобождает и отпускает из рабства означенную Катерину: liberavit et absolvit ab eius servitute.
Тут слышится ледяной голос монны Джиневры: мы кое-что упустили. Разумеется, говорю, я забыл вставить указание на личное присутствие и согласие выгодоприобретателя; вычеркиваю последнюю строчку, самую важную, вписываю presentem et acceptantem и готовлюсь писать заключение. Но Джиневра снова меня перебивает. Ей нужно не только. Она хочет внести еще одно conditio, о котором раньше никто из нас не знал, и тотчас же, при свидетелях, принимается диктовать мне его на латыни. Катерина обязуется служить Джиневре и ее семье до самой смерти хозяйки и только после этого, став по-настоящему свободной, сможет делать все, что дозволено свободной женщине, как если бы была рождена от христианки; если же Катерина станет вести себя дурно и неблагодарно по отношению к монне Джиневре, все вышеперечисленное будет отменено, и рабыня может быть отдана внаем или перепродана другим. Это весьма неприятный сюрприз, хотя на данный момент только мы с рыцарем, знающие латынь, понимаем это. Я непроизвольно вписываю все надлежащие ритуальные формулировки, но сердце мое обратилось в лед. Джиневра передумала: раз она так стремится удержать Катерину, то явно не собирается ее отпускать. Но именно она сдает в этой игре карты, именно она властвует над нашими жизнями. О ребенке не сказано ничего. Он уже свободен, поскольку наследует социальное положение отца. Я должен буду забрать его, как того требует закон.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































