Текст книги "Улыбка Катерины. История матери Леонардо"
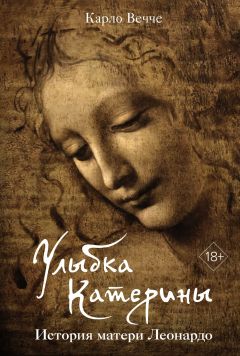
Автор книги: Карло Вечче
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 34 страниц)
Все дело в том, что одно процветавшее в Венеции ремесло, основанное как раз на обработке золота и серебра, во Флоренции известно еще не было. Немного удачи – и я, особенно не рискуя, мог бы преуспеть на этом поприще, а после вернуться богатым, увенчанным лаврами и золотом, во Флоренцию, в мой обожаемый Сан-Джованни, и никогда более не заниматься спекуляциями, ростовщичеством и прочими делишками, способными погубить как душу мою, так и голову. По соседству с мастерскими ювелиров обосновались золотобиты, мастера особого толка, точными ударами тяжелых молотов перековывавшие слитки во все более тонкую фольгу, которая в конечном итоге превращалась в тончайшие листочки сусального золота, такие легкие, что в комнате приходится заделывать все щели, чтобы их не унесло ветром. Подмастерья, выбранные за острый глаз и твердость руки, разрезали эти листочки ножницами на идеальные квадраты. Оглушенный и завороженный стуком молотов и молоточков, я во все глаза глядел на золотобитов: чтобы не сломать и не порвать тонкую фольгу, они каждое свое движение наполняли не силой или мощью, а чуткостью, почти нежностью, словно мановение рук Создателя, вселяющего душу в бесформенную материю. И сусальное золото в самом деле казалось живым, готовым дрожать и трепетать от любого дуновения, как шелковистая кожа женской шейки за миг до поцелуя.
Вот тут-то на передний план и выходят женщины, являющиеся, по моему скромному мнению, истинным и абсолютным фундаментом человеческого общества, экономики и жизни в целом. Они претендуют на эту честь с куда большим основанием, нежели мы, мужчины, хвастающие тем, что идем на войну и убиваем друг друга, вмешиваемся в дела магистратов, правительств и цехов, всегда делаем только то, что нам нравится и как нам нравится, ходим куда вздумается, многое видим и слышим, ловим силками птиц, охотимся, рыбачим, ездим верхом, играем в азартные игры, торгуем… И верим, будто женщины от природы ниже нас, ибо, ipse dixit[65]65
Как сказал (лат.).
[Закрыть] Аристотель, mulier animai imperfectum[66]66
Женщина – это неполноценный мужчина (лат.).
[Закрыть]. Да и наша святая мать-Церковь, приводя в пример Еву, учит, что женщине должно подчиняться, прислуживать, доставлять нам удовольствие, когда мы, мужчины, того восхотим, быть плодовитыми, рожать и воспитывать детей, становясь пленницами в собственных каморках, ограничивать себя в желаниях и удовольствиях велениями отцов, матерей, братьев и мужей.
Но нет, ни Аристотель, ни даже сама святая мать-Церковь не поняли, что написано в Евангелиях. А вот я за свою жизнь не раз замечал, что лишь благодаря женскому труду колымага нашего мира по-прежнему тащится вперед. Новообретенное богатство Старших цехов, ткачей шерсти и шелка, революция, изменившая наши города и деревни после столетий застоя и рабства, перенесшая нас во время, вызывающее у многих иллюзию возрождения, – все это зиждется на труде тысяч и тысяч женщин, что без устали прядут и ткут: при помощи веретена, прялки, сучильной машины, мотовила и ткацкого станка, дома и на прядильных фабриках, по заказу цехов или множества других предприятий, более скромных, даже семейных.
Более того, здесь, в Венеции, наших воротах на Восток, женщины возродили искусство, пришедшее, как и ткачество шелка, издалека, из Константинополя и его дальних пределов, Персии, Индии, а может, даже из Гаттайо: златоткачество. Золотобиты передают драгоценные золотые и серебряные листы мастерицам-прядильщицам, которые, почти не дыша, с бесконечным терпением навивают их на шелковые нити. Затем золотые и серебряные нити переходят к мастерицам-ткачихам, вручную или на станках вплетающим их в заранее подготовленную основу тончайшего шелка, создавая великолепный атлас, парчу и дамаст, изукрашенные стилизованными фигурами сказочных животных, листьями, цветами, узелками. Рисунки эти в Венеции тоже создают женщины, причем с исключительным мастерством.
Да и среди предпринимателей, пожалуй, лучшие, самые внимательные и чуткие – женщины. Я таких повидал немало, и большинство из них никак не назовешь забитыми: напротив, они смелы и готовы на все ради выгоды. Помню одну вдову по имени Лючия, заработавшую, кстати, прозвище Ab auro, Золотце: научившись писать и считать, она скупала у золотобитов дешевое сусальное золото, а затем отдавала вместе с шелком своим рабыням. Их она покупала во множестве по нотариальным актам, а через некоторое время освобождала, назначая долю прибыли, хотя, конечно, и не равную своей. Так они работали гораздо лучше и усерднее: особенно выделялась бывшая рабыня-черкешенка, Бенвеньюда да ла Тана. Была еще эта ушлая Паска Дзантани, муж которой, далматский купец, предоставил ей полную свободу действий, но не деньги. Вынужденная справляться сама, Паска направо и налево залезала в долги, которые, однако, скрупулезно отдавала с огромных барышей, приносимых ее искусством. Со временем эта сеть расширилась за счет других дам, обычно богатых вдов из аристократических семейств, доверявших ей деньги в качестве инвестиций, и прочих, которым она эти деньги ссужала. Невероятная женщина, цепкая, несгибаемая. Даже мне в те годы случалось оказаться у нее в долгу.
14 июня 1414 года я получил гражданство de extra[67]67
Расширенное (лат.).
[Закрыть] со свинцовой печатью и правом пятнадцатилетнего проживания в Санта-Марине, ограниченного разве что запретом на морскую торговлю, а два года спустя заключил с четырьмя партнерами четырехлетний pactum[68]68
Соглашение (лат.).
[Закрыть] о создании фабрики по отделению золота от серебра и аффинажа драгоценных металлов. Таким образом, в моем распоряжении оказалось аж две золотобитни, или, как их еще называли, златодельни: в одной, приобретенной на паях с банкиром Франческо ди Леонардо Приули, под началом маэстро Якопо Бональди трудились сразу четверо рабочих, четверо подмастерьев и несколько мастериц, которые, сидя по домам, пряли золотую нить; другой руководил маэстро Николо Муссолино. Несколько лет спустя, с 1424 по 1427 год, я взял управляющим все того же Доменико. Мы по-прежнему переплавляли металл для Монетного двора, предпочитая крупные, на сотни килограммов и тысячи дукатов, слитки серебра: можно сказать, распределяли депозиты клиентов банков Приули и Миорати с его партнером Николо Кокко.
К тому времени я уже стал именоваться bancherius in Rivoalto[69]69
Банкиром Риальто (лат.).
[Закрыть] или даже argentarius[70]70
Банкиром-депозитарием (лат.).
[Закрыть]. Между тем дефицит серебряных слитков только усилился из-за начавшейся войны между Венецией и Сигизмундом за контроль над Фриули, владениями Аквилейского патриарха, окончательно завоеванными Светлейшей к 1420 году. Сигизмунд в ответ перекрыл поток серебра, идущий из Центральной Европы, но я нашел способ обойти это препятствие, наладив отношения с банкиром Якопо Бомбени и его сыном Лодовико, тоже флорентийцами по происхождению, проживающими как раз во Фриули, а следовательно, имеющими возможность заполучить партию-другую драгоценного металла, проскочив между враждующими армиями.
При их содействии я вступил в контакт с сыновьями одного меховщика из Портогруаро, внезапно обретшими невероятное богатство и влияние благодаря их брату, патриарху и князю Аквилеи, его высокопреосвященству кардиналу Антонио Панцьере, который после бегства из своих владений преспокойно наедал бока при папском дворе, в то время как его братья, наградившие себя купленным титулом графов-палатинов, по-прежнему хозяйничали в опустошенном наемной солдатней Фриули. И случилось так, что в обмен на солидные вложения в предприятие и огромную партию серебра я в 1420 году оказался женат на племяннице патриарха, бледной, до смерти перепуганной девушке-фриуланке по имени Кьяра. Менее чем через год она подарила мне сына, которого я, как и обещал, ни минуты не сомневаясь, нарек именем благодетеля, без чьей помощи никогда не получил бы гражданство de gratia: разумеется, Себастьяно.
Бедняжку Кьяру я ни разу не видел, пока алчные родители и дяди не отдали мне ее в день свадьбы, однако всегда уважал, относясь с подобающим вниманием и даже состраданием. Вот только чувств к ней, любви у меня не было. До того времени я не заводил женщины, поскольку хотел оставаться свободным сам и не желал ограничивать свободу других. Я уже говорил, что никогда не считал женщин существами низшего порядка, напротив, всегда восхищался их внутренней силой, умом, смекалкой, намного превосходящими, как я бесчисленное множество раз имел возможность убедиться, наши, мужские.
Прочитанный еще мальчишкой «Декамерон», рукопись которого, если верить отцу, подарил ему сам автор, собственной рукой украсивший ее изысканными рисунками, стал для меня лишь подтверждением интуитивно понятного факта: там, в «Декамероне», были настоящие женщины, а не бесплотные ангелочки вроде монны Биче и монны Лауры, о которых грезили поэты. Ведь даже поэты, когда хотят по-настоящему заняться любовью, бегут к существам из плоти и крови, монне Боне и монне Пиппе. Однако же в «Корбаччо» и «О знаменитых женщинах»[71]71
«Корбаччо» (1354–1355) – сатирическая поэма Джованни Боккаччо, направленная против женщин. «О знаменитых женщинах» (1361–1362) – его же незаконченное произведение, включающее в себя 106 женских биографий, от Евы до королевы Иоанны Неаполитанской.
[Закрыть]я читал истории прямо противоположного толка и, не желая становиться хозяином женщины, решил также не становиться и ее рабом, а посему ограничивался лишь регулярным посещением района Кастеллетто, что лежит сразу за Сан-Якомето, поскольку между большими деньгами и древнейшей профессией всегда существовала тайная связь. У моста Риальто есть несколько старых, жмущихся друг к другу высоких домов, выходящих на Гранд-канал; тесные домишки на еще более тесных улочках, входы в которые охраняет, а по вечерам и закрывает стража, блюдущая общественную мораль и благовоспитанность. Как-то в субботу, увидев там девушку в ярко-желтом наряде и под вуалью, идущую к мессе в церковь Сан-Маттео, я последовал за ней и с тех пор, вот уже более пятнадцати лет, продолжаю ее посещать.
Ее звали Луче, именно так, Луче, а не Лючия. До чего же роскошная женщина! Когда она принимала меня в своей комнатке на верхнем этаже, ее глаза загорались, словно звезды. Золотой цехин – и оба мы свободны делать, думать и говорить все, что нам заблагорассудится. Какой красивый был у нее голос, как чудесно она пела, аккомпанируя себе на лютне! Я все ей рассказывал, во всем доверялся. Только мне она дарила право тайком оставаться на ночь, когда стража закрывала ворота Кастеллетто. Лестница, располагавшаяся между ее огромной, занавешенной пологом кроватью и расписным столиком с золоченым зеркалом, вела из комнатки на альтану[72]72
Альтана – в Венеции терраса на крыше.
[Закрыть], где она развешивала для просушки белье, широкие белые простыни и короткие рубахи почти прозрачного шелка.
Луче безумно любила слушать, как я пересказываю вычитанные в книгах истории о девах-воительницах, принцах, рыцарях, любви и мечах, невероятных обманах или даже просто шутки. Говорила, что мой забавный венецианский с явным флорентийским акцентом придает мне еще больше очарования, и, случалось, не дав закончить рассказа, требовала начать сначала. Прекрасно сознавая свое положение, она ни о чем меня не просила; лишь однажды поверила свою мечту: оставить такую жизнь, родить от меня дочь, – но после уже не вспоминала об этом. Оттуда, с альтаны, я летними вечерами, после занятий любовью, не раз созерцал видневшийся меж широких труб в широкополых шляпах, как у византийских князей, Большой канал и все крыши, все колокольни Венеции. О бедной Кьяре и маленьком Себастьяно я, к сожалению, в такие моменты совсем не думал.
Казалось, дела идут все лучше. Венеция процветала под мудрым руководством старика-дожа Мочениго, который не только завоевал Фриули, но и нацелился на другие материковые земли. Он восхвалял империю, построенную на деньгах, а следовательно, действовал в моих интересах. Женившись на дочери графа-палатина, я и сам почти превратился в аристократа: купил дом, обошедшийся мне в тысячу дукатов, две мастерских за двести пятьдесят, несколько домишек поменьше, приносивших чистых двести тридцать дукатов в год. И сказал себе: душа моя, теперь можешь отдыхать, есть, пить и веселиться. Dixit insipiens in corde suo[73]73
Сказал безумец в сердце своем[: «нет Бога»] (лат., Пс 13:2, Пс 52:2).
[Закрыть]. Тогда-то Бог и наказал меня за глупость, ввергнув в бездну.
Дож умер, был избран другой, похуже. Войны теперь не прекращались, кредитные пузыри лопались, ликвидность падала, банки разорялись один за другим. В 1424 году до меня из Флоренции дошло известие о смерти отца: я не слишком по нему плакал. Куда больше меня потряс звук другого погребального колокола, звонившего по моему давнему партнеру Миорати: тот скончался 31 августа, составив образцовое завещание, в котором запрещал бессмысленные траты на похороны. Гроб должны были сопровождать только приходские священники и четыре свечника, поскольку все эти погребальные пышности (как он продиктовал нотариусу, а я затем прочел на пергаменте) суть вздор и суета, пустой перевод монеты, так пусть лучше эта монета достанется бедным сиротам. Проблема заключалась в том, что сиротами, погрязшими в долгах, он оставил нас, своих партнеров. Дело в том, что в последние годы жизни старый добрый Миорати поиздержался на неудачных инвестициях, ради которых даже ездил в Англию и Ромею, а галеи и нефы, отправленные им под командой сына Раньери в Тану, потерпели кораблекрушение или были разграблены пиратами. Потери оказались колоссальными: речь шла о сотнях тысяч дукатов. Оставшийся в живых партнер Миорати, Кокко, решил закрыть дело и передал бухгалтерские книги в Торговое консульство, а уже 12 марта предприятие окончательно объявило о банкротстве.
Это стало началом конца. В апреле 1427 года настал мой черед разориться, долги составили четыре тысячи дукатов. Оставив семью, я бежал во Флоренцию, где, не слишком допекаемый кредиторами, коротал время в ожидании охранной грамоты, надеясь вскорости вернуться в Венецию и восстановить контроль над мастерскими. Дела я оставил на старого доброго Доменико ди Мазино. А тот, оказавшись в итоге ненамного добрее своего дяди-убийцы, подал на меня в суд, и мне, чтобы не уступить его вздорным требованиям, пришлось вдобавок выдержать весьма болезненное разбирательство.
У меня между тем хватало забот и во Флоренции: я был вынужден заниматься вопросами отцовского наследства; закрытием его столярной мастерской; арендной платой за половину дома во Флоренции и имения в Теренцано; долгом моей невестки, монны Сальвестры, ни разу не вносившей платы за свою половину; двумя сотнями флоринов в банке, завещанных вдове Антонии, которых я даже тронуть не мог; разборками с аптекарем, дававшим отцу в долг; непростой ситуацией с побегом последней отцовской жены, Катерины, которая сразу после похорон ушла из дома с новым хахалем, забрав с собой всю домашнюю утварь, десятки фунтов чесаного льна, пакли и суровой пряжи, несколько четвериков зерна и муки, дрова, старый черный халат, шестнадцать бочонков вина и даже сапоги моего покойного родителя, должно быть пришедшиеся по ноге Катерининому хахалю. Всего этого мне, разумеется, не суждено было больше увидеть.
Во Флоренцию я по иронии судьбы вернулся в самый неподходящий момент, когда жизнь встала с ног на голову и люди вроде меня могли лишиться всего, оставшись вдруг несостоятельными должниками. Год 1427-й принес с собой серьезнейшую опасность: введение кадастра, в котором каждый флорентиец под страхом лишения гражданских прав, или того хуже, обязан был задекларировать все свое имущество и доходы, а также заплатить на эти доходы налог, даже если работал за границей. Для меня это стало еще одним ударом: вот только налогов и не хватало.
В общей декларации от имени наследников Филиппо ди Сальвестро Нати, столяра, составленной по просьбе моей сестры писцом, ясно говорилось, что сын сказанного Филиппо, именем Донато, вот уже 40 или более лет находится со всем своим имуществом и семьей в Винеджии. Я же, со своей стороны, 8 августа отдельно подготовил декларацию состояния моего, Донадо ди Филиппо Нати, находящегося в Винексии. Прекрасно помню тот миг, когда, подняв перо, впервые осознал, даже не успев еще оформить эту мысль своим четким купеческим почерком, что я уже не флорентиец, а винексианец. С чего бы иначе мне писать Винексия, а не Винеджия, как говорят во Флоренции? Или Донадо, а не Донато? Но тридцать лет спустя это как раз и стало правдой; я будто хотел сказать чиновникам флорентийского кадастра: оставьте меня в покое, я теперь винексианец, какого черта мне платить налоги во Флоренции?
На двух страничках, практически в разворот, словно двойной банковской записью, я составил безжалостный список своих долгов с именами всех тех, кого я считал друзьями; и напротив – столь же безжалостный список кредитов, то есть денег, которые одалживал направо и налево и которые теперь тоже мог считать потерянными, унесенными ветром, как любые другие клочки бумаги. Там было все: на дебетовой стороне, не считая Приули, еще и этот мерзкий пройдоха Доменико, утверждавший, будто я ему должен, и арендная плата за златодельню и дом; а на кредитной – женщины, которым я по доброте душевной одолжил целую гору денег, включая и мать Кьяры, вероломную мадонну Марию Панцьеру; было здесь и множество венецианцев знатного рода, но с дырой в кармане: Дона, Мочениго, Барбаро и так далее, сплошь несостоятельные должники, с коих невозможно взять ничего, поелику они разорены. А в конце – всего одна строчка, напоминание о моей несчастной семье, моей бедной Кьяре, моем бедном Бастиане: 5 ртов на иждивении, дополнительные издержки. Кто бы еще оплатил эти проклятые издержки?
Я возвращаюсь в Венецию, твердо решив не сдаваться и вернуть себе хотя бы золотобитню. Но меня ждет новый, еще более страшный удар: на сей раз Приули, совладельцы моей мастерской. Они выкарабкались в 1425-м, после первого кризиса неплатежеспособности, но в понедельник, 12 сентября 1429 года, когда в банк хлынули орды разгневанных вкладчиков, обнаруживших, что после отправки галей в Ромею они лишились наличных, стало ясно: Приули не удержаться. О банкротстве объявляют через две недели при долгах на чудовищную сумму сто тысяч дукатов. Поговаривают, Риальто осиротел, словно дитя без отца, без матери. Красивая метафора, что спорить, но на самом-то деле сирота здесь я, потрясенный, как и все прочие, изъятием товаров со складов и счетных книг, конфискованных магистратами. Настоящая катастрофа, усугубленная нехваткой серебра и привычной уже войной с герцогом Миланским, обратившейся в войну денежную, поскольку герцогу пришла в голову дьявольская идея наводнить Италию низкопробными монетами, тем самым фактически заставив исчезнуть венецианскую валюту с целью скупки последней и принуждения Светлейшей к девальвации. Полный крах.
Я снова разоряюсь, снова бегу, потом возвращаюсь и опять пытаюсь подняться; унижаясь, прошу взаймы налево и направо, включая и ненавистных шуринов Панцьера, хотя после того, как я обошелся с их племянницей, они и видеть меня не хотят: еще бы, сговорили свое сокровище за банкира с самыми блестящими, по их мнению, перспективами, а он оказался не более чем заурядным проходимцем. Одна только Кьяра, добрая, терпеливая, не срывается на мне, хотя я уже не раз пропадал на несколько дней. Должно быть, ей известно, что я скрываюсь у Луче, ради которой уже много лет подряд оставляю ее постель и ее тело.
Даже старуха Паска и та в деле: решила перехватить мою золотобитню, но вскоре ее тоже начинают преследовать неудачи, и она предстает перед судом, разыгрывая жалостливую партию бедной женщины, одинокой и всеми покинутой, что вечно борется за жизнь и вот решила немного наварить на этой мастерской. Бедная женщина, как же! Кто здесь на самом деле одинокий и покинутый, к тому же оставшийся с носом, так это я, человек, который столько лет работал и тешил себя иллюзией, что добьется успеха.
Случившееся не прошло для меня даром. Но нужно держаться. Мне почти шестьдесят, и хвала Всевышнему хотя бы за это, годы не давят: напротив, люди говорят, что я выгляжу лет на сорок. Болезни обходят меня стороной: еще бы, всю жизнь в работе, всю жизнь в движении. Но мне нужно содержать семью, терпеливо снося критику и наветы клятой фриульской родни, то и дело предлагающей Кьяре бросить меня и вернуться в их замок в Дзопполо, забрав с собой и сына – моего сына, нашего Бастиана! Их послушать, так лучше бы мне катиться к черту и сдохнуть в одиночестве в доме призрения, и чем скорее, тем лучше, чтобы они успели прибрать к рукам остатки имущества, прежде чем его отдадут за долги. Кончилось все хуже некуда. Когда в 1433 году вся флорентийская община в Венеции восторженно приветствовала Козимо Медичи, что явился изгнанником, но благодаря флоринам его банка был принят как посол или князь, я один остался сидеть взаперти в собственном доме, боясь выйти на улицу, лишь бы ненароком не попасться на глаза заимодавцу, к величайшему стыду Кьяры и нашего сына, вынужденных наблюдать за происходящим в окно.
В итоге неизбежное все-таки происходит: в 1435 году меня за долги бросают в тюрьму Пьомби. И выхожу я только благодаря посредничеству сыновей достопочтенного Себастьяно Бадоера, да упокоит Господь его душу: сенатора Иеронимо и в первую очередь младшего брата Якомо, который, к удаче моей или по замыслу божественного провидения, что сперва повергает тебя в прах, а затем поднимает сокрушенным и раскаивающимся, как раз и оказывается адвокатом трибунала при Совете сорока. Листая дело, он обнаружил, что под моим скромным прошением о венецианском гражданстве стоит подпись его отца, а ведь подпись Бадоера гарантирует, что подсудимый не может быть преступником. Avogador ad curiam forestieri, некий мессер Иосафат Барбаро, также высказался за снисхождение к бедняге, флорентийскому эмигранту, который всю свою жизнь только и делал, что усердно трудился на общее благо, а не ради собственного обогащения, каковой факт засвидетельствован многочисленными достойными доверия свидетелями, однако подвергся несправедливому преследованию и был признан виновным в преступлениях, в коих он является не исполнителем, а главным потерпевшим, и т. д. и т. п. Добрые и честные люди, мессер Якомо и мессер Иосафат, лично меня не зная, по собственному почину встали на мою защиту, так что их даже не пришлось подмазывать манзарией. К несчастью, у меня не было возможности их отблагодарить, поскольку оба отплыли в Левант – по важным делам, разумеется.
Жизнь моя, несмотря на освобождение из тюрьмы, не улучшилась. Я перебиваюсь крохотными кредитами, а стоит снова завести разговор о займах покрупнее на открытие мастерской, все только отмахиваются, не желая их мне предоставлять. В 1439 году я ненадолго съездил во Флоренцию, поскольку был избран в совет плотницкого цеха, куда мне пришлось вернуться после краха карьеры кампсора, а также и для того, чтобы прояснить кое-какие моменты с налоговым ведомством, которое все эти годы продолжает заваливать меня требованиями всяческих разъяснений, хотя я так и не понимаю, в каких грехах меня обвиняют. Едва срок моих полномочий истекает, я немедленно возвращаюсь в Венецию, не желая оставлять Кьяру соломенной вдовой. Столько лет прошло, остались только мы вдвоем. Теперь я не могу даже искать утешения у Луче, которой время от времени изливал душу: мне рассказали, что, пока я был в тюрьме, она умерла на «острове шлюх», в августинском монастыре святых Христофора и Гонория, основанном братом Симонетто да Камерино. Да смилостивится Господь над ее душой, грешной, но открытой, честной и полной радости; найдя последний приют у добрых монахов, она, несомненно, посвятила себя Деве Марии и отныне пребудет в Раю или, по крайней мере, в не самом печальном уголке чистилища.
С Кьярой я больше не говорю, но вечно чувствую на себе ее безмолвный взгляд, такой же леденящий, как и обвинение, что она могла бы мне предъявить; и это справедливо, ведь моя жизнь рухнула, утянув за собой и ее. Сын, которого я так давно не видел, разумеется, на стороне матери. Сейчас ему, должно быть, уже двадцать, и он, похоже, считает отца чем-то вроде семейной кары, питая ко мне искреннюю и неугасимую ненависть, подогреваемую фриульской родней. Дяди, приютившие его, только рады возможности вызвать мое недовольство: они берут мальчика охотиться верхом или с луком в руках на узких лодках-сандоло в лагуне Марано, тешат иллюзией аристократической жизни. А я – пленник в съемном доме на набережной, фондаменте де ла Тана, у дальнего края Арсенальных стен, ведь для того, чтобы расплатиться с долгами, мне пришлось продать все подчистую.
По крайней мере, удалось спасти кое-какую утварь и инструменты из старой мастерской, прежде чем Паска запустила в нее когти, а прялку и ткацкий станок я доверил Кьяре, и теперь она с двумя девчушками ткет парчу из льна и соломенного, то есть фальшивого золота: дешевые, но прекрасно выглядящие ткани, которые я могу продавать женам рыбников и зеленщиков с рынка на кампо де ла Тана.
А пару дней назад, наблюдая с берега за возвращением из Ромеи празднично украшенных республиканских галер, я вдруг замечаю, как выбирается из баркаса галеры «Гритта» мессер Якомо Бадоер. Боже, как он постарел! Сходит, шатаясь, по мосткам, за ним – бойкий юноша, две очумело глядящие высокие девушки, смахивающие на рабынь, каких обычно привозят из Таны, и здоровяк-раб, нагруженный невероятным множеством мешков и сундуков. В толпе и общей суматохе я больше ничего не успеваю увидеть, но сразу решаю: во имя той преданности, что я питаю к Бадоерам и особенно блаженной памяти мессеру Себастьяно, да упокоит Господь его душу, непременно схожу в ближайшее время в палаццо Бадоер, чтобы выразить мессеру Якомо всю свою благодарность за то дельце в 1435 году. А может, заодно попрошу о крохотном займе, который позволил бы мне снова открыть золотобитню и возродить златоткачество.
И вот сегодня, 26 апреля 1440 года, я, сжимая в руке шапку, стою посреди приемной залы палаццо Бадоер.
Меня заставляют ждать, это дурной знак. Мессер Якомо никогда подобным не отличался, он человек прямолинейный, но обходительный: принимал меня немедленно, потом мы гуляли в саду за домом, он с удовольствием слушал мои рассказы и просил лишь не прятать флорентийский акцент. Однако сегодня кругом тишина. Только трели соловья в саду да аромат роз, уже начинающих цвести по весне. Странно, что никого нет. День и время – как раз те, что сообщил мне слуга из дома Бадоеров в ответ на просьбу о встрече: первый вторник после праздника Сан-Марко, в третьем часу. Но колокола Сан-Дзаниполо уже давно отзвонили. Впрочем, как известно, важные господа имеют привычку заставлять себя ждать. В предвкушении прохаживаюсь по коридору в направлении сада. Особенно меня привлекает чудный розарий, где я срываю восхитительный красный бутон-боколо, чтобы лучше насладиться его ароматом. Какое совпадение: праздник боколи был буквально вчера.
Тут-то меня и застает достопочтенный мессер Иеронимо, бесшумно возникающий словно бы из ниоткуда. На нем такая же алая мантия, какую, помнится, носил его отец, и такие же кольца на пальцах. Покровительственным жестом он приглашает меня следовать за собой в залу на втором этаже, вверх по монументальной лестнице: он впереди, я сзади. Зала совсем не изменилась: те же восточные ковры на стенах, серебряные канделябры на широком, массивном столе, где теперь лежит развернутая карта мира и несколько раскрытых счетных книг, меж листов которых вставлено бесчисленное множество клочков бумаги, словно книги эти подвергались тщательной перекрестной проверке.
Достопочтенный мессер садится в гигантское курульное кресло во главе стола и ждет, пока я заговорю. Сам явно человек немногословный. Даже сесть не предложил, да и не на что, вокруг стола пусто, только вон там, в глубине комнаты, стоит скамеечка для ног, но не могу же я, повернувшись к светлейшему спиной, за ней сходить, так что остаюсь стоять. Чертов паяц, поглядел бы я на тебя лет двадцать назад, когда ты разговаривал бы с настоящим богачом и зятем графа-палатина! Ладно, спокойнее, приступим.
Я здесь не только по причине давней преданности, каковую питаю и всегда буду питать к памяти его достопочтенного синьора отца, мессера Себастьяно, царствие ему небесное; нет, мне хотелось бы также лично выразить глубочайшую благодарность его достопочтенному брату, мессеру Якомо, не забыв, разумеется, и достопочтенного здесь присутствующего, за то что его брат, avogador светлейшего и прозорливейшего Совета сорока, сделал для разрешения моего дела в 1435 году. На этом я останавливаюсь, избегая упоминаний о том аде, который пережил: тюрьме Пьомби и ее стенах, сочащихся влагой и болью, о пыточных камерах в несмываемых брызгах запекшейся крови…
Долг, исключительно долг, обрывает меня достопочтенный синьор. По укоренившейся традиции их семья всегда ставила благо Республики и честность ее магистратов выше любых личных интересов: если его брат защитил меня и вытащил из этой гнусной дыры, да-да, именно так и сказал этот утонченный аристократ, из этой гнусной дыры, подходящего места для тех отвратительных типов, что своими махинациями осмеливаются бросить вызов святости государства… что ж, его брат, должно быть, сделал это исключительно в силу долга и из любви к справедливости, безо всякого личного интереса. И благодарить его не стоит, поскольку добродетель в благодарности не нуждается.
Но где же его синьор брат? Мне хотелось бы поздороваться с ним лично: я ведь видел, как он сошел с галеры «Гритта», и считал, что с причала Якомо вернулся домой, в Ка-Бадоер. А это больше не его дом, объясняет достопочтенный синьор. Сойдя на берег, Якомо тотчас же уехал: по настоянию старшего брата, который, обнаружив у него лихорадку и жар после долгого морского путешествия и опасаясь за его здоровье, разумеется, незамедлительно отправил Якомо на виллу на материке, где тот под чутким присмотром пары слуг и хирурга несомненно сможет в кратчайшие сроки поправить здоровье. Да-да, кратчайшие, поскольку по возвращении его ждут великие дела, подготовленные бесконечно любящим братом: выгодный новый брак с дочерью покойного Антонио Моро, некогда одного из богатейших людей Венеции, составившего ей солидное приданое, чтобы на этой старой деве хоть кто-то наконец женился; а после благополучная и весьма прибыльная служба в качестве подесты Бассано.
Сказочка о необходимости срочного отдыха меня нисколько не убеждает. Есть тысяча причин подозревать, что этот Каин-Иеронимо замыслил сыграть со своим братом, несчастным Авелем, скверную шутку и по каким-то темным мотивам, семейным, политическим или коммерческим, заточил его на вилле под строжайшей охраной. Но что тут остается сказать, кроме как поздравить Якомо и рассыпаться в заверениях, что я бесконечно доволен добрыми вестями о его блестящем будущем? А что могло быть лучшим подарком для меня, одного из лучших в городе производителей шелковой и золотой парчи, чем изготовить для мессера Якомо и его будущей невесты самые чудесные ткани из всех, что мне когда-либо приходилось ткать? Конечно, если бы щедрая рука моего достопочтенного покровителя и защитника предоставила мне средства на восстановление старой мастерской, да-да, лишь бы только иметь возможность снова взяться за работу, и, может, предоставила небольшой заем и совсем крохотный каведал, ровнешенько на первичную закупку шелка-сырца или полуфабриката, а также золота и серебра в слитках и прутках или даже в бывших в употреблении предметах, ведь избавить их от примесей до идеальной чистоты мне не составит труда… Что стоит, да-да, что стоит такому достопочтенного синьору, как мессер Иеронимо, во имя светлой памяти его незабвенного родителя, достопочтенного мессера Себастьяно, устроить столь незначительную ссуду?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































