Текст книги "Улыбка Катерины. История матери Леонардо"
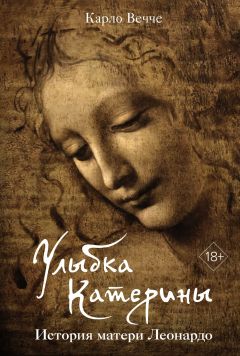
Автор книги: Карло Вечче
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 32 (всего у книги 34 страниц)
Однажды мне удалось поработать над трупом беременной женщины, внутри которой еще находился ребенок, также умерший еще до рождения. Женщина скончалась несколькими часами ранее, но не во время родов, а от внезапной остановки сердца, и труп находился в идеальном состоянии. Она была рабыней, забеременевшей неизвестно от кого, а неизвестный мужчина, доставивший ее в больницу уже мертвой, тотчас сбежал. Тело не принадлежало никому, с ним можно было делать все что заблагорассудится. Снова та же история. История Катерины. И моя собственная. Рука со скальпелем дрожала от страха нарушить тайну, хранителем которой мог быть лишь сам Создатель. Я постарался зарисовать то, что увидел, ребенка, свернувшегося калачиком, будто осознанно подобрав под себя ручки и ножки, в этом узеньком водном мире, теперь сухом и вскрытом, как яйцо. Со всей возможной осторожностью, как если бы он был еще жив, я раздвинул три тонкие пленочки, похожие на прозрачные шелковые саваны, и достал ребенка. Застыв в неподвижности смерти, он по-прежнему подгибал под себя ручки, ножки с крохотными ступнями, как не успевший распуститься цветок. Таким же сжатым в комочек был в утробе Катерины и я. Раскрыть его у меня попросту не хватило духу. Именно тогда я и уверился, что душу в это существо, ушедшее в небытие, даже не успев осознать собственного существования, вселила душа его матери, сперва сложив внутри матки человеческое тело, а затем, в надлежащее время, пробудив и душу, прежде спавшую, словно находясь под незримой опекой. Обоими телами управляла одна душа, и все желания, все страхи и боли матери равно испытывало и дитя.
После ее смерти я пытался преследовать призрак матери, даже в несбыточной мечте о путешествии в те места, откуда она явилась; своими глазами увидеть, в самом ли деле высочайшая вершина Кавказа такова, как я изобразил в «Благовещении», подняться на плато, где она родилась, встретиться с ее народом, проверить, вправду ли я так невероятно похож на ее отца Якова, как она утверждала. Да, я бы поднялся туда, поговорил с тамошним народом, моими дальними родственниками, братьями, такими же высокими и белокурыми, как я сам, рассказал бы им о Катерине, а они спели бы о подвигах ее отца и предков; мы сидели бы у костра, пили вино и пели, глядя на незнакомые мне созвездия; я бы изучил мир, расширил границы человеческого познания… Даже сегодня, когда я вспоминаю об этом, меня охватывает дрожь от мысли, что на краткий миг я действительно рассматривал возможность бежать из этого больного, задыхающегося старого мира, от этой цивилизации, считающей себя выше всех прочих народов на свете, презрительно называя их варварами, но несущей в себе лишь животное безумие войны, насилие, деспотизм и омерзительную уверенность, что все в мире имеет целью деньги и выгоду и что даже саму свободу человеческого существа можно купить и обратить в рабство.
На дворе был 1498 год. В Милане мне наконец-то удалось создать большое произведение, первое в жизни большое произведение, возможно величайшее, «Тайную вечерю», но другое, колоссальный конный памятник Сфорца, погибло у меня на глазах. Я раньше других понял, что мое время в этом городе подходит к концу. Гроза, нависшая над Италией и Европой, вскоре затронет и тех знатных синьоров, у которых служил. Нужно было придумать способ бежать, тайно и чем скорее, тем лучше. Возможность представилась, когда мой господин, герцог Миланский Лудовико, прозванный Моро, Мавром, решил почтить визитом Геную, город, находившийся в то время под властью Милана. Вместе с ним отправилось множество высокопоставленных лиц, аристократов, камерариев и, главное, инженеров, которым поручено было проинспектировать крепости и оборонительную систему герцогства в целом ввиду неминуемого вторжения французов. В Генуе мы задержались на девять дней, с 17 по 26 марта, и я успел обойти весь город, осмотрев состояние стен и крепости Кастеллетто, а также порта, разрушенного недавним штормом. Остановился я не вместе с герцогом в палаццо Сан-Джорджо, а во францисканском монастыре Сан-Франческо-аль-Кастеллетто. С братией святого Франциска мы прекрасно ладили, поскольку предпочитали говорить прямо, не ходя вокруг да около. В своих путешествиях я всегда останавливался у них, а не на подозрительных постоялых дворах.
Как-то в монастыре ко мне подошел один из братьев, не похожий на прочих, и не только тем, что его больше занимали не богослужения, а изыскания и исследования. Телосложения он был крупного, выше меня, с рыжеватой бородой и шевелюрой, представился фра Якопо да Сарцана. Мне понравилась его открытость, и мы сразу подружились. Фра Якопо совершил то, о чем я всегда мечтал и чего так и не смог достичь: объездил почти весь Левант, а недавно вернулся из Константинополя, из монастыря Сан-Франческо в генуэзском квартале Галата, бывшего благодаря веротерпимости султана стратегическим пунктом связи и неофициальным дипломатическим каналом между турками и христианами. Я зачарованно слушал его рассказ. Фра Якопо видел, насколько тщательно я осматривал развалины порта и как немедленно начал проектировать новые сооружения, способные противостоять разрушительному действию моря. «Как раз то, что нужно и в Босфоре», – заметил он. Оказывается, султан Баязид хотел выстроить мост из Галаты в Константинополь, через узкую бухту Золотой Рог, достаточно высокий, чтобы позволить судам проходить под ним на всех парусах. Другой его мечтой было соединить Азию и Европу разводным мостом, который он мог бы опускать или поднимать по мере необходимости, чтобы перебрасывать свои бесчисленные армии из одной части империи в другую. Султан искал инженера, способного принять такой вызов, и поручил монахам тайно доставить весть о его пожеланиях в страну неверных, то есть христиан.
Фра Якопо рассказал мне также и о себе. Его мать была дочерью черкешенки и капитана по имени Термо, выдающегося мореплавателя, известного во всех портах Великого и Каспийского морей. Звавшаяся, как и моя мать, Катериной, она родилась в городе Матрега, затерянном где-то в окрестностях Таны, а затем вплоть до турецкого завоевания жила в Константинополе. Унаследовав от нее страсть к путешествиям и склонность к изучению языков, греческого и турецкого, фра Якопо после принятия пострига также был направлен орденом в Константинополь. Среди множества историй о себе и своем происхождении, что рассказывала ему мать, была одна, которую он никак не мог забыть. Однажды дед Термо вернулся из Таны с тринадцатилетней рабыней-черкешенкой по имени Катерина, прекрасной княжной с золотыми волосами и небесно-синими глазами; вскоре ее перепродали, но Термо продолжал вспоминать о ней до конца своих дней, как будто встреча с этой рабыней стала важнейшим событием в его жизни, и теперь ему нужно было вымолить у Господа Бога прощение за ошибку, в которой он упорно не желал каяться на исповеди.
Расспрашивать его я не стал, поскольку в глубине души был совершенно уверен, что той прекрасной Катериной, княжной-рабыней, была моя мать в самом начале долгого пути, приведшего ее в наш мир. Куда больше меня заинтересовали другие речи фра Якопо. Да, пожалуй, мне под силу было решить грандиозную задачу султана, но затем все-таки хотелось бы пробраться на Кавказ. С помощью рыжебородого монаха я начал изучать турецкий язык и арабскую письменность, которые уже не раз видел в бумагах моего деда Антонио, и даже сделал в записной книжке заметку, несколько слов и пару строк из турецкой поэмы, где говорилось о том, как солнце садится в море.
Вчерне набросав свои идеи и планы, я наконец передал фра Якопо письмо для султана, которое попросил перевести и отправить в Константинополь. В письме, помимо проекта парусной мельницы и корабельного гидравлического насоса, я описал Галатский мост с настолько высокой аркой, что люди опасались бы ходить по нему, а также свайными устоями и деревянными волнорезами для защиты от приливов и отливов. Для разводного же моста через Босфор я разработал подвесную систему, благодаря которой сильное морское течение могло свободно проходить под ним, не задевая и не повреждая конструкций. В июле мне передали записку от фра Якопо, тот сообщал, что письмо мое перевел на турецкий язык и отправил третьего дня того же месяца. Больше я ничего об этом деле не слышал, и возможность столь желанной поездки на Восток совершенно сошла на нет.
В последующие годы я не раз представлял себе эту поездку. Мне с детства нравилось мысленно путешествовать по схемам Птолемея, картам мира, миниатюрам из «Сферы» Горо Дати или читая невероятные описания разнообразных уголков света у Плиния, в хрониках Мандевиля и Форести. Книги о путешествиях всегда были моей страстью. Когда были опубликованы рассказы о плаваниях португальцев, письма Америго Веспуччи и адмирала Колумба о недавно открытых Восточной и Западной Индиях, я одним из первых раздобыл себе экземпляр.
Я доказал совпадение приливов и общность вод Великого и Средиземного морей, составил схемы и карты этих мест, даже не видя их; я, наконец, сочинил письмо, в котором выдавал себя за инженера на службе у девадара, наместника Сирии, посланного исследовать северные границы его владений и ставшего свидетелем чудовищного катаклизма – могучего потока воды, сошедшего со склонов горы Тавр. На самом же деле о Тавре я знал лишь то, что ухватил в каких-то других книгах, от «Метавры» Аристотеля до трудов Исидора Севильского, а карту взял у Птолемея. Для меня цепь Таврских гор являла собой то, что легенды зовут Кавказским хребтом, а сам Тавр – священную гору из рассказов моей матери, ведь на ее родном языке, как и на языке скифов, слово это означает «высочайшая вершина». Огромный каменный монолит, самая высокая гора мира. Чтобы понять, на что может быть похож этот мир белого льда, я однажды отважился в середине июля подняться, пускай и с огромным трудом, на ледник Монбозо на Альпийском хребте, отделяющем Францию от Италии, и воочию наблюдал, насколько синее на этой высоте небо и насколько ярче солнце.
Да, когда-нибудь я заберусь и на священную гору моей матери, пускай лишь во сне или когда душа моя в смертный час освободится от оков плоти. Пролетая над бескрайними равнинами Сарматии, увижу, как эта гигантская тень растягивается в день летнего солнцестояния на целых двенадцать дней пути, а в день зимнего – до самых Гиперборейских гор, на месяц пути к северу. У ее корней омоюсь в чистой воде родников и рек. Поднявшись примерно на три мили, миную непроходимые чащи высоких елей, сосен и буков, а еще три мили спустя – луга и бескрайние пастбища. Я буду продолжать восхождение до самых вечных снегов Тавра, на высоту четырнадцати миль. И вот наконец двурогая вершина, что высится над облаками и ураганными ветрами, за границей самой жизни, нарушаемой лишь племенем огромных хищных птиц, что откладывают яйца в глубоких расселинах, а после, завидев внизу добычу, камнем падают из-за облаков на травянистые плато. Огромная белоснежная глыба будет молча наблюдать за мной, улыбаясь с поистине божественным равнодушием. Она и есть сама Природа, наша всеобщая мать.
В этих краях я смогу воочию увидеть следы трудов рук Божиих в час творения. Разумеется, во тьме веков там произошли невероятные геологические потрясения, вроде наполнения Великого моря, Понта, до глубины примерно в тысячу локтей, возникновения долины Дуная, Северной Анатолии за Тавром, равнины, что простирается от Кавказа до западного моря, и другой, Танаисской, раскинувшейся в окружении Рифейских гор. По моим расчетам, уровень моря в Тане, в трех с половиной тысячах миль от Геркулесовых столпов, чуть выше, чем в море Средиземном. Оно подпитывается непрерывным притоком пресной воды, обломков горных пород, песка и отложений из Танаиса, одной из величайших рек земли, на берегах которой родилась моя мать: своими водными потоками, как руками, эта река формует глину нашего мира, прокладывая все новые, извилистые, словно змеиный хвост, русла.
Но сильнее всего вдохновила меня «Сфера» Дати, одна из самых распространенных и читаемых книг во Флоренции. В самом ее конце есть восхитительная цветная иллюстрация с изображением Восточного Средиземноморья и Великого моря: Кавказ, называемый также Каспийскими горами, и Тавр сливаются здесь в единую систему, на вершине которой видна странная деревянная хижина – не что иное, как Ноев ковчег, причаливший к этим вершинам на исходе Потопа. А в устье Танаиса можно увидеть единственное изображение Таны, какое мне только удалось найти, того самого города, где моя мать потеряла свободу: горстка домов и складов, колокольня и церковь, окруженные невысокой стеной с башнями, единственным, что защищает этот дальний аванпост от жуткого небытия.
Последние несколько лет я чувствую, что память моя, когда-то, как и у матери, невероятная даже в мельчайших деталях, понемногу начинает слабеть. Мне становится непросто, пролистав тысячи и тысячи исписанных страниц, вновь обнаружить мысль или задумку, которую я, помнится, вчерне набросал, но теперь и не помню где; приходится писать и переписывать, копировать и перерабатывать только ради того, чтобы вспомнить уже сделанное. К счастью, иногда я отмечал дату или место, и это помогает мне восстановить время и обстоятельства того или иного размышления, эксперимента.
Память подобна зданию, системе комнат, залов и подсобных помещений, и если таких помещений становится слишком много, память оборачивается лабиринтом, а самые отдаленные комнаты – темницами, где образы, воспоминания рискуют остаться погребенными навечно. Но даже сложнее, чем разобраться с событиями собственной жизни, мне сейчас осознать их порядок, верную хронологическую последовательность. Странно, но многое из того, что случилось годы назад, кажется мне совсем недавним, а многое из того, что произошло буквально на днях, – седой древностью, уходящей корнями в детство или юность. Быть может, это просто ошибка восприятия и перспективы – к примеру, когда ослабевает или при определенном освещении искажается зрение, далекие предметы кажутся близкими, а близкие – далекими.
1493 год, Милан. Мне перевалило за сорок, я готовился к заключительной стадии проекта, который, будь он воплощен в жизнь, принес бы мне славу: величайшего бронзового конного памятника из всех когда-либо созданных – и лучшего способа отплатить хулителям, твердившим, что я ничего не могу довести до конца. А в голове билась одна мысль: как гордилась бы сейчас сыном моя мать! Впрочем, я понимал, что уже вряд ли когда-нибудь с ней увижусь. И вдруг в самом начале лета мне, к величайшему моему удивлению, доставили записку из Винчи, дядя Франческо сообщал, что Катерина вышла из Пистойи с группой пилигримов, направляющихся в Милан. Те возвращались из паломничества в Рим, организованного францисканцами, ночуя в различных монастырях и больницах. Так что Катерине нечего было опасаться, хотя выглядела она вовсе не на свой возраст, лет примерно шестьдесят шесть, а куда моложе.
Не могу передать, какую бурю радости и волнения вызвала во мне эта коротенькая записка. Несколько недель я провел в тревоге, опасаясь, что с паломниками может приключиться какая-нибудь беда: унесенная течением лодка на переправе, оползень, нападение разбойников, в конце концов, просто болезнь. Стрястись могло всякое. И потом, с чего бы ей вообще покидать дом? Что произошло? Франческо, как всегда витающий в облаках, забыл об этом написать, а времени на долгую переписку уже не оставалось. Что нужно Катерине в Милане? Как мне ее принять? У меня ведь и дома-то не было, я жил там же, где работал, вместе с учениками и подмастерьями, в нескольких залах на первом этаже старого дворца Корте-Веккья, соседствующих с герцогской капеллой и колокольней Сан-Готтардо, неподалеку от грандиозной стройки собора. Зимой в этих залах с чересчур высокими сводчатыми потолками царила лютая стужа, но по крайней мере здесь хватало места. Во дворе можно было изготовить глиняную модель коня и опробовать систему отливки, а забравшись на Сан-Готтардо, я проводил опыты с летательными аппаратами, сбрасывая деревянные, холщовые и бумажные модели, увы, неизменно разбивавшиеся о брусчатку.
Со мной тогда остались только два парнишки: ужасный Джанджакомо, прозванный за свои проделки Салаи, Дьяволенком, и Джулио, сын одного немецкого мастера из собора, способный к изготовлению пружин, молоточков и замков. Был еще Томмазо Мазини, мой давний товарищ, один из лучших мастеров по обработке металла, которого все называли Зороастром за манеру строить из себя великого волшебника. Его я упросил вернуться всего пару месяцев назад. Такой же, как я, ублюдок рабыни, он даже имени своего отца не мог назвать, настолько важным человеком тот был во Флоренции. Мы притащили досок и, взявшись за пилы и молотки, наскоро сколотили по соседству с моей каморкой-кабинетом еще одну, с кроватью и большой печью, чтобы в ненастное время года спасаться от холода. В широкое окно наверху виднелась белоснежная громада собора, с каждым днем поднимавшаяся все выше. Мне это слегка напомнило Флоренцию с ее домами, укрытыми тенью огромного купола Санта-Мария-дель-Фьоре.
Чтобы скрасить тревожное ожидание, я взялся за сангину, решив внести в записную книжку имена своих предков – по крайней мере тех, кого знал лично: Антонио, Бартоломео, Лючия, Пьеро, Лионардо. Моя семья. Не хватало только Катерины. Потом сунул записную книжку в карман и, чтобы немного отвлечься, сходил поглядеть двух жеребцов самых великолепных статей: вдруг подскажут какие-нибудь усовершенствования для моего бронзового гиганта? Снова открыв страницу с именами, сделал на обороте кое-какие заметки о лошадях, пообещав себе непременно прийти сюда с бумагой для рисования.
Вернувшись в Корте-Веккья, я обнаружил, что во дворе пусто. Не было привычной суматохи, никто не ждал меня, чтобы о чем-то попросить, не сновали ремесленники с металлическими частями заказанных мной инструментов, носильщики, разгружавшие материалы: дерево, холст, металл, глину, а временами – и кроваво-красные камни с окрестных гор, сохранившие в себе очертания окаменевших морских существ, поскольку разлетелся слух, будто чудаковатый флорентиец с радостью заплатит за такие камни. Я сразу почувствовал – что-то случилось. Должно быть, она уже здесь. Как колотится сердце!
Я вошел. Улыбающаяся Катерина сидела на лавке. Рядом, словно три волхва, кружили Томмазо, Салаи и Джулио. Салаи принес ей воды и, что было с его стороны величайшим проявлением щедрости, ревностно хранимый кулек сластей, купленный на деньги, украденные из моего кошелька. Приношением расчувствовавшегося Томмазо, отметившего на ее лице знакомые глаза и улыбку, было благоговейное созерцание. Джулио же, не знавший ни слова на нашем языке, предложил ей молчание и послушание, поскольку понятия не имел, что за старушка явилась перед ними в плаще паломницы и почему она так легко, будто это была самая естественная вещь на свете, вошла во дворец. Словно домой, в свой собственный дом, наконец-то обретенный в конце долгого жизненного пути.
Увидев меня, Катерина вздрогнула, и я испугался, что сейчас случится то же, что было, когда я застал ее врасплох, выскочив из-за живой изгороди, и что ее бедное сердце этого не выдержит, а поэтому бросился к ней еще прежде, чем она поднялась, и крепко, даже слишком крепко прижал к себе. А она сказала только: «Мессер Леонардо, дайте же мне вздохнуть». Но по глазам было видно, что ее тоже переполняет счастье.
На ночь я поцеловал ее в лоб, поправил прядь белых как снег волос, укрыл простыней. Устав с дороги, она почти сразу уснула, обрадованная, что теперь о ней позаботится сын, взявший на себя роль любящего отца, которого у нее, как и у меня самого, никогда не было. В своей каморке, выкладывая все из карманов, я снова взял в руки записную книжку, открытую на странице с заметками о лошадях, и, будучи смиренным сыном нотариуса и внуком купца, пометил сангиной: «В день 15 месяца июля». Вот ведь глупость: расчувствовался – и сразу ошибся, сегодня ведь уже шестнадцатое, праздник Мадонны дель Кармине. Я тотчас же исправил пятерку на шестерку, потом подумал, что записывать столь важные вещи столь непрочным инструментом, как сангина, не стоит, а потому, устроившись поудобнее, достал чернильницу, обмакнул перо в чернила и переписал набело: «Кателина[91]91
В тексте сохранена орфография оригинального документа – Прим. ред.
[Закрыть] явилась в день 16 месяца июля 1493 года».
Как мы жили в те несколько месяцев, я в свои записные книжки не заносил и никогда не занесу. Есть в жизни вещи, описать которые невозможно, да и не следует, поскольку сотканы они из совершенно непрозрачной ткани бытия. Вещи, которые просто переживаешь во всей их полноте. Вещи, которые сами по себе, без нужды даже шевелить губами, чтобы сложить мысли в бесполезные слова, становятся молитвой, хвалой и благодарением Господу, даровавшему их нам. Моменты бесконечного счастья, и велика ли важность, что ты заранее знаешь: все это – иллюзия, все вокруг – иллюзия, и конец уже близок? Но пока – пока ты этим живешь, и в сердце твоем оно останется навсегда.
Должно быть, я лишь однажды снова упомянул ее имя: в списке повседневных покупок, на первой странице тетрадки, которую брал с собой из Милана в Виджевано, куда герцог направил меня следить за обустройством своей новой пышной резиденции. Накануне одного из таких отъездов, 29 января 1494 года, я внес в этот список несколько трат, которые, за исключением восьми сольдо, выданных Салаи, целиком пошли на нее: ткань на чулки – четыре лиры и пять сольди; поддева – шестнадцать сольди; выделка – еще восемь сольди; перстень – тринадцать сольди; звездчатая яшма – одиннадцать сольди; а затем еще двадцать сольди на личные расходы. Та зима выдалась жутко холодной, а толстые шерстяные чулки и теплое платье на подкладке прекрасно защищали от мороза ее старые ноги и тело, иссохшее и согнувшееся, хотя она и говорила, что ей вовсе не холодно и что в детстве она часто купалась обнаженной в студеных горных источниках. Зато буквально засветилась от радости, когда я принес свой подарок-сюрприз, перстень, в который велел оправить яшму с прожилками в форме звезды, и долго глядела на него, бормоча одно лишь непонятное мне слово, вагвэ, а после попросила, чтобы я надел перстень ей на палец, поверх кольца святой Екатерины, обручальное кольцо Антонио она оставила в окоченевшей руке мужа, прежде чем его схоронить. Потому-то и ушла из дому, прибившись ко мне. Она ведь совсем одна осталась, сын Франческо погиб, сраженный ядром, где-то под Пизой, и она даже не могла оплакать его тело. Хорошо, что дядя Франческо и его дочери убедили ее решиться на этот шаг, понимая, вероятно, что прощаются с ней навсегда, но прекрасно сознавая и огромную любовь, связывавшую нас, любовь, в проявлениях которой нам всю жизнь было отказано.
Во второй половине июня я вернулся в Милан из Виджевано, устав от бессмысленности герцогской службы, этого унылого дворца и его пошлых развлечений, вынуждавших меня терять драгоценное время, которое можно было провести с матерью. Более того, в душе я понимал, что весь мой труд по возведению величайшего конного памятника в любой момент может быть сведен к нулю, а собранный металл – использован на то, что военачальники сочтут более полезным: на отливку пушек, бомбард и прочих орудий разрушения, на смерть. Меня это не радовало, совсем не радовало, хотя именно я и был инженером, предложившим и даже нарисовавшим свое видение этих жутких машин уничтожения. В Корте-Веккья я вернулся совершенно разбитым. Июнь в Милане был ужасен. Стояла невероятная жара, по вечерам над городом повисали влажные испарения десятков гниющих каналов, нас изводили легионы комаров, этих крохотных упырей, жаждущих человеческой крови.
Двор, как и год назад, словно вымер. И вновь я почувствовал – что-то случилось. Катерина лежала в постели, несмотря на жару, ее колотил озноб, а бедняга Салаи не знал, как облегчить ее страдания. С недавних пор с нами жил еще один парнишка, Галеаццо, но он, похоже, был даже бесполезнее предыдущего, а Томмазо уже какое-то время не показывался, занимаясь своими делами. Увидев меня, Катерина улыбнулась и едва слышно прошептала, мол, ничего страшного, она скоро поправится, а сейчас не хочет меня беспокоить или тормозить мою работу. Я постарался унять дрожь, чтобы ее подбодрить и заодно осмотреть. Лоб был раскаленным, биение сердца – учащенным, прекрасная бледно-розовая кожа приобрела желтушный оттенок, в моче обнаружилась кровь. Через пару часов температура вроде бы спала, и Катерина сразу так взмокла, что пришлось сменить рубаху. Пока я ее раздевал, она, охваченная непонятной эйфорией, вдруг принялась бормотать бессмыслицу – как мне показалось, на своем родном языке, который словно бы внезапно вспомнила. Однако не прошло и двух дней, как жар вернулся, став еще сильнее: безошибочный признак трехдневной лихорадки в ее самой тяжкой, продолжительной и смертоносной форме.
Я был в отчаянии, поскольку, несмотря на все мои знания, не понимал, что делать. Мне не хотелось оставлять ее ни в «Ка Гранде», главной больнице города, ни в больнице Святой Екатерины, конечной точке крестного пути падших женщин. Все придворные врачи давно перебрались в Виджевано, да и стоило ли доверять этим астрологам и экспертам по ядам? Мне пришел на ум единственный настоящий специалист, Конкордио да Кастронно, живший у ворот Верчеллина, возле монастыря Сан-Франческо-Гранде. Я спешно направил к нему Салаи, и вскоре запыхавшийся мальчишка вернулся с указанием немедля перенести больную в дом лекаря. После кратковременного улучшения у Катерины начался кашель, ей стало трудно дышать. Лекарь поил ее грудным отваром, потом, в разгар приступа, настойкой дубровника, разведенной в белом вине, но все тщетно. Он объяснил мне, что причиной нездоровья стало нарушение баланса гуморов, в частности черной желчи, избыток которой закупорил средние вены. Необходимо было срочно приступить к кровопусканию, с трудом произведенному на этом несчастном, истерзанном теле. Однако и это средство оказалось неэффективным, а может, даже ухудшило ситуацию. Хоть я, в отличие от лекаря, и не изучал Галена или Мондино, у меня сложилось впечатление, что жидкость, убивающая мою мать, застаивается в легких. Но я ровным счетом ничего не мог с этим поделать.
Так прошла еще почти неделя, и с каждым новым приступом Катерина все слабела. Она задыхалась, но не жаловалась, не плакала. Салаи из добрых побуждений принес ей клетку с жаворонком, по слухам, способным исцелять недужных, но жаворонок лишь отвернул голову, словно возвещая беду. В какой-то момент, открыв глаза и увидев меня, Катерина нашла в себе силы улыбнуться. Я подошел ближе, взял ее за руку, уже почти ледяную, – изящную руку с колечком святой Екатерины и перстнем со звездчатой яшмой. А она, глубоко вдохнув, из последних сил шепнула мне на прощание: «Случись мне умереть сейчас, я умерла бы счастливой. Леонардо, сын мой, не плачь, ведь теперь я по-настоящему свободна». И все-таки я не смог сдержать слез, осознав наконец, зачем она перебралась ко мне в Милан: чтобы умереть у меня на руках. И, прижав ее к себе, долго еще в отчаянии выкрикивал запретное доселе слово: мама.
Это случилось 26 июня 1494 года от Рождества Господа нашего, в день святых мучеников Иоанна и Павла. Мы обмыли ее, спрятали волосы под чепец, переодели в красивое платье, которое я велел для нее сшить. Кольца я оставил на пальце: то, что подарил сам, и подарок отца, кольцо святой Екатерины, ставшее спутником всей ее жизни. Бдеть над телом я решил один, отправив маэстро Конкордио в сопровождении Салаи устроить все необходимое в подобных случаях. А прежде чем отпустить, поднял на него покрасневшие глаза и велел не жалеть денег, мне нужны были пышные похороны, достойные самой принцессы.
Вскоре, чтобы зарегистрировать смерть и получить разрешение на захоронение, явились магистраты. Поскольку я так и сидел, стиснув ее ледяную руку, замкнувшись в молчании и собственной боли, вопросы они задавали ничего не понимающему маэстро Конкордио. Как зовут эту женщину? Катерина. И чья же она дочь, чья жена или кому принадлежит? Неизвестно, ясно только, что родом она из Флоренции, должно быть, старая служанка маэстро Леонардо. Так в реестре и записали: «In die Jovis 26 Junii. Porta Vercellina parochia sanctorum Naboris et Felicis. Catharina de Florenzia annorum 60 a febre terzana continua dupla in domo magistri Concordi de Castrono decessit».
Катерину, завернутую в саван, словно в шелковый белый кокон, уложили на носилки, укрытые черной узорчатой тканью, расшитой золотыми символами смерти. Добрых три фунта воска пошло у братии на свечи. Из монастыря Сан-Франческо, где также располагалась и приходская церковь Святых Набора и Феликса, явились монахи, четыре священника и четверо служек во главе с самим старшиной прихода, несшим большой крест, в сопровождении носильщиков. Дело шло к закату, и солнце багровело уже за колокольнями Сант-Амброджо. Траурная процессия начала свой краткий путь от дома до церкви. Один из братьев звонил в колокольчик, предупреждая немногочисленных прохожих и призывая их помолиться за усопшую, прочие несли священные книги и покровы.
Мы вошли в огромную пустую церковь. Звуки неторопливых шагов гулко отдавались под сводами до самой капеллы Непорочного Зачатия. До моей «Мадонны в скалах». Ангел по-прежнему был там и, глядя на меня, улыбался.
Но вот отвалена тяжелая каменная плита, и белый кокон медленно начал опускаться. А мне вдруг захотелось снова, на сей раз точно в последний раз, обнять мать, как заблудшему, испуганному ребенку, что остался один посреди ночи. Но было поздно, уже слишком поздно.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































