Текст книги "Улыбка Катерины. История матери Леонардо"
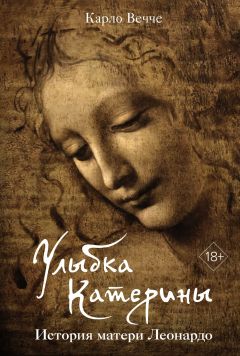
Автор книги: Карло Вечче
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 34 страниц)
И вдруг ее пронзила неведомая прежде боль, она почувствовала его тело на себе, внутри себя. Ей хотелось кричать, но язык, проникший между ее губ, не давал им сомкнуться, и тогда ее охватила неведомая ранее сладость, куда большая, чем та, что дарила ей Мария, и душа ее отлетела на небеса, а тело показалось невесомым и более ей не подчинялось. Сколько это длилось, всего несколько мгновений или целую вечность, она не знает. Юноша остался внутри нее, словно мертвый, едва дыша, а потом шептал ей: «Любовь моя» и «Ты ангел мой навечно». Но потом увидел, что она в крови, и в ужасе убежал, забыв под кроватью пьянеллу. Он возвращался еще раза два или три, и она ждала его, и они повторяли это снова, и с каждым разом это было все прекраснее, и она не знала, что это плохо, ее никто не предупреждал. И еще она вернула ему пьянеллу. Но больше он не приходил. И теперь она в отчаянии и хочет умереть, а дурацкое кольцо ее не защитило. И она даже имени его не знает.
Я тоже в отчаянии и рыдаю от гнева и ярости вместе с ней, отбросив перо и чернильницу. Что они сделали с моей Катериной? Единственное, что я могу, – это обнять ее покрепче, как только мать может обнимать дочь.
8. Франческо
Замок Альтафронте во Флоренции, апрельским днем 1450 года
Эхо ее душераздирающих криков разносится под сводами палаццо.
Господь всемогущий, отчего так тяжко вступить в эту жизнь? И почему нас пытаются уверить в том, что мы – венец творения, если требуют взамен заплатить столь жестокую цену? Что для нас природа: ласковая мать или жестокая мачеха? Мы рождаемся в муках, рискуя умереть, голые и безутешно рыдающие, и сама наша жизнь, с первого ее мгновения, начинается в слезах. Возможно, было бы лучше и не рождаться вовсе или же как можно скорее умереть, без промедления вернувшись в тот мрак, откуда все мы вышли.
Я брожу по пустым комнатам палаццо, слишком большого для нашего крошечного семейства, но ее крики преследуют меня повсюду, будто они способны проникать не только через расписные деревянные двери, но и сквозь толстые каменные стены. Я поднимаюсь на террасу между башенками, мне нужен воздух, чтобы продышаться, избавиться от того запаха выделений, лекарств и крови, что разносится из-за запертой двери ее комнаты; но и отсюда меня изгоняет бушующий вихрь ветра и воды, которым сирокко хлещет реку и город, скорбно завывая в бойницах и распахнутых в порыве ярости оконных створах. Но стоит вернуться на лестницу, и крики снова стискивают меня, словно невидимые руки с крючковатыми пальцами, что впиваются в сердце, разрывая его в клочья. Я сбегаю вниз, в подвал, где стоны ветра и женские крики, кажется, наконец стихают почти до полного безмолвия. Сажусь на каменный выступ, с тревогой ожидая того, что вот-вот свершится и перед чем я совершенно бессилен.
Этот укромный уголок всегда служил мне убежищем. Погруженный в темноту, едва освещаемый тонкой полоской света, проникающей через маленький люк. Стол, табурет, запертый сундук. Чтобы придать себе сил и уверенности, я часто стою, опираясь на массивные каменные арки, пересекающие пустое пространство подвала, эти широкие плечи гигантов, на которых могла бы устоять гора или целый мир. Здесь же они нужны для того, чтобы, наперекор ярости стихий, речной воды, воздуха и огня, гроз и тверди, сотрясаемой подземными толчками, выстоял не мир, но дом, что был когда-то замком, да и по сей день называется этим именем: замок Альтафронте. Квартал Санта-Кроче, гонфалоне Карро.
Как давно здесь эти камни? Точно никто не скажет. По крайней мере, четыре или пять столетий стоят они на этой возвышенности у Арно, где тянулись между Понте-Веккьо и Понте-Рубаконте древние городские стены, будто бросая вызов чудовищной силе реки. И ведь однажды реке почти удалось одолеть замок, служивший тогда пристанищем Бенчивенни ди Торнаквинчо Буонсостеньи. Это случилось во времена моего деда, Микеле ди Ванни ди Лотто Кастеллани, который был тогда еще мальчишкой и жил неподалеку от замка; впоследствии он рассказал об этом моему отцу Маттео, младшему из своих сыновей, должно быть желая напугать жуткой историей; а отец точно так же пересказал мне, с раннего детства внушив страх перед рекой, текущей прямо под окнами. В самом деле, не сыскать в людской памяти худшего потопа, чем обрушившийся на наш город, когда тот возомнил себя самым благополучным и счастливым, за что и был наказан Божьим судом, поскольку забыл святую евангельскую заповедь: бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа. После четырех дней и ночей непрерывного дождя и ужасающих гроз с громом и молниями волна паводка, вобравшая в себя воду притоков и всевозможный мусор, груды поваленных деревьев, обломки мостов и водяных мельниц, достигла Флоренции 4 ноября в год 1333-й от Воплощения Господа нашего Иисуса Христа, поднявшись более чем на семь саженей и выйдя из берегов в вечерние и ночные часы, и люди кричали: пощады, пощады. Река запрудила весь город, обрушила башни, дома и мосты, повсюду оставляя шлейф смерти и зловонного ила. И такой она была силы, что добралась даже до замка, сметая стены, унося с собой камни и кирпичи. Только арки фундамента не поддались: несмотря на потоки темной грязи, они заставили реку обиженно отступить.
Став взрослым и нажив состояние, дед Микеле выкупил руины замка у наследников умершего от чумы Бенчивенни, нуждавшихся в деньгах на приданое одной из сестер. Он же начал перестраивать замок в палаццо, сохранив, однако, древний, почти феодальный крепостной облик – массивный, угловатый, с небольшими башенками по углам и гвельфскими зубцами, с низкими сводчатыми окнами, прорубленными в прочных на вид каменных стенах. Деду нравилось, что дом выглядит так, будто ему приходится обороняться от города и всего остального мира, поэтому особенных уступок роскоши он не делал, так что внутренний двор был тесным и душным, а лестницы – узкими и неудобными. Вскоре ему пришлось пережить еще одну разрушительную волну. Простой народ ненавидел людей, подобных деду, разбогатевшему на импорте каталонской и английской шерсти, а после сменившему цех шерстяников на цех менял, преумножив свое богатство ростовщичеством. Библейскую заповедь плодитесь и размножайтесь дед исполнял буквально, породив огромное количество детей; к деньгам и скарбу он, видимо, относился точно так же, поскольку и те и другие плодились и размножились, превращаясь в дома, землю, укрепленные усадьбы. Но в ходе своего отчаянного восстания шерстяники-чомпи сожгли дом, где он жил, пока строился замок, вынудив деда бежать из города. Он же терпеливо дождался часа расплаты, отстроил все заново и даже получил некоторое удовлетворение, защищая их самозваного вожака Сальвестро Медичи от мести вернувшихся к власти олигархов.
Не могу сказать, что знал отца. Он почти не бывал дома, с семьей, постоянно выезжая с важными поручениями за пределы Флоренции и в посольства по делам Республики. Из одной такой поездки, в Неаполь в 1415 году, он даже вернулся с рыцарским титулом, пожалованным ему французским принцем-авантюристом в обмен на политическую и финансовую помощь. На город, подобный нашему, славящийся тем, что изгнал всю знать и управляется людьми из низов, подобные титулы всегда производят глубочайшее впечатление, возвращая к жизни воспоминания о далеком прошлом с его рыцарскими обычаями и подвигами, знакомыми нам теперь лишь в бледном отражении литературного вымысла романов. Я родился двумя годами позже, когда ему уже перевалило за пятьдесят, и, будучи единственным ребенком, рос практически в одиночестве, подобно Ахиллесу на Скиросе, в замке, где всем заправляли женщины: моя мать Джованна ди Джованни ди Раньери Перуцци, кормилица, оставшаяся в услужении, старая незамужняя тетка, кухарка, другие служанки и рабыни. Образование я тоже получил в этих стенах, читать и писать научившись у матери, которая, ко всему прочему, дабы развеять скуку долгих зимних вечеров взаперти и назло мужу, оставившему ее соломенной вдовой, – это ее-то, происходившую из куда более древнего и славного рода, – воспитывала меня как девочку, хотя, возможно, она и в самом деле хотела бы иметь девочку вместо мальчика. Просто так, из вредности.
Сложения я тогда был, как и сейчас, хрупкого, невысокий, с макушки на плечи ниспадал каскад белокурых локонов, и мать с помощью кормилицы развлекалась тем, что одевала меня в нижнюю юбку, чоппу и гамурру, сооружая из обрезков драгоценных тканей и шелковых покрывал подобие женских нарядов, устраивала примерки перед зеркалом, что было самым моим большим развлечением, напяливала ожерелья и прочие украшения, учила пользоваться духами и косметикой, а также шитью, музыке и танцам. В школе я не провел ни дня. В какой-то момент отец вспомнил, что следует нанять мне учителя грамматики, которого поселили в доме, но в полной изоляции окружавшего меня от женского кокона. Прежде чем в полном одиночестве спуститься на занятия, я должен был не забыть поглядеть в зеркало, смыть с лица остатки косметики или помады и распустить волосы, сняв с них нитку жемчуга или сеточку.
Это позолоченное детство оборвалось 3 сентября 1429 года, когда мой отец, едва вернувшийся из важного посольства к герцогу Миланскому и избранный гонфалоньером цеха, внезапно скончался, оставив меня, двенадцатилетнего сироту, наследником своего имени, части замка и имущества, как оказалось впоследствии, недостойного его званий и рыцарского титула. Тело три дня пролежало в зале нижнего этажа, а после его доставили через весь город в церковь Санта-Кроче на катафалке, убранном черным бархатом, за которым следовали я, дядя Ванни, кузены, моя мать, родственники и прислуга, всего двадцать восемь человек. Когда тело опустили в крипту под нашей капеллой, меня подвели к главному алтарю, где магистраты общественного призрения сняли с меня черные одежды, а вельможи Республики, бывшие также большими друзьями моего отца, Лоренцо Ридольфи, Палла Строцци и Джованни ди Луиджи ди Пьеро Гвиччардини, облачили в ярко-зеленое и возвели в рыцарское звание, передав мне титул, полученный моим отцом в Неаполе.
Помню, как 2 октября упомянутого года меня препроводили сначала в Палаццо-деи-Приори, а после в Палаццо-ди-Парте-Гуэльфа, дабы вручить символы Народа и Партии, прекрасные знамена из лучшей флорентийской тафты, вышитые серебром, окаймленные зеленым и золотым шелком и расписанные Пезелло: одно – серебряное с красным крестом, другое – серебряное же с красным орлом, когтящим зеленого дракона. Под ними я и поскакал домой в сопровождении вельмож, рыцарей и горожан; и по сей день храню их в небольшой шкатулке елового дерева, обернутой гербовым полотнищем. Да, я был еще ребенком, но все-таки рыцарем.
Церемонии и почести наполняли меня тщеславной гордостью, но их было недостаточно для того, чтобы раскрыть мне глаза на реальную политическую борьбу, бурлившую за фасадом дворца, борьбу, из которой я на самом деле всегда был исключен, благополучно пережив катастрофы, разрушившие или запятнавшие кровью семьи куда более могущественные и состоятельные, нежели моя собственная. Для олигархов я был лишь изысканной и утонченной марионеткой, которую можно было продемонстрировать по какому-нибудь официальному поводу. Всеми моими обязанностями занимались магистраты общественного призрения, а тем временем наследство мое, казавшееся огромным, понемногу начало таять под тяжестью налогов и долгов, а также дележки и свар, затеваемых толпой родственников со стороны бесчисленных сыновей моего деда.
После смерти отца меня взял под крыло Палла Строцци, и я стал выходить из дома, посещая интеллектуалов, с которыми общался Палла, начиная с Франческо Филельфо да Толентино, университетского преподавателя греческого и гуманитарных наук. Нас, юнцов, он увлекал чтением не только древних классиков, латинских и греческих, но и Данте. Мне вдруг открылись новые горизонты, значительно шире убогих поучений домашнего учителя-наставника и варварских виршей его латинской грамматики. Так родилась моя безудержная страсть к книгам, начиная с тех, что были завещаны мне отцом и скрупулезно внесены в опись магистратами общественного призрения. Проще говоря, я превратился в охотника за книгами, как тот безумец Никколо Никколи, истинный книжный червь, как выразился Баттиста дельи Альберти.
Было их немного, но каждая великолепна по исполнению и иллюстрациям, достойным библиотеки какого-нибудь князя: увесистая Библия в переложении на народный язык, хроника всеобщая и наша, местная, составленная Виллани, маленькая, но драгоценная «Книга Богоматери». Все последующие годы я продолжал покупать книги на деньги из собственного кармана или одалживал, чтобы прочесть и переписать: Вергилия, Горация, Цицерона, Юстина, Светония, боккаччевский «Корбаччо», труд о браке «De re uxoria» венецианского рыцаря Франческо Барбаро, которую Маттео Строцци одолжил мне в 1434 году, возможно, надеясь убедить меня остепениться и взять себе супругу. Сообщниками моими были Строцци, делившиеся советами и библиотекой, а позже и молодой книготорговец Веспасиано да Бистиччи, открывший мастерскую и лавку напротив Бадии, всего в паре шагов от моего дома. Да-да, сообщниками, ведь моя страсть к книгам и чтению, особенно древних языческих авторов, по сути своей почти преступление, ибо смущает души, подталкивая к одному из самых опасных и коварных грехов, о котором предупреждает в своих проповедях святой наш епископ Антонин. Это любопытство ума, стремление и желание знать то, что не следует, делать не как подобает, а беспорядочно; именно таким, похоже, и был мой путь чтения и познания: странствие без четкой цели, блуждание в незнакомой чаще в поисках добычи, скрытно и преступно, подобно вору или браконьеру. Куда лучше моего отца владея латынью, а также греческим, я не был ни студентом, ни наставником в гуманитарных науках, или, как мы сегодня говорим, гуманистом, но читал и учился для собственного удовольствия, притом хаотично, а значит, согласно нашему святому епископу, впал в смертный грех.
Козимо Медичи, вернувшись в 1434 году из ссылки, к которой его приговорили друзья моего покойного отца, Альбицци и Строцци, отомстил обидчикам, изгнав их всех из Флоренции на веки вечные. Ко мне же он, непонятно почему, всегда относился с простодушным патернализмом. Разумеется, ему было известно, что я обучался у Филельфо, который был ему врагом и которого также вынудили бежать, пригрозив отрезать его злобный язык, если он только когда-нибудь посмеет вернуться. Впрочем, убедившись, что я вполне безобиден, Козимо впустил меня в свой круг, дозволив посещать близких ему интеллектуалов, свободно обмениваться и пользоваться книгами, но прежде позаботился, чтобы я был систематически и навсегда отстранен от непосредственного участия в политической жизни города, от всех должностей и общественных обязанностей. Ему было довольно того, чтобы я послушно сидел в золотой клетке собственного замка вместе с матерью и прочими женщинами да время от времени, когда мне оказывали такую честь, гарцевал перед толпой с гонфалоном. В итоге для горожан я был никем, словно меня и не существовало вовсе. Я не был купцом, не записывался ни в один цех, не имел никакого дела, не занимал должности. В общем, был просто рыцарем, Франческо Маттео Кастеллани.
Но кое для кого я все-таки продолжал существовать, и имя мое было вписано несмываемыми чернилами в их безжалостные реестры: мое состояние медленно, но верно пожирали налоговые службы флорентийской коммуны. В конце концов мать заставила меня взглянуть правде в глаза и осознать, что мы рискуем потерять даже и сам замок. Тогда-то я и начал делать то, что делают все прочие торговцы и горожане, кому небезразличны их семья, имущество и добрая память, – купил в лавке несколько тетрадей чистейшей канцелярской бумаги и засел за воспоминания. В начале, разумеется, поставил монограмму имени Иисуса Христа на греческом, XPS, крест и год, 1436-й, а следом – священную формулу: «Во имя Господа и матери его, Пресвятой Богородицы Девы Марии, и всего небесного воинства, аминь». Формула красивая, хотя, возможно, чуть избыточная, и все же она показалась мне тогда не столь убогой, как та, что я обычно обнаруживал в учетных книгах и дневниках, открывавшихся зачином: «Во имя Господа и прибыли» или «…флорина». Чуть ниже добавил: «Се тетрадь моя, Франческо Маттео Кастеллани… – а вместо слова рыцарь вычертил на средневековый манер буквицу K, увенчанную крестом, после чего продолжил: – …в коей я буду записывать свои воспоминания и прочие дела, ежели в том случится необходимость, приступив во имя Господа в первый день сентября 1436 года, и называемая „Воспоминания“ с метой А».
Первым воспоминанием, помещенным на следующей странице, стала как раз та афера, что помогла мне спасти дом, проданный в сентябре прошлого года городскими властями за смехотворную сумму, каплю в море моих долгов, накопившихся из-за невыплаченных вовремя налогов; однако мне удалось подстроить, чтобы его вместе с имением в Антелле и кое-какой другой собственностью выкупило для меня подставное лицо, один бедолага из Сан-Джиминьяно. И то было лишь одно из многих воспоминаний, которые я намеревался посвятить управлению домом и прочими нашими владениями, защите их от алчной казны и хищных родственников: фиктивным продажам с целью уклонения от уплаты податей, сдаче внаем домишек, особенно примыкающих к замку, склоки, тяжбы и договоренности с кузенами касательно тех частей замка, что по-прежнему принадлежали им со времен дяди Ванни. Те еще хлопоты!
Но из всех этих владений, частью которых напрямую управляла моя мать, пускай и с помощью бдительного счетовода, лишь одно в самом деле доставляло мне радость – старая пекарня у самого дома, поскольку оттуда поднимался, окутывая весь палаццо, запах горячего ароматного хлеба, запах детства. Я следил за тем, чтобы арендаторы не переводились, а печь не простаивала, всемерно поддерживая пекарей и поваров, что там трудились. В хорошем хлебе у нас никогда не было недостатка, в договорах непременно прописывалось, чтобы хлеб и жаркое для нашего стола непременно поступали именно отсюда.
Казалось, я наконец повзрослел, подошло время взять себе жену. Так что в том же 1436 году я обвенчался с Джиневрой ди Палла Строцци. С политической точки зрения это было колоссальным просчетом, усугубившим мое и без того неважное положение в обществе, ведь Палла, заклятый враг Козимо, к тому времени уже находился в изгнании, из которого ему не суждено было вернуться. Но десятью годами ранее об этом союзе мечтал еще мой отец, впрочем, кто знает, довелось ли ему обсудить это с Паллой хотя бы в качестве шутки. Мать моя, овдовев, не желала замечать изменений в политике и считала своим долгом, пусть и посмертно, осуществить мечту о столь именитом родстве и получить возможность рассказывать, что ее сын был зятем великого Паллы, а значит, практически братом его детей.
Джиневра вышла замуж совсем малышкой, тринадцати лет от роду, а умерла восемь лет спустя, так и не успев родить мне ребенка. Собственно, в этом не было ничего удивительного. Наш брак, по сути, не состоялся, ведь я опасался даже прикоснуться к этой хрупкой, меланхоличной девушке, как, впрочем, и она, и если между нами когда что происходило, это случалось так редко, целомудренно и бесплодно, что скорее нас следовало считать братом и сестрой. Возможно, нас сдерживало ощущение и даже осознание того, что мы очень, чтобы не сказать слишком, похожи – сложением и лицом, но также характером и манерами. Мы были словно двойниками друг друга, оба – жертвы жестокого времени и общества, оба закрыты от внешнего мира и напуганы бушующей рекой жизни.
Течение этой реки Джиневра покинула рано, причалив к брегу смерти в расцвете юности, и тем исполнила желание древних мудрецов, для меня не сбывшееся. В последнее время она становилась все бледнее и лихорадочнее, что поначалу казалось легким недомоганием, но затем стала задыхаться, появился надрывный, нездоровый кашель, оставлявший на ее белоснежных надушенных льняных платках блеклые соцветия красных пятнышек. Лекарь, обычно посещавший нас, внимательно осмотрел ее. Послушал дыхание, исследовал кал, понюхал и попробовал на вкус мочу, не забыв ознакомиться с листком гороскопа, который известный астролог составил для нее сразу после рождения и в котором предсказывалась долгая и безмятежная жизнь. Диагноз не вызывал у него сомнений. Он посоветовал нам немедленно отправить Джиневру в Петриоло: тамошняя чудодейственная вода горячее, чем разогретая трехдневной лихорадкой кровь, она разгонит и смягчит ее гуморы, каковые, signis certissimis, камнем легли между ее сердцем и легкими.
Помню, как в день 23 марта 1444 года Джиневра отправилась в путь в нанятой вместе с возницей дорожной повозке, взяв с собой невестку, Катерину Пандольфини, множество корзин с бельем, лекарствами и сладостями, а также и нескольких слуг, разумеется шедших пешком. Помню, как она, улыбаясь, прощалась со мной, ее легкую чоппу из белой каразеи с короткими рукавами-фонариками поверх льняной юбки, отороченной зеленым сукном. Весна и впрямь внушила ей надежду на излечение, и через месяц я послал за ней верного слугу, Андреа ди Николо да Сан-Кашиано, с тремя лошадьми. Но то была лишь иллюзия.
Помню, как в день 13 октября вышеупомянутого года по воле Господа нашего, по милости Его и благодати блаженная душа Джиневры призвана была в сонм избранных для вечной жизни. Аминь.
Провернув ключ в замке, я открываю сундук. В темноте на ощупь нахожу все то, что тайно храню здесь и что стоит для меня неизмеримо больше любой записной книжки и этих бесцветных воспоминаний, которые я и пишу-то без особого желания, просто потому, что мне это посоветовали. Ибо в сундуке вещи, не слова. Священные реликвии, коим должно поклоняться, драгоценные амулеты, хрупкие осязаемые следы исчезнувших жизней, нити, чтобы найти путь в лабиринте, возможно, они позволят мне дотянуться до иного, непознаваемого и непроницаемого измерения.
Локон Джиневры, тончайших и мягких, словно шелковые нити, волос, который я срезал тайком, когда она уже пребывала в вечном сне на смертном одре, и завернул в вышитый платок, до сих пор хранящий ее почти неуловимый запах. Еще один льняной платок, испещренный мелкими пятнышками ее драгоценной крови. Шкатулка из слоновой кости с гребнем, кольцами, подвесками, серьгами и встроенным зеркальцем, что, как и все зеркала, должно быть запотевая от дыхания в те минуты, когда она в него смотрелась, запечатлело и часть ее души. Тонкая, длинная, полупрозрачная шелковая камиза с золотой каймой: когда Джиневра надевала ее на голое тело, та слегка распахивалась на плоской, незрелой еще груди, едва обозначенной крохотными сосками, и супруга моя казалась мне тогда чистым ангелом небесным, и я становился на колени, припадал к ее ногам и целовал кончики пальцев, а после, с трепетом покинув ее комнату, уходил спать в свою, ибо мы никогда не спали вместе. Пожелтевший платок, пропитанный солоноватой жидкостью, которую она как-то раз позволила мне вылизать у нее между ног, все еще помнящий запах, опьянивший меня в тот миг, когда я погрузил лицо в ее нежный пушок, прежде чем бежать прочь в ужасе от кощунственного жеста, что я себе позволил.
Где теперь ее душа? Продолжая задаваться этим вопросом, я беру платок, чтобы утереть слезы, подношу к носу, надеясь почувствовать ее присутствие. Потом, словно в каком-то неясном порыве, сам не зная почему, вдруг расшнуровываю алую бархатную накидку-претину, раздеваюсь донага, облачаюсь в ее камизу, заплетаю волосы, как делала она, надеваю ее кольца и жемчуг, придя в экстаз от того, как ласкает кожу и соски гладкий шелк, и – о чудо! – из глубины зеркала на меня глядит ее улыбающийся образ.
В таком виде меня застала однажды Гвида, молодая служанка моей матери, неожиданно зашедшая прибраться в комнате, полагая, что меня там нет. А может, все было ровно наоборот: я всегда подозревал, что Гвиду подослала моя мать, чтобы развеять мучительные подозрения относительно моей мужественности, подозрения, только укрепившиеся за годы моего неудачного и бесплодного союза с Джиневрой. Так или иначе, Гвида не слишком удивилась, обнаружив меня в женском одеянии, но со вздыбленным плотским жезлом под шелковой тканью. Она поглядела на меня, потом и на него, и я застыл, не в силах пошевелиться. Тогда она подошла ближе, уложила меня на спину на кровать, забралась сверху и закрыла мне глаза. Укрывшись в самом темном уголке души, уже не понимая, кто я, Франческо или Джиневра, следующие несколько мгновений я пережил так, словно все совершалось не со мной и моим телом, а в ином времени и пространстве, откуда по венам и нервам до меня доходило лишь отдаленное эхо ритмичных движений накрывшего меня тела и его прерывистого дыхания.
И вот теперь в шкатулке лежит еще и платок с запахом чрева Гвиды, таким непохожим на нежный аромат Джиневры: грубым, мускусным, почти звериным; а также завязанная узлом пуповина нашего сына Никколо, моего незаконнорожденного первенца. Он появился на свет в сентябре 1448 года, крупным, симпатичным, пышущим жизнью и здоровьем, как это часто бывает с бастардами, рожденными от простолюдинок или рабынь добрых кровей. Мать, щедро одарив Гвиду, отослала ее обратно в деревню, а Никколо отдала монне Чиприане, жене Франческо Папи дель Данца, живущего за воротами Сан-Галло, положив жалованье двадцать гроссо в месяц, дабы та вскормила его сытным, питательным молоком.
Но самое драгоценное из всего, что хранится в заветном потаенном сундуке в подвале, – книга, запрятанная под шелковой камизой несчастной Джиневры. Это рукопись, подаренная мне Козимо после долгой беседы о бессмертии души. Неизвестный текст древнего поэта Лукреция, обнаруженный пару лет назад в одном из немецких монастырей.
Он не слишком похож на роскошные, украшенные миниатюрами манускрипты, горделиво красующиеся на письменном столе наверху, всего несколько десятков тетрадей, скромных, бумажных, даже не пергаментных. Размером книга примерно вполовину массивной Библии, а толщиной листов сто пятьдесят, не более. Почерк напоминает изящную каллиграфию Никколи, возможно, это как раз его рука, он несомненно красивее и ровнее, более четче и объемнее грубой купеческой скорописи. Название не обещает ничего захватывающего: «De rerum natura», «О природе вещей». Увидев его впервые, я счел книгу скучнейшей дидактической аллегорией о том, что есть мир, какие бывают виды птиц и рыб, где найти чудотворные источники и отчего южнее определенных широт люди рождаются с ног до головы черными.
Но на самом же деле это поэма невероятной красоты. Помню, с каким волнением я начал читать первые строки: «Aenea dum genetrix hominum divomque voluptas, alma Venus», «Рода Энеева мать, людей и бессмертных услада, / О благая Венера!»; это ведь настоящий языческий гимн в честь той, кого считают не только богиней любви, но и матерью всего живого, прославляемой в таинстве зачатия новой жизни, благодатного дыхания фавония, что зарождает цветы и прочие создания в утробе daedala tellus, то есть земли творящей, кующей форму всего сущего, такому же художнику и изобретателю, как мифический Дедал. Римский поэт выступает апостолом философии Эпикура, которой мы прежде совершенно не знали, разве что по обрывкам, дошедшим до нас в искаженном пересказе других римских писателей или отцов Церкви, яростно боровшихся с этим мировоззрением. Впервые за многие века целая философская система, основанная исключительно на глубоком знании материальной природы вещей, выходит из мрака, открываясь нашему познанию и бросая вызов незыблемым основам культуры и религии. И меня этот свет озарил одним из первых.
Дальнейшее чтение книги, однако, оказывается практически невозможным, ибо многие вещи лежат за пределами моего разумения и остаются совершенно непонятными. Оттого поэма стала моей книгой судеб, спрятанным в этом сундуке-реликварии оракулом, который я вопрошаю в трудную минуту, открывая наугад. Тем же я занят и сейчас, укрывшись в подвале от ужасных криков, долетающих, впрочем, даже сюда, когда порыв ветра распахивает дверь на лестницу. В сумраке я окидываю взглядом ровные строчки стихов там, где остановился мой палец, и чувствую, как бешено колотится сердце, ведь именно здесь, на этой странице, изложены те же мысли, что роились внутри меня, когда я бежал из комнаты, напуганный видом крови и страданиями роженицы.
И тотчас же замечаю странное безмолвие, сковавшее и лестницу, и весь дом; даже завывания ветра снаружи и те утихли. Что же случилось? Охваченный ужасным предчувствием, я бросаюсь вверх по лестнице и сталкиваюсь с Маттеей, совершенно растрепанной. Мы оба падаем, чудом удержавшись, чтобы не скатиться кубарем по каменным ступеням. И Маттея кричит мне, без ума от счастья: это девочка, прелестная, как цветочек. Когда мы входим в комнату, ребенок уже голосит на руках у моей жены Лены, та улыбается мне, измученная этими преждевременными, тяжкими родами, а рядом суетятся моя мать и повитуха. Лена едва слышно просит окрестить малышку Марией, ибо, пребывая в муках и страхе, что настал ее последний час, дала такой обет Пречистой Деве.
* * *
На Лене, то есть на Элене ди Франческо ди Пьеро Аламанни, я женился 13 ноября 1448 года, ровно два месяца спустя после рождения Никколо, от которого моя мать, монна Джованна, предусмотрительно поспешила избавиться, подыскав ему кормилицу подальше от дома. За ней дали 1700 флоринов, брак был заключен при посредничестве мессера Козимо и с благословения моей матери: не желая отдавать своего единственного возлюбленного сына в руки любой другой женщины, кроме Джиневры, поскольку та была дочерью Паллы и к тому же совсем еще ребенком, моя мать, однако, как и все остальные, приходила в суеверный ужас, видя опустевшие дома знатных семейств, что со временем ветшали и увядали, подобно растениям, лишенным жизненной силы. Наш дом, казалось, тоже начинал увядать, ему нужна была женщина, плодовитая детородная машина, которой не стала бедняжка Джиневра и которой, возможно, по вине моего престарелого, слабосильного отца не стала она сама, монна Джованна. Лена, хотя и не выдающихся статей, зато бойкая и живая, сразу покорила мою мать, не оставив сомнений, что ей под силу подвигнуть или даже заставить меня исполнить мой супружеский долг.
Что и произошло летом 1449 года, когда мы все бежали в Кастельнуово-дель-Инчиза, спасаясь от чумы, проникшей даже в дом кузенов, сыновей дяди Ванни. Там, теснясь всего в нескольких комнатах, мы с Леной вынуждены были спать на одном узком ложе вместе. Оказавшись вдали от своих книг, я уже не мог оправдаться тем, что должен остаться в кабинете, чтобы дочитать или дописать что-то очень важное, или подняться на крышу, чтобы наблюдать полет кометы, и Лена, лучше меня знавшая, что нужно делать, вскорости забеременела. Чтобы сделать ее комнату более уютной и красивой, я одолжил два тонких, но широких матраса, хоть и без подушек, и даже гобелен со свитками и грифонами, который повесил над кроватью: когда служанки придут к нам прибраться, пусть видят, что я настоящий рыцарь, не чета моим простакам-кузенам. Но 18 февраля 1450 года, несмотря на мор, по-прежнему свирепствовавший во Флоренции, я вынужден был отправить их с моей матерью домой, поскольку близился час родов.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































