Текст книги "Улыбка Катерины. История матери Леонардо"
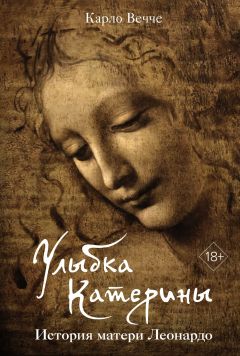
Автор книги: Карло Вечче
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 34 страниц)
Вернувшись в Венецию, я суну эту книгу под нос брату Иеронимо и его глазастым писцам, чтобы продемонстрировать свою честность и добросовестность. Все, чем я занят, – здесь ограничено крохотным оконцем кабинета-спальни, стенами склада и пределами венецианского квартала, если не считать тех немногих дел, которыми мне приходится заниматься лично: встречи с консулом-байло и другими венецианскими чиновниками, переговоры и купля-продажа, надзор за погрузкой и разгрузкой, когда уходит или приходит корабль, натуральный обмен, нотариальные документы, поручительства, доверенности, а также разнообразные налоги и таможенные подати бесконечно меняющихся византийских властей.
В книгу заносится все, включая обширную сеть связей, кораблей и корреспондентов, что простирается от предместий Константинополя до самых отдаленных портов Великого и Средиземного морей, от Таны до Трабезонда, от Негропонте[53]53
Негропонте – средневековое государство крестоносцев на острове Эвбея, возникшее после Четвертого крестового похода и просуществовавшее до 1470 года.
[Закрыть] до Кипра и Александрии, от Мессины до Майорки. Эта сеть не замечает границ между народами, языками и религиями, которые на первый взгляд кажутся непреодолимыми, но для купцов таковыми не являются: словно бы всего в нескольких милях от стен Константинополя, по ту сторону пролива, не собиралась чудовищная орда, готовая напасть и захватить город, а следом и весь мир. Со страниц книги сходит карта торговых путей, заполненных людьми, товарами и кораблями, что безо всяких портуланов непрестанно движутся по огромному соленому морю, создавая и укрепляя чье-то богатство и благополучие. Торговля, говорил маэстро Дзодзи, есть искусство, придуманное людьми, дабы восполнить то, что не смогла создать природа или чего не пожелал создать Господь, и обеспечить каждую страну всеми надобностями и удобствами для полноценного человеческого существования. Благодаря этому искусству, соединяющему людей и далекие страны, целый мир становится одним большим городом.
Из Венеции мне пишут брат Иеронимо и патриции-банкиры, Пьеро Михиль и Марино Барбо, занося в реестры все дебетовые и кредитные операции, направляя векселя. За три с половиной года, что я занимаюсь ввозом из Республики невероятного числа товаров самых разных видов, от дорогих шерстяных и шелковых тканей до изделий из серебра и муранского стекла, отсылая взамен болгарский и валашский воск, пряности, перец, шелк, шкуры и меха, металлы, злаки, провиант и вина, наши обороты достигли астрономической цифры по меньшей мере 500 000 иперпиров, то есть 170 000 золотых дукатов. И все это, не считая редких и крайне небольших сумм, – без привлечения всей той чудовищной денежной массы, что должна воплощаться лишь в наших руках и руках наших партнеров, в виде настоящих монет из золота, серебра и драгоценных сплавов, которые в противном случае только отягощали бы кошельки и сундуки торговцев, а то оказались бы на дне морском или в алчных руках пиратов.
Чтобы обеспечить этот денежный поток, достаточно, опять же, обычной бумаги и записей на ней: простых или переводных векселей и банковских учетных книг, куда вносится информация по аккредитивам и платежным поручениям, депозитам, взаимозачетам, дебету и кредиту. Куда чаще, чем церковь Сан-Марко, я за эти три года посещаю банки, одновременно открывая множество разных счетов. Обычный лист бумаги, простой росчерк пера – и готово: прибыль, полученная в Константинополе, зачисляется на счет в Венеции. И все благодаря записям. Того, что не запишешь, не существует.
В главной книге, которую я открываю каждый божий день, после обеда или вечером, при свете масляной лампы, содержится весь мой мир. Долгие часы, что я проводил в сумраке, разбирая записи на листах, листочках и просто клочках бумаги, а также собственные, в мемориале и ежедневнике; производя расчеты, всегда – в одиночестве и обычно – в уме; переписывая все это по порядку в книгу, не забыв отметить, на какой странице зарегистрировал счет. После замены сломанной скамьи на куда более удобное подобающее седалище, заказанное при посредничестве Дзордзи у одного плотника в Пере, я с еще большей охотой погружаюсь в недра священного ковчега – конторки.
Мои выходы на улицу ради собственного удовольствия становятся все реже и короче, а по общественным и торговым делам – только тогда, когда я и впрямь не могу этого избежать: вроде того раза, во время карнавала 1437 года, когда я даже устроил у себя прием с музыкантами, потратив на это кровных девять иперпиров; или в июле 1438-го, когда мы праздновали возвращение байло в Венецию по окончании полномочий. Душа моя, и без того полная страха и уныния, становится еще более мрачной, одинокой, упрямой, нелюдимой – и в то же время дотошной, методичной, расчетливой, щепетильной в отношении мелких привычек и ежедневного распорядка, отмеряемого механическими часами на башне по соседству с дворцом байло и торговой галереей, младшим братом часов Сант-Алипио, что на углу базилики Сан-Марко, торжественно установленным несколько лет назад, чтобы создать мало-мальскую иллюзию родного дома.
Даже время изменилось, думаю я, слушая этот звон: оно стало слишком конкретным, измеримым, накрепко связанным с обещаниями оплаты, расчетом времени доставки и ежедневного пробега, сроков действия договоров и поручений, прибытия и отправления торговых галей, страховки-сигурта. Чем-то, что я могу контролировать или, по крайней мере, считать, что контролирую, отвращая тем самым страх смерти. Власть капитала-каведала не кончается со смертью человека или банкротством и закрытием предприятия, она кажется сущностью бестелесной, духовной. Может случиться, однажды весь мир окутает бескрайняя невидимая сеть, состоящая из нематериальных сущностей, каждая из которых будет связана со всеми прочими, и деньги станут перемещаться по воздуху, невидимые, как духи или демоны; и если это произойдет, то недалек уже день Страшного суда, когда Господь наш решит, что более не нуждается в этих жалких творениях собственных рук, поклоняющихся ныне не ему, а иному богу, и произнесет свой приговор, исторгнув его с тем же нечеловеческим воплем и запахом ладана, что и уста старого деревянного распятия.
Я завел привычку работать допоздна, засиживаясь все дольше, ведь когда наступает ночь и бой часов яснее слышится в уличной тишине, мне снова чудится тот же ужас, что и в детстве, одолевает боязнь темноты и одиночества: я даже заснуть не могу. Чтобы почувствовать себя в безопасности, мне совершенно необходимо прижаться к другому телу, как я некогда прижимался к Марии или, в последние годы, к Лене. Но вовсе не для того, чтобы столь порочным способом совершить плотское совокупление с женским телом, нет. С Леной все было совсем так же, как с Марией: достаточно мне было, положив голову ей на грудь, втянуть в рот сосок, как я почти сразу же засыпал. Я быстро подсчитываю в уме: за шесть лет или около того, ложась в постель с Леной, я проникал в нее не более четырех раз, но каждую ночь каждого божьего дня, сам того почти не осознавая, прижимался к ней сзади.
И теперь мне снова нужно тело, такое же теплое и мягкое, как у Марии и Лены, в которое мне также нужно будет время от времени сбрасывать семя: лекарь Панаридос велел делать это не реже раза в месяц, поскольку от воздержания может развиться подагра; я также должен вести точный учет таких случаев в другом мемориале. Если я плохо сплю или не сплю вовсе, весь день потом срываюсь по любому поводу и часто делаю ошибки в вычислениях и записях. Так не годится. Самое лучшее и быстрое для Константинополя решение – это теплое и мягкое тело купить. Рабыню, или, как здесь говорят, голову. К тому же это еще и выгодно, ведь товары, купленные вблизи места их происхождения, стоят намного дешевле, чем в Венеции, да и налогов с таможенными пошлинами платишь куда меньше.
Рабов, насколько мне известно, практически всегда привозят с портовых рынков Великого моря, главным образом из Таны. Так что я незамедлительно пытаюсь наладить отношения с тамошним корреспондентом Франческо Корнарио, братом Якомо Корнарио, моего партнера в Константинополе. Я завожу ему счет в главной книге, лично занимаюсь оформлением сделок, получаю векселя как для него, так и для его приятелей из Таны, Дзуана Барбариго, Бортоламио Россо и Мойзе Бона, к компании которых в погоне за наживой недавно примкнул и бывший арбалетчик Катарин Контарини. Не знаю, насколько можно доверять этим опрометчивым и беспринципным искателям приключений: до меня доходили слухи, что они даже создали предприятие, чтобы отправиться в какую-то глушь и копать там сокровища, более того, забрали с собой все инструменты, что я отправил им кораблем из Константинополя. Просто безумие! Впрочем, выбора у меня нет. В Тане они, не я, а именно оттуда поступают икра, перец, медь, просо, червленые ткани, соболиный мех, вяленая и маринованная осетрина; и в первую очередь головы. Все, что приносит добрую прибыль.
Но мне нет нужды дожидаться прихода муды из Таны. Достаточно сесть в трагетто и, переправившись на ту сторону Золотого Рога, на склад одного генуэзского купца в Пере, 15 января 1437 года купить себе рабыню русскую, лет около 16, из народа русов, прозванием Мария, скрупулезно указав в мемориале, а затем и в главной книге: никоими хворями не страдает, как заведено; это примечание, как заведено, делается не на основании простого заявления продавца, а только после тщательного осмотра товара.
Как заведено, Мария должна быть выставлена обнаженной посреди большой комнаты. Ей всего шестнадцать, но она выше меня, длинные черные волосы ниспадают на белую как снег спину, крохотные глазки цвета янтаря на острой мордочке, сразу напомнившей мне какого-то хищника, и крепкие грудки – отменного достоинства, как утверждает перекупщик Пьеро даль Поццо, дабы оправдать далеко не низкую цену: целых 114 иперпиров, почти на двадцать больше, чем обычно запрашивают здесь за молодую рабыню того же возраста и стати. Девушку генуэзец недавно приобрел в Порто-Пизано[54]54
Порто-Пизано – пизанский порт в устье Дона, ныне село Бессергеновка.
[Закрыть] у посредника-татарина, который выкупил ее из сераля среди прочих женщин, угнанных в рабство во время недавних набегов на Русь. О девственности он не упоминает: возможно, за время пребывания в Тартарии товар был несколько подпорчен, но у меня нет желания вникать в такие подробности. Мария, хоть и носившая раньше русское христианское имя Марья, на днях была крещена в католичество по латинскому обряду братом ордена Святого Франциска, что весьма радует. Впрочем, ни единого слова ни на одном языке, кроме родного, она до сих пор не знает. Руки-ноги у нее сильные, работать сможет хорошо и долго.
Пьеро предлагает мне проверить качество товара, водя моей рукой по телу Марии, но я ограничиваюсь тем, что ощупываю грудь. Кожа под пальцами мягкая как шелк, и я сразу вспоминаю мою кормилицу Марию: даже запах тот же. А эта глаза опустила, на меня не смотрит, никого не видит, будто разглядывает что-то совсем в другом месте. В сырой, просторной комнате зябко, но обнаженная девушка, кажется, ничуть не страдает: наверное, привыкла, она ведь и сама родом из страны снега и льда; только чуть вздрагивает, когда касаюсь кончиками пальцев ее сосков. Но тут дело может быть не в холоде.
Приняв все условия перекупщика, я велю Марии надеть драную рубаху-камизу странного покроя, должно быть, ту же, в которой ее привезли из Порто-Пизано, и веду домой. На какое-то время приходится запереть ее в каморке на втором этаже, вверив заботам старухи-гречанки, которая моет и расчесывает ее, чтобы не выглядела такой дикой, а после укладывает спать на соломенном тюфяке. Старухе я объяснил все, что ей нужно передать девушке, на словах, а главным образом жестами. Надеюсь, убедить Марию не составит большого труда. И вот как-то поздним вечером, когда я работаю за своей конторкой, из зала в комнату шлепают босые ноги, доносится шорох падающей на пол рубахи, скрип кровати и запах свежевымытой кожи. Я не обращаю внимания и, даже не обернувшись, заканчиваю со счетами. Потом встаю, гашу лампу, раздеваюсь, забираюсь под простыни, прижимаюсь к этому телу, которое ощутимо больше моего, и почти сразу же засыпаю.
С тех пор мы каждый вечер повторяем один и тот же ритуал. Пока Мария хозяйничает, занимаясь повседневной работой, шьет, готовит щелок или лущит бобы, я в своей комнате погружаюсь в работу над главной книгой. Когда в доме гасят свет, Мария должна молча войти, не запнувшись о конторку, раздеться донага и лечь в постель, не привлекая внимания хозяина, который через некоторое время закрывает главную книгу, гасит свет, идет помочиться в нужный чулан, после чего наконец, так и не взглянув на нее, ложится рядом. На рассвете она встает первой, не будя меня, и спускается во двор, где начинает новый день. Все на складе знают, где она проводит ночи, однако никто и никогда не видел ее рядом с хозяином; впрочем, жаловаться и роптать здесь не на что, поскольку с появлением этой святой Марии хозяин вроде бы стал немного человечнее и уже не срывается на всех работников подряд.
Мария недолго остается единственной моей прислугой. 23 ноября 1437 года в главной книге появляется запись о приобретении раба-авогасса, именем Дзордзи, туповатого восемнадцатилетнего здоровяка, купленного за девяносто пять иперпиров у генуэзца Империале Спинолы через того же Пьеро, который вместе со своим братом Дзуаном понемногу стал моим доверенным посредником в этой щекотливой товарной отрасли. Марию и Дзордзи я оставляю дома для личного пользования, хотя к тому времени уже вовсю занимаюсь новым делом, каковое, будучи сопряжено со значительными рисками в части сохранности, порчи и утери товара, может, однако, принести не менее значительную прибыль.
Дела здесь, конечно, уже совсем не те, что были когда-то, лет сорок-пятьдесят назад, то есть до Тамерланова нашествия, опустошившего Левант и Кавказ. Несмотря на то что Тану удалось отстроить, происхождение товара резко изменилось. Если раньше наибольшим спросом пользовались рабы из Черкесии, то теперь преобладают русские, а следом за ними – татары. Татары, также называемые балабанами, и стоят меньше, причем мужчины дешевле женщин. Пути доставки у них тоже сильно различаются: мужчин можно сразу приковать к веслам на галеях или отправить на тяжелые работы в Сицилию или Испанию. Женщины же, особенно молодые, лет двадцати, или девушки-подростки пользуются спросом в Италии, на наших основных рынках сбыта, в Венеции и Генуе.
Нужно непременно иметь в виду, что рынок рабов – сезонный, как и рынок зерна: татары захватывают товар весной-летом, во время набегов, а в Константинополь он доставляется уже в августе-сентябре. Ощутимы и колебания цен: в Тане на рабыню в возрасте одиннадцати-шестнадцати лет я бы потратил всего шестьсот асперов серебром, то есть десять золотых дукатов; в Константинополе за тот же товар с меня дерут чуть ли не втрое, а в Венеции я могу продать его и за пятьдесят дукатов, если не больше. Однако из итоговой суммы продажи придется вычесть расходы на перекупщика, содержание рабов, которые все это время должны что-то есть, а также быть соответственно одеты, на медицинское обслуживание, если оно, к несчастью, понадобится, на перевозку, пошлины и налоги. Впрочем, мне сообщили, есть и тариф «все включено»: от Таны до Венеции – четыре с половиной дуката. Кроме того, приходится оплачивать сигурта, поскольку рабам случается умирать от чумы или других болезней, а с ними теряется и прибыль, если она, конечно, не застрахована. Прикинув мысленно цифры, я прихожу к выводу, что дело это достаточно выгодное, и начинаю торговать сам, собственным промышлением, или по поручениям других.
Записывать все, записывать всегда, поскольку того, что не запишешь, и не существует, повторяю я себе каждый раз, когда в списки товаров, которые я вожу туда-сюда через Средиземное море, приходится вносить не предметы, а людей. И такое случается нередко. Может быть, только в строчках моей главной книги, где всплывает их имя и возраст, а иногда и особые приметы или недостатки каждого, они и оставляют единственный след своего жалкого существования, а значит, не исчезают незамеченными в потоке жизни, не имея ни голоса, ни облика.
Впрочем, я прекрасно понимаю, что записывать можно не все. Жарким августовским днем 1439 года я слышу какой-то шум во дворе и следом громкий стук в дверь моего кабинета. Кто бы это мог быть? Мария, как и все прочие работники и слуги, знает: когда я, покончив с тяготами жизни внешней, уединяюсь, подобно святому Иерониму, за конторкой, чтобы позаниматься главной книгой, никто не должен меня беспокоить. Но прежде чем я успеваю ответить, дверь распахивается, и на пороге, сразу заполнив собой всю комнату, возникает великан в капюшоне. Суконный капюшон летит на пол, и под ним обнаруживаются весьма знакомые рыжие волосы и борода, косматая и взмокшая от пота. Мое раздражение немедленно сменяется удивлением, а удивление – радостью.
С капитаном мы познакомились злосчастным ноябрьским вечером 1436 года. Я поднимался по пустынному переулку, направляясь к своему временному дому в Галате после тщетных и утомительных поисков более действенного лекарства для умирающего дзовене Антонио, нежели пресловутое manus Christi. Вдруг меня обступили четыре мрачные фигуры: только кончики ножей поблескивали в темноте. Но не успел я даже по-настоящему испугаться, как явившийся из ниоткуда рыжебородый великан похватал всех четверых голыми руками и поочередно отправил кувырком вниз по склону. Великан проводил меня до дома, так что уже бездыханного Антонио и рыдающую сиделку мы обнаружили вместе; именно он помог подготовить тело и облачить его в подобающее платье; именно он снес юношу на руках, с неожиданной нежностью уложил на погребальные дроги и остался на скромные похороны в монастыре Святого Франциска.
Термо с женой и тремя дочерьми до сих пор живет неподалеку. Правда, дома он почти не бывает, возвращаясь два-три раза в год после долгих торговых плаваний, в ходе которых огибает на принадлежащей ему гриппарии все Великое море. Но с того самого вечера никогда не забывает заскочить ко мне и справиться о моих делах – тайком, накинув капюшон, поскольку справедливо опасается, что по ту сторону Золотого Рога, в Константинополе и особенно в венецианском квартале, за голову старого пирата-генуэзца до сих пор объявлена награда. А я откликаюсь всякий раз, когда ему в этом городе лжецов нужна помощь в делах законных и финансовых, ведь сам Термо едва умеет читать, а бумаги и писанину ненавидит, объявляя не более чем обманом и жульничеством; и в этом он безусловно прав.
Мир Термо совсем не похож на мой: он состоит из сделок, скрепляемых простым рукопожатием, из торга и мены, реальных вещей и людей, а не абстракций в виде букв и цифр. Только ради него я готов на кое-какие операции «вчерную», не оставляющие следов в моих записях, ни в мемориале, ни в ежедневнике, ни в главной книге, что освобождает Термо от необходимости идти к нотариусу, просиживать в приемных чиновников-коррупционеров из генуэзского консульства, а заодно и от византийских податей. Операций, которые нигде не записаны, в мире Якомо не существует: однако в мире Термо они есть.
Термо только что приплыл из Таны. Он хочет, чтобы Якомо оплатил партию икры и рыбьего клея, которую прислал Джованни да Сиена, ведущий дела с Корнарио; и еще, добавляет он, чуть понизив голос, три головы по сходной цене. Я сразу понимаю, что здесь что-то неладно: вероятно, эти трое рабов принадлежат вовсе не Джованни, а самому Термо, и тот хочет продать их из-под полы, заявив, чтобы избежать проверок и налогов, что они записаны на Джованни. Ладно, я сам этим займусь, а что до рабов, привлеку посредника, Пьеро даль Поццо: он человек надежный, умеет держать рот на замке. Завтра же отправлю дзовене Дзуането в Перу, с лодкой, чтобы перевезти товар в Константинополь, и комиссионными: стоить будет сущий пустяк, не больше трех иперпиров за все. В шутку добавляю, что для начала мне, однако, придется вписать имя Термо в главную книгу, дабы занести в реестр расходы на пошлину – естественно, на счет Джованни; по крайней мере, придется указать корабль, с которого выгружен товар: доставлено из Таны на борту гриппарии, принадлежащей Термо да Сарцане.
Термо даже не улыбается. Как ни странно, дела его на этом не заканчиваются: Якомо, говорит он, должен лично приехать в Перу и своими глазами увидеть кое-что важное. Нынче же, самое позднее завтра. Я не могу ему отказать и на следующее утро схожу с лодки на том берегу Золотого Рога. Термо, сгорая от нетерпения, уже поджидает меня на причале и сразу ведет туда, где стоит на якоре его «Святая Катерина». Капитан без обиняков заявляет, что продает гриппарию, а я должен помочь выторговать за нее как можно больше, поскольку он решил, забрав жену и дочерей, навсегда уехать из Константинополя и осесть в родном краю, где и станет доживать спокойно те немногие дни, что ему остались. Он мог бы предложить корабль турецкому перекупщику в Скутари, последнем порту, куда заходил перед отплытием в Перу, и тоже заработал бы прилично, но не захотел. Турки теперь скупают и строят суда самых разных размеров, большие и малые: возможно, вскоре то странное перемирие, что существует между двумя берегами пролива, будет нарушено, и тогда все кончится. Так что отдавать им «Святую Катерину», которая, при ее маневренности и скорости, может стать весьма опасным противником в войне против христиан, Термо не собирается. Нет, он хочет продать ее в Константинополе, только без всяких нотариусов, свидетелей и бумаг, без подписей и росчерков пера: оплата наличными, и не византийской, турецкой или татарской монетой, которая в Валь-ди-Магре или Луниджане гроша ломаного не стоит. Ему нужны исключительно золотые дукаты, флорины и дженовины, переданные из рук в руки в присутствии Якомо, и никого другого.
У меня нет слов. Такого я явно не ожидал. Термо совершенно прав, этому миру скоро конец, и чем раньше отсюда убраться, тем лучше. Я тоже собираюсь уехать, жду только прихода очередного республиканского конвоя, чтобы погрузить свой нехитрый скарб и отплыть. Правда, мне сказали, что придется задержаться еще на несколько месяцев из-за этой бездарности, греческого императора, который, видите ли, решил вернуться из Италии под охраной все тех же венецианцев, обильно осыпанный папскими благословениями, зато без денег, оружия и солдат, которые были бы ему куда полезнее. Но и я предположить не мог, что к тем же выводам пришел Термо, человек паруса и меча, у которого вся жизнь связана с Великим морем, даже жена и та черкешенка.
А ведь продать корабль непросто. Вглядевшись, я замечаю, что гриппария практически пуста: только ходят туда-сюда камалли под присмотром рулевого. Куда же подевались гребцы и команда? Наверняка Термо успел со всеми рассчитаться, а большую часть рабов-гребцов продал еще до прихода в Перу: возможно, в Скутари, тем же туркам, или тайком перегрузив на генуэзский корабль, идущий в Египет. Сама гриппария в приличном состоянии и может стоить несколько сотен дукатов; разумеется, если Термо хочет обернуться побыстрее, ему придется согласиться на меньшую сумму. Еще бы найти того, кто способен дать хорошую цену и у кого по нынешним временам водятся наличные… Гораздо надежнее и удобнее было бы просто выписать ему вексель, который обналичат сразу по прибытии в Геную. Но не для Термо: он хочет настоящие деньги, всю сумму разом и, черт возьми, немедленно. Ладно, найду ему покупателя, хотя это займет несколько дней. Гриппария, безусловно, заинтересует кое-кого из греческих судовладельцев, чьи корабли курсируют между Ираклионом, Салониками и Трабезондом, или тех левантийцев, которые как ни в чем не бывало продолжают набивать кошелек, нисколько не заботясь о турках и грядущем конце света.
Но и это еще не все. Термо ведет меня на пропахший икрой, рыбьим клеем и пряностями склад, где к столбу прикованы двое черкесских юношей. Да, я уже понял: о них, как обычно, позаботятся Дзуан и Пьеро, которым не составит проблемы найти покупателя, не объявляя происхождения товара. Но, помнится, голов должно быть три? Термо молча тащит меня по крутому склону к своему дому, жестом велит подняться на второй этаж, в большую комнату с камином и кухней. Я вижу улыбки его домочадцев: меня ждали. На столе овальное блюдо с блинчиками из трески, миска превосходной икры, только что привезенной из Таны, просяной хлеб, кувшин вина. Здесь его женщина, Дака, чьи красота и сила по-прежнему при ней. Здесь три его дочери. Но что это за коротко стриженный светловолосый мальчишка в бешмете жмется в углу? Если он раб, то отчего не на складе? Отчего не в цепях? Отчего прячет лицо и не поднимает глаз? Это не мальчишка, объясняет Термо, не желая ходить вокруг да около, это девчонка. Зовут Катерина, лет вроде бы тринадцать-четырнадцать, совершенно здорова, как заведено, и отныне принадлежит Якомо, если тот возьмет ее с собой в Венецию; Термо ему полностью доверяет. Цепи и веревки не нужны, девчонка не сбежит. Не зная, что ответить, я сажусь с ними за стол, но ем немного, пью и того меньше, в основном отмалчиваюсь, а после смущенно ухожу в сопровождении Катерины и Термо. На лодке, перед тем как распрощаться с капитаном, я будто бы мимоходом спрашиваю у него о цене. Термо, старый пират, торговаться не любит и вполголоса отвечает: как заведено. Ладно, через неделю добавлю к сумме, вырученной за корабль, еще двадцать дукатов за рабыню, которая на первый взгляд стоит гораздо дороже. Едва лодка отчаливает, Термо резко разворачивается и уходит, даже не попрощавшись, словно куда-то торопится, но мне кажется, что за мгновение до этого я вижу на его лице крохотное блестящее пятнышко. Нет, это невозможно: должно быть, просто отсвет, Термо ведь никогда в жизни не плакал. Я оборачиваюсь взглянуть на девушку. Она так ни разу и не подняла глаз ни на Термо, ни на меня и теперь сидит на дне лодки, обхватив колени руками и склонив голову, совершенно замкнувшаяся в своем молчании.
Так в моем доме при складе появилась Катерина. В книгу она не записана, а значит, и не существует, однако выходит во двор, поднимается и спускается по лестнице, молча слушается и выполняет всю нужную работу. Я ее почти не вижу, полностью доверив заботы о ней Марии, которая первым делом выбросила совершенно изодранную мужскую одежду. Потом она раздела девушку донага, заставив сбросить все, кроме оловянного колечка, снимать которое та отказалась наотрез, вымыла в горячей воде, а прежде чем одеть в рубашку и длинную юбку и сунуть ноги в пару грубых деревянных башмаков, всю ощупала и осмотрела, хотя и с явным пренебрежением. Бывший на Катерине корсет она сняла, не слишком туго обернув молодые грудки полосой ткани, чтобы те могли дышать. Сейчас новая рабыня выглядит даже слегка забавно: одетая служанкой, в рубахе, которая ей велика, с коротким ежиком отрастающих волос и взглядом побитой собаки. Странная, однако, путела: на днях я видел в окно, как она, присев в минуту отдыха у свежеструганых досок во дворе, делала на них угольком какие-то пометки. Неужто эта невежественная дикарка умеет писать? Или, того хуже, колдовские знаки чертит? Сглазить меня решила?
Когда она ушла, я спустился взглянуть, это оказались простенькие рисунки, одни линии контура, но достаточно красивые и выразительные: сложное переплетение растений и цветов, похожее на морские узлы, загадочная лилия, напоминающая ирис с флорентийских монет, а кроме того, ленивый кот, спящий у очага, мой конь, туповатое лицо раба Дзордзи… Есть и еще одно лицо, которое я вроде бы узнаю, поскольку вижу каждое утро в зеркале: лысая голова, очки на носу, глупый вид. Наверное, мне следовало бы ее выпороть и в то же время нет: в Венеции с таким природным даром она могла бы весьма успешно выдумывать узоры для тканей. А однажды ночью лежащая рядом со мной Мария, кисло дыша кипрским вином, чашу которого она тайком опрокидывает каждый вечер в кухне перед тем, как подняться на второй этаж, что я давным-давно заметил, но притворяюсь, что не знаю и ни разу ее не упрекнул, шепнула мне с сильным славянским акцентом, от которого так и не избавилась: она еще девица.
26 февраля 1440 года, утренний свет уже полностью заливает в комнату. Прошлой ночью я не спал, велев Марии меня не тревожить и даже завтрака не приносить: когда закончу, сам спущусь в кухню поесть. Подхожу к умывальнику, чтобы ополоснуть лицо, гляжусь в крохотное зеркальце. Вчера был мой день рождения, но об этом никто не знает, так что я избежал ненужных торжеств, а заодно и ненужных расходов. Мне исполнилось тридцать семь, но в зеркале старик, жалкий, тщедушный, беззубый, наполовину облысевший; одинокий. Каков нынче баланс этих лет и всей моей жизни? Как мне уравнять страницы дебета и кредита в расчетной книге моего убогого существования? Смогу ли я когда-нибудь заполнить страницы, которые слишком часто оставлял пустыми, потому что никогда по-настоящему не жил, никогда по-настоящему не любил?
Меня будят колокол на часовой башне, голоса и шум внизу во дворе, где мужчины и женщины уже заняты подготовкой к отъезду: выносят последние остатки со склада, пакуют вещи в мешки, отмеченные моим знаком, монограммой JB, увенчанной крестом, грузят в повозки. Докучную инвентарную опись я передал Морезини, который останется в Константинополе заниматься делами Бадоеров; наверняка он найдет способ заставить кое-что исчезнуть. Со мной в Венецию возвращается другой дзовене, Дзуането, и с ним трое рабов: Мария, Дзордзи и Катерина. Конюшня уже пуста; серая кобыла, новая, которую я купил взамен обжоры-гнедого, перепродана вместе с турецким чепраком, попоной, седлом и уздечкой, лодка тоже.
Об оставшихся в комнате вещах я позабочусь сам, занеся их в отдельный список и уложив в два сундука. В первом – немногая приличная одежда: алый плащ по брабантской моде, черная мантия, подбитая лисьим мехом, шелковые рубахи, шитые золотом платки, чулки и туфли. Для плавания на галее я приготовил более практичный кафтан грубого сукна, шерстяную поддеву, дорожную шляпу и сапоги, а также тючок, набитый рубахами, штанами, чулками, гребешками, мылом, платками, полотенцами, здесь же бритва, запасные очки, бумага, перо, чернильница и тоненький мемориал, пока не заполненный. В кожаном кошеле, который я намереваюсь всегда носить с собой, несколько украшений и золотой коготь для чистки зубов, которые у меня вконец испортились. В другом сундуке – несколько ценных вещей: подсвечники, чашки и серебряные столовые приборы с гербом Бадоеров, маленькая византийская икона Влахернской Божьей Матери, которую я купил на распродаже. В последний большой тюк я увязываю шкатулки и кошельки с разрозненными, перевязанными или нанизанными на гвоздь клочками бумаги, мемориалы и ежедневники.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































