Текст книги "Улыбка Катерины. История матери Леонардо"
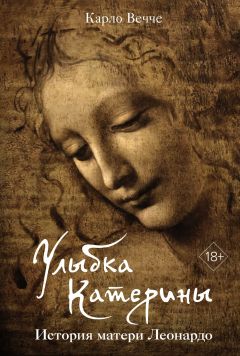
Автор книги: Карло Вечче
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 34 страниц)
Загнав Катерину в воду, я старательно отмываю ее губкой, щеткой и даже душистым мылом с ароматом сандала, растираю чистым полотенцем. Зачарованная этой мягкой, словно светящейся кожей, пускай немного высохшей и потрескавшейся за время плавания, я медленно наношу ей на спину и ягодицы жирную мазь, что дала мне babushka Ирина, потом разворачиваю к себе лицом, перехожу на шею, на грудь. Девушка покорно подчиняется, глядит безучастно. Нагнувшись растереть ей ноги, я осматриваю ее расщелину и, как учила Ирина, просовываю два пальца между нижними губами, вызвав тихий стон. Я сразу отдергиваю руку, поскольку обнаружила то, что и должна была обнаружить, но эхо ее стона еще долго звучит у меня в ушах, и это почему-то меня тревожит.
Потом я начинаю одевать ее, пропустив под мышками полосу ткани, но не слишком затягивая: похоже, эти юные грудки слишком долго были сдавлены корсетом, пора бы им немного подышать. Натягиваю рубаху, длинную юбку, свободную и без поддевы, как носят все женщины из простонародья, сую ее ноги в грубые деревянные башмаки и не без удовольствия оглядываю плоды своего труда: дерзкий мальчишка превратился в безымянную служанку, немного забавную в этой рубахе, которая ей велика, с коротким встрепанным ежиком и взглядом побитой собаки. На меня девушка не смотрит, и я понимаю, что ей-то как раз не до шуток. Завтра повяжу ей голову серым холщовым платком, наподобие того тюрбана, что скрывает мою длинную, цвета воронова крыла гриву: и на служанку будет больше похожа, и эти неприлично короткие волосы скроем. Пока они отрастут, не один месяц уйдет. И почему все, что бы мы, женщины, ни сделали, немедля объявляется неприличным? Покажем длинные волосы – грех, мол, мужские желания разжигаем; обрежем – и того хуже.
Скоро ночь, во дворе зажигают факелы. Я сажаю Катерину за стол, ставлю перед ней остатки вчерашней grechki и фляжку разбавленного вина. Едим молча. Ее распаренная кожа пахнет даже сильнее, и я снова ощущаю ту же непонятную тревогу, что овладела мною чуть раньше. Покончив с ужином, вытаскиваю из угла свой старый тюфяк, кладу под стол, накрываю одеялом и довольно грубо даю Катерине понять, что это ее постель. Она молча ложится, поворачивается спиной. Ну и ладно, все равно мне пора наверх. Напоследок достаю из буфета бутыль кипрского вина, крепкого, пряного, а главное – не разбавленного, и выпиваю полную чашу за здоровье парона.
Поутру у меня, как всегда, хорошее настроение. Должно быть, что-то приятное снилось, хотя я уже и не помню что. Спускаюсь вниз, напевая себе под нос на своем родном языке, который понемногу забываю; задрав юбку, опорожняю в укромном уголке мочевой пузырь; умываю у каменного фонтана лицо и плечи; здороваюсь во дворе с работниками и камалли, чья смена начинается с рассветом. Захожу окатить нерадивого Дзордзи ведром воды, ему ведь нужно было спозаранку прибраться в конюшне и накормить лошадь. Потом распахиваю дверь в кухню и, грубо пнув Катерини тюфяк, объявляю во весь голос: Katiusha, lyubov moya, dobroe utro. А в ответ слышу откуда-то снизу тихий голосок: spasibo. Нырнув под стол, вижу взлохмаченную белобрысую голову, торчащую из-под грязного одеяла, словно сноп соломы, и эти глаза, сверкающие, как бирюза, как драгоценные камни, позабытые каким-то волшебником.
Откуда же она знает мой язык? Неужели тоже русская? Тогда почему не сказала сразу? Слова льются из меня потоком, Катюша просто не успевает ничего разобрать. Я повторяю медленнее, и девушка, успевшая тем временем сесть, отвечает, мешая русский с неведомым мне языком; впрочем, его я тоже более-менее разбираю. Нет, она не rus, но ее кормилица, Ирина, была rus и научила ее всем этим словам; это была их шакобза, тайный язык охотников, которого другие женщины и девушки не понимали. Она сказала мне spasibo, потому что хотела поблагодарить за вчерашний день, ведь Мария вымыла ее и разделила с ней трапезу. А в благодарность обещает быть послушной, не перечить приказам и не пытаться сбежать.
Дальше я мало что понимаю. Откуда ты? Догадалась ли уже, что я такая же рабыня, а вовсе не госпожа? Пытаюсь объяснить, но дальше разговор не идет. Пробую сказать что-нибудь по-венециански и понимаю, что с этим языком она уже знакома и даже понемногу отвечает, хотя и с медовым акцентом генуэзцев, живущих по ту сторону Золотого Рога. Что ж, отныне, как заведено, язык человека, которому мы принадлежим, станет и нашим. А те, старые языки нашего детства навсегда забудутся. И лишь тайком, строго между нами, мы, соучастницы, будем по-прежнему с улыбкой перебрасываться парой фраз на нашей шакобзе: dobrò, kharashò, pozhàluista. Я так рада, будто нашла потерянную siestrionku. Катюша быстро учится, она хитра и умна, как лисичка. Вот только забывать не умеет так же быстро, как я: а ведь чем меньше помнишь, тем меньше страдаешь. Но кто знает, может, ей и вовсе не удастся забыть тот свободный мир, откуда она родом.
В сочельник, непривычно морозный, когда над огромным городом у моря даже выпало несколько снежинок, умерла Ирина. Наконец-то она обрела покой. Тело мы нашли под лестницей, где Ирина, кутаясь в свои лохмотья, привыкла ночевать. Лицо ее было столь безмятежным, словно во сне ей явился ангел, – а может, ангел и в самом деле сошел к ней с небес в эту святую ночь, чтобы принести прощение Богородицы-Теотокос и забрать с собой бессмертную душу. Осталось лишь иссохшее тело, и я настаиваю на том, чтобы его похоронили достойно, по-христиански: нельзя же вышвырнуть babushku на прокорм бродячим собакам! Я едва не выхожу из себя, поскольку хозяин, даже в это рождественское утро склонившийся над своей конторой, чтобы пересчитать дирхамы в турецкие асперы, делает вид, что не слышит: Ирина-то ведь ему не родня и не рабыня, в большой книге о ней ничего не написано, а значит, ее и не существует. Кроме того, она гречанка, да еще бывшая блудница и монахиня-расстрига. В конце концов, чтобы не слышать больше моих жалоб, он протягивает несколько медных монет; и в книгу свою не забывает занести, в графу расходы, хоть и без уточнения, просто на личные нужды.
Я зову Катюшу: знаешь, спрашиваю, что делать-то надо? Девушка кивает: помнит, как свою бабушку хоронила. Сперва обмыть и забальзамировать тело, обрядить его в лучшие одежды, снести на носилках в священную рощу, там водрузить на поленницу и восемь дней читать молитвы. Хотя меня душат слезы от тоски по babushke, я не могу не улыбнуться Катюшиным словам: это из какого же она края? Нет, ничего из того, о чем она говорит, сделать не получится. Расстелив на кухонном столе старую простыню, мы осторожно укладываем на нее легкое тело несчастной и всеми силами пытаемся распрямить окоченевшие от холода и смертельной судороги конечности. Потом, не раздевая Ирину, обмываем ей лицо и руки, туго подвязываем белым платком челюсть, чтобы закрыть беззубый рот, и заворачиваем тело в саван. Двое камалли взваливают его на плечи, для такого невесомого свертка большего и не нужно, и мы выходим в морозную серость, направляясь в крохотный монастырь Санта-Мария-деи-Монголи, монахини которого согласились похоронить babushku под вязом в освященной земле кладбища, больше смахивающего на огород, в покойном, обнесенном стеной уголке.
Siestrionka моя Катюша будто с какой звезды свалилась, всему-то ее учить приходится. Прежде всего, я объясняю, как надо креститься, только правильно, а не навыворот, как эти еретики-латинцы вроде хозяина и прочих франков; как целоваться троекратно, встречаясь и прощаясь, утром и вечером. Но потом вдруг обнаруживаю, что миры, откуда мы обе родом, не так далеки, как кажется. Например, Катюша рассказывает мне, что тоже кружилась в танце на священном летнем празднике и что купалась нагая в реке вместе с другими юношами и девушками, ночью, при полной луне, а я, прикрыв глаза, сразу представляю средь серебристых речных вод незрелое еще тело sestrionki.
А еще Катюша способна на настоящее чудо, каких в моей деревушке никто делать не мог. Поговаривали, будто это под силу только святым или монахам, руками которых водят сами ангелы: создавать образы, как на святых иконах. Мало-помалу она наполняет кухню фигурами, нарисованными углем или тем красным камнем, из которого здесь складывают дома: кошка, спящая у очага, хозяйская лошадь, туповатое лицо раба Дзордзи и даже лысая голова хозяина со знакомыми стеклышками на носу – если он такое увидит, непременно выпорет; а кроме того, невероятное сплетение цветов и растений, похожее на узелки, и странная лилия. Ну а святой образ она изобразить сможет? Девушка молча берет в руку уголек и несколькими штрихами набрасывает на штукатурке образ Пресвятой Богородицы, да будет она вовеки благословенна, той, что наверху, с покровом и распростертыми объятиями. У меня тотчас же наворачиваются слезы, и я начинаю благоговейно креститься. Какая же она счастливая, Катюша! Выходит, и ее рукой водит невидимый ангел!
Я, со своей стороны, учу ее всему, что должна уметь хорошая рабыня, и на всякий случай никогда не оставляю одну. Со временем там, где у Марии рвется из-под тюрбана копна черных волос, у Катюши, особенно если она, пыхтя, притащит два ведра воды, начинают проглядывать отрастающие золотистые локоны. Хозяин нас нисколько не пугает: он человек добрый, весь день работает, чтобы потом, удалившись к себе, повозиться с бумагой и гусиными перьями; но колдовство в его письменах нам не страшно, ведь я повесила над конторкой святую Влахернскую икону, которая уже прогнала озорных бесов, прятавшихся под кроватью и по ночам дергающих хозяина за ноги, отчего ему снились кошмары.
Катюше я о хозяине ничего не рассказываю и на вопросы о нем не отвечаю. Но, думаю, в душе она не может не задаваться вопросом, зачем это я вечерами, поужинав с ней на кухне и пособив со скромным ложем, всякий раз ухожу, оставляя ее одну и заперев дверь. Разумеется, она слышит, как тихонько шлепают по лестнице мои босые ноги и как потом скрипят половицы на втором этаже, в хозяйской спальне; наверняка уже поняла, что я с ним сплю. Но кто знает, что именно она там себе удумает? Может, что Мария – тайная супруга хозяина? Или переодетая рабыней княжна, которая по ночам обретает истинный облик и величие, но никому не может об этом рассказать? Или что-то еще? Чем вообще занимаются мужчина и женщина, когда возлягут вместе?
Жаль, конечно, что Катюша засыпает одна: может, ей бы хотелось спать со мной, так похожей на ее кормилицу Ирину, обнимать мое теплое, умиротворяющее тело…
Самый милый из подмастерьев-венецианцев – Дзуането: он всегда улыбается, останавливается с нами поболтать, но без всякого злого умысла. А еще, решив отчего-то, будто должен учить нас нежному венецианскому языку, терпеливо подсказывает нужные слова, исправляет ошибки в произношении, грамматике и синтаксисе. Раба-авогасса, Дзордзи, напротив, лучше не трогать: он словно дикий зверь, никогда не знаешь, что такому взбредет в голову. С ним лучше не оставаться наедине, не улыбаться и не оголять ненароком лодыжку или плечо, иначе не миновать беды; а Катюшу, как назло, так и тянет в конюшню, поскольку там живет существо, с которым она сразу же подружилась, – хозяйская серая кобыла: я не раз видела, как siestrionka обнимает ее, шепчет что-то на ухо и гладит гриву.
С Дзордзи Морезини, фактотумом и доверенным помощником хозяина, тоже нужно держать ухо востро, хотя и не как с беднягой-авогассом, а по иной причине. Морезини – хитрец и интриган, его лживые речи и слушать не следует. К тому же, стоит мне только, склонившись над корытом, начать выколачивать белье, он тут же прижимается сзади, давая ощутить твердость своего sramnogo uda, и не раз пытался сунуть руку мне под юбку, чтобы полапать голые ягодицы, пока однажды, получив увесистую оплеуху мокрой простыней, не растянулся в грязи прямо посреди двора. В остальном нас все уважают, поскольку знают, что мы – хозяйская собственность. Чтобы Катюша поняла, как это, я веду ее на склад и показываю мешки с драгоценными пряностями: вот видишь, клеймо на холстине? Тот странный знак, увенчанный крестом? Это символ хозяина, и никто не посмеет коснуться этих мешков, а тем более украсть их, потому что они – его собственность. Так же и с нами двумя, только рабынь, на наше счастье, не принято клеймить каленым железом, как лошадей или коров, но мы все равно что заклеймены, и это невидимое клеймо хоть немного защищает нас от других мужчин.
Катюша теперь каждый день сопровождает меня на рынок за покупками, как я когда-то сопровождала Ирину. Начав выходить за ворота склада, она понемногу узнает город, где оказалась, хотя и только в пределах венецианского квартала; дальше нам ходить запрещено. Хозяин, может, и добр, но строг и частенько берет в руки кнут: однажды даже я, рабыня днем, нянька ночью, успела его испробовать, когда пролила на драгоценный персидский ковер густое, словно чернила, и почти не отмывающееся вино. Вместе мы обходим главный ряд базара, то и дело останавливаясь у прилавков эмболов-венецианцев, и мне приходится не спускать с Катюши глаз, чтобы не потерять ее, оглушенную шумом и новыми впечатлениями: я ведь и сама поначалу была такой же. Иногда мы даже осмеливаемся выйти к воротам, пробитым в высокой стене, и молча разглядываем огромные лодки, длинные или пузатые, что доставили нас сюда.
А еще Катюшу вечно тянет в одно и то же место: на богатейший рыбный рынок, где она наслаждается удивительным зрелищем самых невероятных существ, сверкающих, переливающихся всеми цветами радуги на прилавках, а то и живых, вьющихся в больших лоханях: тогда они напоминают siestrionke гребенчатых осетров, плещущихся в реках ее родного края, или колдовских rusalok, которые грезились ей на мелководье. Выросшая в горах, Катюша и подумать не могла, что под темной морской гладью живет столько разных существ: она ведь, как и я, в то время знать не знала никакого моря.
Как-то раз, в конце января, поднявшись, по обыкновению, в мягких сумерках на второй этаж и раздевшись донага, я уже собираюсь было юркнуть постель и греть простыни, как вдруг обнаруживаю, что хозяин впервые за три года смотрит на меня, нарушив тем самым одно из неписаных правил, которые мы оба неукоснительно соблюдали: никогда не глядеть друг на друга. Он смотрит на меня, а значит, я существую. И впервые в жизни смущена собственной наготой, словно Ева, застигнутая Всевышним под Древом Добра и Зла. Хозяин говорит со мной, как не говорил за все три года. Его время в этом городе подошло к концу: он уедет, как только вернутся венецианские корабли. Мария тоже поедет вместе с ним в его Венецию, город столь же великолепный, сколь и Константинополь, но куда более богатый и процветающий, а не безнадежно лежащий в руинах: там множество рынков, лавок, домов, обставленных на любой вкус, там повсюду пышные одежды, шелка, драгоценности, благовония. Может быть, там он даже ее освободит, и она сможет начать новую жизнь.
Той ночью я, в отличие от хозяина, не могу уснуть, все лежу и грежу наяву, с открытыми глазами. Потом обращаю взор к святой иконе и до рассвета без устали молюсь. Когда же я спускаюсь во двор, мое волнение будто передается каждому, кто живет на складе: все они уже проснулись и мечутся туда-сюда. «Идут, – кричат они друг другу, – корабли идут». Вчера их уже видели за дальними мысами с генуэзской гриппарии, спешащей в Перу. Конвой на некотором удалении сопровождает подозрительная флотилия турецких судов. К вечеру они могут уже войти в Золотой Рог. Спускается даже хозяин, взъерошенный, едва проснувшийся, требует секретаря. Потом появляется и запыхавшийся байло: после высадки императорская процессия проследует через венецианский квартал, так что все купцы, банкиры и члены ремесленных гильдий должны быть готовы почтить государя и следовать за его огромной свитой к базилике Святой Софии. Я слышу эти слова, но понимаю немного, а хозяин нервно расхаживает по двору, в нижней рубахе, в ночном колпаке, прикрывающем лысину, и ворчит: расходы, расходы, опять одни расходы.
Часам к девяти все вроде бы готово, можно бы вздохнуть с облегчением. Но тут слышны крики детей под аркой: «Корабли, корабли!» И я наблюдаю невиданную прежде картину: по лестнице спускается хозяин. В коротком кафтане на меху, штанах, заправленных в высокие сапоги, и фетровой шляпе, скрывающей лысину, он кажется куда моложе и почти красивым. Велев этому животному Дзордзи подать лошадь, он с неожиданной ловкостью садится в седло и зовет Дзуането с Морезини: пойдемте, мол, взглянем на наши галеры. Потом замечает в углу и нас, Марию с Катюшей, испуганно замерших рука об руку с раскрытыми ртами, похожих, словно сестренки, и кричит: «Да-да, вы тоже ступайте». Дзуането накидывает на нас плащи, не дай бог простудимся, и все мы сломя голову бежим вслед за байло и хозяином на холм, откуда, с террасы разрушенного монастыря возле древней каменной башни, виден другой берег.
Погожий зимний день, воздух кристально чист и прозрачен. И вон же она, в проливе, величественная армада, огромные галеры Республики, идущие на всех парусах под гигантскими красно-бело-золотыми знаменами со львом святого Марка и двуглавым императорским орлом. Грохот барабанов эхом отдается по обе стороны пролива, визжат длинные трубы, весла дружно погружаются в воду. Во всем городе начинают звонить колокола. Я вижу, как хозяин глубоко вдыхает соленый воздух. Похоже, он счастлив.
Высадка начинается только на следующий день. Нам, двум рабыням, не по чину быть на улице, и мы смотрим из окна комнаты на втором этаже, украшенного снаружи самым безвкусным нашим ковром; прочие узорчатые ткани свисают с крюков на стене. Здесь же, у окна, и Дзуането, который утверждает, что счастлив стоять рядом с двумя живыми девушками, настолько не похожими на бледных путел, с которыми он, будучи в Венеции, едва успевал украдкой встретиться взглядами в церкви, прежде чем зоркие матери или нянюшки это замечали; время от времени его рука касается то одной из нас, то другой, но сейчас это не важно, настолько мы все взволнованны. Хозяин прямо под нами, вместе с прочими купцами-арендаторами нашего склада: кутается в алый плащ по брабантской моде, лысина скрыта строгим беретом темного сукна. Слышен радостный перезвон колоколов, звучат барабаны, трубы и флейты, стражники великого дуки оттесняют толпу по обе стороны улицы, чтобы дать процессии дорогу. Проходят воины с длинными пиками, глашатаи, ряды юношей и девушек, одетых в белое, потом длинная череда знаменосцев со всеми мыслимыми имперскими штандартами и значками, и сразу за ними, в сопровождении дзовене, несущего красное шелковое знамя с золотым двуглавым орлом, Калоиоанн, император ромеев: старый, усталый, больной, почти невидимый под камчатой мантией с горностаевой оторочкой и высокой остроконечной шапкой.
Шествие направляется к Святой Софии, и мы с Дзуането тоже следуем за ним, хоть и на некотором расстоянии. Разумеется, в переполненную базилику нам попасть не удается, приходится остаться на улице, слушая доносящиеся из-за бронзовых дверей благодарственные песнопения. Потом мы, чуть отойдя в сторону, разглядываем причудливые древние фигуры: треножник, обелиск, колонны в форме переплетенных змей – и в Святую Софию возвращаемся, когда молебен уже закончился, а церковь опустела, и только последние бедняки толпятся снаружи, надеясь утолить голод объедками, что остались на длинных скамьях. Нам тоже удается обнаружить нетронутую краюху хлеба и рыбешек, зажаренных старухой-монахиней, напевающей себе под нос: «Не падет Константинополь, не падет, пока рыбки в небеса не улетят со сковород». Базилика пуста, лишь наши шаги отдаются гулким эхом. Святость этого места, необъятного, пахнущего ладаном, изрезанного солнечными лучами-лезвиями, пробивающимися сквозь окна, окутывает нас.
В куполе над нашими головами мы видим образ ночного неба в ярком венце звезд, отражающихся в стекле и золоте; тысячи окон подобны глазам, а массивные арки над ними – ресницам. Ослепленная великолепием мозаик и инкрустаций, драгоценных камней, мрамора, порфира и яшмы, Катюша не знает, куда и глядеть. Я, благоговейно осенив себя крестом, простираюсь в молитве перед образом Теотокос. Потом мы поднимаемся на галерею: пол внизу, сложенный из широких мраморных плит с синими прожилками, напоминает бушующее море, вздыбленное волнами и вдруг, под воздействием какой-то неведомой силы, обратившееся в лед.
На закате мы, бесконечно уставшие, возвращаемся на склад. Проходим мимо высокой колонны, увенчанной бронзовой статуей императора Константина верхом на коне: на голове его корона из солнечных лучей, а рука обращена к востоку. «Это чтобы отпугивать варваров», – говорит Дзуането. И вздрагивает от страха, слыша за спиной гневный хриплый голос, поправляющий его на ломаном венецианском: «Напротив, его рука указывает в ту сторону, откуда явится захватчик, будущий завоеватель Константинополя, орудие божественного гнева, каковой обрушится на город, чтобы наказать его за порочность и за то, что отвернулся он от истинной веры католической!» Мы оборачиваемся и оказываемся лицом к лицу со старым монахом-греком, длиннобородым пророком, грозно размахивающим крестом и повторяющим свои предсказания, адресованные горстке перепуганных женщин: конец близок, покайтесь сейчас, ибо когда увидите знамения, будет уже поздно. Город падет, если снова взойдет на трон Константин, сын Елены, и потемнеет луна, и прольется кровавый дождь, и разразятся молния и гром, и драконы сойдут с небес, дабы пожрать овец. Вот тогда-то и падет город, и останутся одни только руины да стенания.
Жирный вторник. Венецианский квартал празднует карнавал с той же радостью и тем же буйством красок, что и сама Венеция. Хозяина нет: он на всю ночь останется в Пере, чтобы покончить с делами и вывезти остатки товаров со склада. Дзуането, Морезини и все прочие тоже с ним. Мне поручили приглядывать за домом, строго-настрого велев не выходить на улицу и запереть с наступлением вечера все двери, а самой спать в кухне. Утром я, не сказавшись Катюше, сбегала на рынок и тотчас же вернулась с полной сумкой, а потом отослала ее как следует прибраться наверху, чтобы ненадолго остаться одной, без этой любопытной девчонки.
В феврале темнеет рано. Я слышу, как Катюша этажом выше распахивает окно и выглядывает на улицу, на кружащие в свете факелов маски. В такие минуты бедная детка грустит, сознавая все одиночество своего сиротства, нашего сиротства, и ей хочется плакать, но она не плачет.
Когда Катюша спускается на кухню, ее уже ждет сюрприз. Я встречаю ее в одной рубахе, радостно обнимаю, трижды целую и желаю счастливой màslenitsy. Жаркий огонь в камине наполняет всю кухню светом и теплом, стол ломится от тарелок и мисок с яствами, которые я тайком приготовила: ломтики свежего тунца, запеченные под заварным кремом из яиц и масла, смешанных с горошком, мелко нарезанной репой, зеленью и грибами; мягкий и пряный козий сыр с голубоватыми прожилками; плошка поблескивающей черной икры; но главное – гора блинов, замешанных на масле и яйцах, круглых и сияющих, как крохотные солнышки. Это bliny, объясняю я ей. Теперь, когда мы совершенно одни и вольны творить что душе угодно, мне захотелось сделать тебе подарок, дать почувствовать себя чуть более счастливой и менее одинокой, вместе отпраздновать màslenitsu. Все эти кушанья мы когда-то готовили в моей деревне, далеко отсюда, в стране Rus: днем весело катались на санках с заснеженного склона или гуляли по льду замерзшей речки, а вечером собирались в избе вокруг горы исходящих паром blinov. Вот еще мед и орехи: я знаю, что Катюша любит ими полакомиться. И никакой воды, здесь смешаны самые разные вина: хозяйское кипрское, сладкое и крепкое, которое еще зовут коммандария, и белый мускат, недавно прибывший с Майорки. А еще есть музыка, флейты и лютни, доносящиеся снаружи.
Отблески огня на Катюшином лице, в смеющихся глазах, что кажутся мне сейчас еще прекраснее. Наполняются и опорожняются чаши. Я с все нарастающей страстью открываю ей то, о чем говорил мне хозяин: через несколько дней мы уплывем отсюда на больших кораблях, чей приход недавно наблюдали, пересечем еще одно море и окажемся в Венеции, где хозяин обещал меня освободить, поселить в одном из своих дворцов, подарить одежду, духи, драгоценности и сделать настоящей княгиней, почитаемой и любимой всеми мужчинами без исключения. А Мария, в свою очередь, поможет Катюше: возьмет ее с собой во дворец, чтобы они всегда были вместе, как сестры, и никогда не расставались.
Катюша взволнована, ее глаза блестят, она не знает, смеяться ей или плакать. Я глажу ее по руке, стираю пальцем влагу с ресниц. Радостная, согретая вином и огнем Катюша, забыв былые невзгоды, пляшет у очага босиком, в одной лишь тонкой рубахе, мелко подпрыгивая на черкесский манер, встряхивая золотыми кудрями, и я танцую вместе с ней, совершенно завороженная этим диким ангелом, а потом, трепеща от благоговения, преклоняю колена, как перед священной Влахернской иконой. Zhimichételnaya moya Katiusha, milaya moya.
И вот брезжит рассвет великого дня. Дня отъезда. Первый свет проникает в кухню сквозь щель под дверью, ведущей во двор. Пора вставать, еще так много дел. Слышен бой часов на башне. Я вздрагиваю: до чего же он не похож на звук колокола в моей деревне. Тот раскачивали людские руки, этим заправляет зубчатое металлическое колесо, отчего звон делается холодным и однозвучным.
Я не раз видела на площади тот белый квадрат с длинным золотым стержнем посередине. Должно быть, его изобрел сам дьявол, дабы уловить время, данное Господом людям, чтобы те распорядились им во благо, прожив жизнь в полноте и радости во славу Божию; так что время это принадлежит Богу, не людям. Но какой-то нечестивый грешник, дабы поработить все живые существа и все творения Божии, животных, деревья, камни, а также и других людей, женщин и мужчин, которых Бог создал свободными, а не рабами, решил обмануть мир иллюзией, что время существует само по себе и что люди могут распоряжаться им по собственному усмотрению. Ничего, еще немного, и мы окажемся в Венеции, и тогда все изменится, думаю я и иду будить Катюшу.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































