Текст книги "Улыбка Катерины. История матери Леонардо"
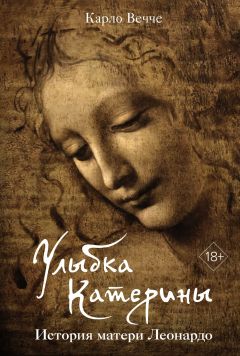
Автор книги: Карло Вечче
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 34 страниц)
Пока я заканчиваю свой краткий монолог, достопочтенный синьор, вместо того чтобы смотреть на меня, начинает листать счетную книгу, делая вид, что совсем не слушает, потом поднимает глаза и говорит вполголоса, чуть в сторону. Это тоже можно было бы устроить, но, как наверняка понимает Донато, поскольку он человек светский и подобные материи ему знакомы, нехорошо, когда имя такого великого и знатного рода, как Бадоеры, появляется рядом с малоизвестным банкротом-forinsecus, невесть сколько раз попадавшим в ту гнусную дыру. Ведь тогда знатный род утрачивает доверие, а, как прекрасно знает Донато, поскольку он человек светский, для политиков и банкиров доверие – все. Так вот, это дельце тоже можно было бы устроить, но без огласки, без нотариуса, по частной расписке в единственном экземпляре, которая останется у достопочтенного синьора, подписанная одним лишь Донато и на условиях, продиктованных достопочтенным синьором. Да-да, конечно, все что угодно, хочется мне воскликнуть, так я тронут этой неожиданной щедростью, великодушно открывающей мне путь к новой жизни, к воскресению.
«А тем временем…» – прерывает меня достопочтенный синьор, еще больше понижая голос, словно опасаясь, что сами стены могут его услышать. Времена-то ведь нынче трудные, пережить их могут только люди решительные и мужественные. Этот упрямый дож Фоскари опустошает казну Республики и ее самых прославленных семей, продолжая вести войны на материке, словно желает стать владыкой всей Италии. Так что теперь им, добрым, смелым и честным патрициям, на коих веками держалась Республика, приходится компенсировать потери где-то еще. И смелый, заслуживающий доверия мастер по очистке серебра им бы очень пригодился… А кто может быть в этом лучше Донато, уже имеющего опыт в делах сильных мира сего? «Допустим, смелый, абсолютно надежный человек тайком отчеканит в какой-нибудь отдаленной кузне пригоршню-другую монет с низким содержанием серебра для распространения в Леванте, а левантийские бабалуки в Баруто, Александрии или даже в Тане этого не заметят. И монеты начнут свое странствие по всему огромному, полному ужасов миру, дойдут до Индии, до Гатайо», – Иеронимо, простерев руку над картой мира, разбрасывает по ней содержимое мешочка, те самые монеты. И, заметьте, без малейшей ассоциации с безупречным именем Бадоеров. Втайне от всех, даже от бедной Кьяры, ведь ее участие в каком-нибудь скандале может по вспыльчивости фриульской родни нанести тяжкий вред всему предприятию.
Пожалуй, это несколько расходится с моими желаниями. Да, я хотел бы начать все сначала, но на сей раз честно, без обмана. И теперь этот благоухающий жулик в алых шелках предлагает мне вернуться на двадцать лет назад, в худший свой период! Преступления, которые он так чинно планирует, караются смертной казнью через отсечение головы: не его, конечно, а бедолаги, пойманного с поличным, то есть моей; а может быть, и подмастерьев, и рабов, из которых легко можно выбить признание пыткой. Ладно, я принимаю все его чертовы условия и подписываю проклятую бумагу, даже не читая, как будто вместо чернил на ней моя кровь, а вместо статей договора – моя душа. Я снова свернул не туда, но ничего не могу с собой поделать: мне нужно вернуться к работе с золотом, плавить его, вдыхать в него жизнь.
Вот только проблема: где мне найти работников? Ссуда едва покроет стоимость сырья, которое придется добывать контрабандой через одного нюрнбергского торговца или переплавлять из серебряных кубков, столовых приборов и прочего старья, выкупленного по ломбардам моих приятелей-евреев в Местре. Но людей у меня нет. За тигли я, понятно, возьмусь сам; а все остальное? Старый Муссолино, единственный, кому я мог доверять, давно мертв, как и ушлая Паска. С учетом рисков этой работы я могу вспомнить лишь одного золотобита, который тоже многим мне обязан, мастера Томазо Боскарина: он прекрасно знает, что стоит мне захотеть, и он кончит жизнь в тюрьме, а его семья будет разорена; но одного мало. И потом, у меня нет ни прядильщиц, ни ткачей, кроме тех двух безруких девчонок, а мне искренне хотелось бы освободить бедняжку Кьяру от бремени ткацкого станка. У черкешенки Бенвеньюды да ла Тана, бывшей рабыни Лючии-Золотца, артрит, она стара и годна разве что помочь мне обучить своему искусству других женщин…
С этим проблем не будет, заключает достопочтенный синьор. Завтра юный Дзуането зайдет ко мне домой… Кстати, куда ему зайти? Явно ведь не в роскошный палаццо у самого Риальто, насмешливо добавляет он, зная, что причиняет мне боль, ведь тот дом, достойный сиоры и стоивший некогда тысячу дукатов, он сам купил за полцены у ликвидаторов обанкротившегося банка. Ему говорили, будто Донато ютится теперь в арендованном домишке на фондаменте де ла Тана, у стены Ка-дель-Канево, гигантской фабрики по выделке канатов и пеньковых тросов, куда он милостью провидения и на благо Республики назначен местоблюстителем; разумеется, думаю я, богатеть-то ведь за счет Республики – оно всегда лучше. Дзуането доставит капитал, поскольку сам достопочтенный синьор не опускается до обращения с такой мерзостью, как деньги; а также двух рабов, которых достопочтенный синьор мне одалживает, но которые, разумеется, остаются его исключительной собственностью, и ежели с ними не дай бог что-нибудь случится или они получат увечье, Донато должен будет возместить все возможные убытки.
Один – высокий, сильный авогасс, молчаливый и туповатый: этот замечательно научится бить молотом и станет держать язык за зубами, потому что все равно ничего не поймет. Другая – четырнадцатилетняя черкешенка, грязная зверюшка, как и все, кого привозят из Таны, пухленькая, сочная: он, как заведено, осматривал ее нагую, но она еще слишком молода и слишком глупа, чтобы заниматься чем-то еще; быть может, через пару лет, лукаво намекает достопочтенный синьор. Если верить Дзуането, у нее врожденный талант, хотя неизвестно, кто и зачем учил эту бестолковку, ведь каждый знает, что души у рабынь нет: она прекрасно умеет рисовать орнаменты, растения, цветы, сказочных животных, узлы и сплетения самых разных видов. Этим можно воспользоваться при подготовке рисунка, чтобы потом соткать то, чего в Венеции еще не видели. Спрос будет неплохой, особенно теперь, когда мадонны подустали от сирийских и арабских мотивов, но по-прежнему хотят красоваться в чем-то новом. А теперь довольно, отпущенное время истекло, Сан-Дзаниполо уже бьет четвертый час. Достопочтенный синьор, не вставая с кресла, со скучающим видом кивает, что я могу идти. Уже на лестнице я слышу его голос, кричащий слуге, что выпускать меня следует через черный ход, предварительно убедившись, что в переулке никого нет. Ну, разумеется.
Домой, на фондаменте де ла Тана, я возвращаюсь бегом, почти пролетая над мостами Сан-Бьяджо и Кадене. Игра начинается. Нужно все подготовить к завтрашнему приходу Дзуането.
Я посылаю за мастером Томазо и мастерицей Бенвеньюдой: оба они моего возраста, но уже нездоровы и не могут работать, их руки ослабели, пальцы дрожат, хотя они с радостью помогут мне обучить тех, кто помоложе. Томазо соглашается сразу, мне даже не приходится угрожать ему напоминанием о долгах. Бенвеньюда смеется, когда я говорю, что работать мы будем здесь же, в доме, а золотобитню устроим внизу, чтобы без необходимости не таскать золото туда-сюда и не записывать каждую мелочь, как она привыкла делать у Лючии-Золотца.
Вместе с Кьярой и двумя ткачихами мы расчищаем неиспользуемый склад на первом этаже, где не убирались с нашего переезда. Всего две комнатки, одна внутри другой: первая, большая, у входа в темный переулок, зовущийся калле Басса; вторая, в глубине, чуть поменьше, с камином, запасом дров и угля, пригодным для горна, и дверью на канал Рио-де-Сан-Джероламо, откуда крутая лестница позволяет подняться на второй этаж дома, не выходя на фондаменте. Мы достаем из ящиков старые инструменты, которые я спас из загребущих лап Паски: наковальни, молотки, клещи, ножницы, формы, моечные и сушильные поверхности, весы большие и маленькие, листы пергамента и бумаги. Глаза Томазо и Бенвеньюды блестят, когда они берут все это в руки и вспоминают, как были молоды, как работали с золотом и серебром. В маленькой внутренней комнатке я наскоро расставляю горны, щипцы, лохани и кадки, таганки, глиняные горшки и прочие принадлежности моей подпольной златокузни. Мы очищаем инструменты от ржавчины, моем их, вытираем тряпками и раскладываем прямо на фондаменте, на самом солнышке, под любопытными взглядами горстки детишек и болтливых старух. Здесь, в Венеции, к этому приходится привыкнуть. Здесь ничего не делается тайком, словно эти старые стены, сочащиеся водой, что прибывает и отступает с приливами и отливами, полны невидимых пор, впитывающих человеческие жизни, и запахи, и голоса, и шепот.
* * *
Сегодня большой базарный день.
Несомненная удача, поскольку, когда лодка Дзуането приближается к дому, на фондаменте никого нет, так что рабов и объемистый кожаный мешок удается выгрузить самым незаметным образом. О том, что в мастерской станут трудиться рабы, соседям лучше не знать: быть может, вся округа, своевременно оповещенная старухами-сплетницами, уже в курсе, что мы открываем золотобитню, но давать лишний повод для анонимных жалоб в Совет десяти явно не стоит. На привлечение рабов к такому стратегическому сектору экономики издавна смотрели косо, их использование даже считалось опасным, мол, отнимает у венецианцев кусок хлеба. Кроме того, рабы всегда стремятся к свободе и, научившись ремеслу, находят повод и способ бежать из Венеции, унося секреты мастерства в другие страны или продавая их иностранцам. А главное, Совет не должен узнать о той комнатке в глубине дома, ведь именно там я собираюсь поместить подпольную златокузню.
Войдя в большую комнату на первом этаже, мы плотно закрываем за собой дверь. Дзуането молча передает мне мешок. Я забираю его, не открывая: деньги пересчитаю потом, оставшись один. Юноша знакомит меня с рабами. Здоровяк в цепях, коих лучше бы не снимать, пока не втолкуешь парой-другой плетей, кто здесь парон и что нужно делать, – Дзордзи, двадцатилетний авогасс. Прекрасный работник, гора мускулов, почти не говорит, а понимает и того меньше. Другая – Катерина: этой цепи не нужны, она не сбежит. Нрав у нее спокойный, покорная, покладистая, тоже почти не говорит, а если бы и стала, то все равно не понять, она ведь черкешенка, но не какая-нибудь дурочка, а вроде бы шустрая, все на лету схватывает. К тому же у нее врожденный дар: умеет рисовать, он, Дзуането, когда увидел, сперва даже не поверил. В Константинополе она казалась веселой, насколько это вообще возможно для рабыни, но теперь, с тех пор как они приехали, вечно ходит печальная и молчаливая, и не разберешь, что там у нее в голове. Быть может, ей пойдет на пользу работа с другими женщинами под руководством сиоры Кьяры, которой, сиоре по рождению, все-таки не пристало ни по дому хлопотать, ни за станком сидеть. Ну, вот и все. Дзуането, похоже, торопится, и вскоре его лодка продолжает свой путь. Я даю Дзордзи понять, что тот соломенный тюфяк в углу, за наковальней, – его спальня, а сверток с хлебом и салями – его еда. Потом запираю дверь и вместе с Катериной выхожу к каналу.
Но, прежде чем подняться по лестнице, оборачиваюсь и впервые оглядываю ее с ног до головы. Катерина выше, чем бывают обычно девушки ее возраста, но, возможно, это лишь сандалии-цокколи на высокой подошве, скрытые юбкой. Под мышкой узелок, в котором все ее скудные пожитки: теплая поддева или, может, шерстяные чулки на зиму, пара дешевых платочков. Вещи, которые даже имуществом не назовешь, ведь она и сама себе не принадлежит, так, рабыня, чья-то собственность, и этот кто-то может делать с ней что заблагорассудится. Такое положение никогда мне особо не нравилось, хотя по Флоренции, например, оно распространилось еще до моего отъезда. Встречая в своих мастерских рабынь, я поступал, как Лючия-Золотце: освобождал их как можно скорее, а они оставались на жалованье и работали даже лучше. Если уж я не считаю женщин ниже мужчин и не могу представить большего блага, чем свобода, что говорить о рабстве: меня спроси, такому понятию в мире не место. Не должно быть возможности лишить другого человека свободы, это ведь все равно что лишить его жизни.
Одетая в белую льняную рубаху, прикрытую плотной голубой туникой и перетянутую на талии поясом, в чепце, под которым угадываются золотистые локоны, Катерина упорно не поднимает глаз. Мне все равно, рано или поздно ей придется это сделать. На первый взгляд она не выглядит дикаркой, тем более грязным животным: совершенно обычная путела, дочь, какую я мог бы иметь от Кьяры или Луче. Один Бог знает, через что она прошла, прежде чем очутиться здесь, в этой безнадежной дыре, именуемой моим домом. Раз она черкешенка, наверняка привезена из Таны. Странная насмешка судьбы – с самого отдаленного, дикого края земли быть заброшенной в Венецию, на берег канала, зовущегося именно Рио-де-ла-Тана, потому что с балкона моего дома можно полюбоваться прекрасным видом на величайшую в мире фабрику по переработке пеньки, а вся пенька поступает к нам оттуда, из Таны. И эта Катерина тоже похожа на пеньку – еще сырую, неочищенную, привезенную из Таны в Тану. Жизнь часто играет с нами подобные шутки. Но колесо крутится, и мы снова оказываемся там, откуда начали.
* * *
Спит Катерина в крохотной комнатушке на третьем этаже, под самой альтаной, над которой торчат такие же, как у Луче, шесты для просушки белья. Чтобы помогать по хозяйству и заниматься работой, она спускается по крутой каменной лестнице, и всякий раз слышно, как стучат по ступеням тяжелые деревянные цокколи.
С устройством золотобитни и ткачеством мы времени зря не теряем. Всего за несколько дней удалось раздобыть приличное количество металла, особенно на старой барахолке: Томазо с его чутьем сподручнее, прикинув на вес старый подсвечник или растрескавшийся кубок, вычислять, сколько серебра из него получишь и за какую цену можно сговориться с продавцом. Сам я тайком, минуя таможню, сделал несколько вылазок на лодке в Местре, к своим приятелям-евреям, и те принесли мне со складов множество весьма неплохих вещей, не выкупленных в ломбардах, а также несколько мешков серебряных монет; там же я нашел и давешнего нюрнбергского купца, который отдал мне слитки, только что привезенные из Богемии. У ювелиров с Риальто я купил немного чистого золота, недавно выгруженного с ромейских галей. Натаскал в подпольную златокузню битых кирпичей и розжига, а аптекарю велел достать мне сосуды с ртутью, серы, меди, железа, свинца и разных солей; но, чтобы не терять время, давайте пропустим весь аффинаж и перейдем сразу к золотым слиткам.
Бенвеньюда, отыскав в одной заброшенной мастерской немного шелковых нитей самого превосходного качества, уже смотанных на бобины, начала обучать обеих путел и Катерину наилучшим методам навивки и подготовки основы на ткацком станке, чтобы, когда у нас будет сусальное золото, все было готово. Поработав несколько дней в кузне с Дзордзи в роли помощника, я наконец зову Томазо. Тот учит раба выстукивать золотые листы, а Дзордзи в точности повторяет за ним движения, будто ничего другого в жизни не делал. Бойкий ритм поднимаемого и опускаемого молота наполняет дом, и я льщу себя надеждой, что авогасс останется с нами надолго. Как только первые листы готовы, они сразу взлетают на второй этаж, где умелые руки Бенвеньюды, борясь с артритом, показывают девушкам, с какой аккуратностью их надо кроить, вытягивать и скручивать с шелковыми нитями, вдыхая в них новую жизнь и придавая великолепие королевских одеяний.
Если в кузне выдается перерыв, я тоже поднимаюсь наверх, как делал всегда еще в те времена, когда у меня были собственные мастерские, чтобы полюбоваться волшебной, совершенной работой женских рук, сплетающих вместе десятки, сотни, тысячи шелковых нитей, работой любовной, кропотливой, какой от наших, мужских, рук никогда не добиться. И взгляд мой все чаще притягивают руки Катерины, похоже, сразу выучившей то, на что у двух других путел ушли годы. Эти руки мне непонятны, а ведь я, так и оставшийся в душе ремесленником, человеком труда, именно по рукам людей и узнаю. Мне ничего не стоило догадаться, что за хитрость задумали мои коллеги-менялы, просто наблюдая за их жестами во время разговора. Но эти руки я постичь не могу: тонкие, изящные, с длинными гибкими пальцами, они могли бы принадлежать лютнисту; кожа гладкая, шелковистая, чуть потемневшая от солнца, так не похожая на бледность венецианских мадонн; но руки эти сильны, споры, стремительны, словно привыкли держать меч или натягивать лук, а не только крутить веретено и мотовило. Катеринины пальцы легко скользят по нитке, обвивая ее невесомым листком сусального золота, будто наполняя его дыханием, исходящим из приоткрытых уст, едва сдерживаемым от страха, что драгоценный квадратик вспорхнет и улетит; и так же, в такт, редко, волнообразно вздымается ее грудь в вырезе рубахи. А я все стою у двери, прислонившись к косяку, завороженный этими движениями. Вдруг глаза мне слепит тусклый отсвет, и я понимаю, что на пальце у Катерины серебряное кольцо: грязное, потемневшее, и все-таки мне кажется, будто на нем что-то выгравировано. Что бы это могло быть? Может, последняя память о любимом, о чувствах, утраченных в краю, откуда ее вырвали и куда ей уже никогда не вернуться? А может, кольцо это – обручальное или помолвочное: кто знает, вдруг, несмотря на столь юный возраст, она уже успела побывать замужем, и человек, которого она потеряла, был ей мужем? Если захочет, я могу почистить и отполировать, будет как новое.
Прежде чем садиться за станок с уже натянутой основой, нужно выбрать рисунок, объясняет Бенвеньюда, показывая девушкам принесенные ею образцы: кусочки парчи и штофа, которые она соткала много лет назад. Потом дает им по паре листов бумаги, по кусочку угля и просит воспроизвести любой из мотивов с разложенных по столу тканей: на пробу мы всегда даем образец простого переплетения завитков-волют и арабесок. Обе путелы не могут даже зажать в пальцах уголь: одна ломает его, перепачкав весь лист черной пылью, другая трясущейся рукой выводит каракули. Я привстаю на цыпочки, чтобы взглянуть, что станет делать согнувшаяся над столом и полностью сосредоточенная Катерина. Ее рука не давит на уголь, а лишь слегка касается листа, оставляя за собой тонкую, почти неразличимую линию, будто повисшая в воздухе дымка туманит ее очертания. Сперва она перерисовывает мотив лежащего перед ней куска парчи, но вскоре бросает ткань и продолжает закручивать контуры волюты сама, снова и снова свивая и переплетая ее, пока не возникает невероятный образ того, чего на свете нет, разве только у нее в голове, в ее внутреннем мире. А в самом центре рисунка возникает другой, чистый и прекрасный контур лилии. Взгляд у Бенвеньюды перепуганный, она не верит своим глазам. Да и я, если честно, никогда не видел ничего подобного. Что же за птица эта Катерина? Откуда она?
Бенвеньюда о чем-то долго с ней говорит. Я разрешил старухе-черкешенке воспользоваться теми немногими словами прежнего наречия, что еще не выветрились из ее памяти: возможность, которой она до сих пор была лишена, поскольку рабыням строго-настрого запрещается общаться друг с другом на своих родных языках, чтобы они не сговорились и, втайне ото всех, не плели крамолу в ущерб господам. Священники учат, что им следует навсегда забыть о диком языческом мире, откуда они произошли, стать такими же цивилизованными христианами, как мы сами, даже если все вокруг по-прежнему будут считать их низшими существами, прислугой, вьючными животными.
Я так и стою за дверью, не для того, чтобы вмешаться или проследить за ними, а не в силах уйти, настолько впечатленный этой необыкновенной девушкой, что хотел бы узнать о ней любую мельчайшую подробность, понять, кто она на самом деле. Только теперь я впервые слышу голос Катерины, такой же странный, как ее руки, одновременно нежный и резкий, женский и мужской. Мне, правда, кажется, что они, Бенвеньюда с Катериной, не до конца друг друга понимают, пока наконец, к моему удивлению, Катерина сама не переходит на венецианский, куда более неуверенный и забавный, чем у Бенвеньюды, с нелепыми вкраплениями генуэзского, простоватый в построении фраз и выборе слов, но все же вполне ясный и убедительный. Должно быть, она выучила язык за те несколько месяцев, что жила в Константинополе, прежде чем ее увезли в Венецию. Так, на новообретенном лингва франка, они и общаются, старая и молодая.
Я узнаю самые невероятные вещи, приключения, о каких можно разве что прочесть в романе или услышать в песне, хотя не думаю, что девушка все это выдумала. Где-то в глубине непременно должно быть зерно истины, из которого затем произрастают ростки самых баснословных форм, кажущиеся мне удивительными лишь потому, что порождены ее необычным взглядом на мир, на нас. Край, где она родилась, вероятно, совсем не похож на Венецию. Она утверждает, что спустилась со склона самой высокой горы на земле, чья вершина покрыта вечными снегами, той самой, куда причалил на своем ковчеге пророк Ной. Помнится, я однажды читал, что эта огромная гора, называемая Кавказом, ограничивает на востоке Великое море. И вот теперь оттуда является Катерина. А ведь Тана в самом деле, и об этом известно каждому, расположена бог знает где, в самой северной, самой дальней части этого моря, месяцах в трех плавания от Венеции.
Но дальше она начинает рассказывать такие странности, что дивится даже Бенвеньюда: мол, ее отец был князем-воином и погиб в бою; она по его примеру тоже решила стать воительницей, для чего переоделась мужчиной, вооружившись мечом и луком; ей хотелось жить с отцом и даже возлечь с ним, но франки схватили ее и отобрали золотое покрывало; затем рыжий великан, бывший также и колдуном, но добрым, унес ее прочь в чреве деревянного чудища, научив колдовству перемещения из одного места в другое, и по его волшебству она оказалась в городе с золотыми куполами вместе со своей новой сестрой Марией, которая заботилась о ней, кормила супом, поила вином и делала приятно, пока наконец хозяин Якомо не увез их снова на деревянном чудище в этот город на воде, где ее силой разлучили с Марией, заперли одну в мрачном дворце, а злой человек, укравший Марию, раздел ее донага и трогал, и теперь она, рыдая, умоляет Бенвеньюду любой ценой позволить ей отыскать Марию.
Бенвеньюда пытается утешить девушку: берет за руки, прижимает ее голову к груди, потом, развязав чепец и распустив волосы, принимается поглаживать их, нашептывая что-то вроде колыбельной или какой другой песни на их языке, мне непонятном; и эти волосы, по которым скользит рука Бенвеньюды, кажутся мне бесконечно более прекрасными и сияющими, чем чистейшее золото, что плавится в кузне. Катерина, склонив голову, потихоньку умолкает. Старая мастерица провожает ее наверх и уходит, только убедившись, что та уснула. Потом спускается, сурово глядя на меня, но понимает, что я тайком их подслушивал, а значит, ничего мне передавать уже не нужно.
Дела постепенно идут на лад. У парчи, которую мы производим, такой непривычный, исключительный рисунок, что по Венеции начинают ползти слухи об открывшейся на задворках Кастелло небольшой мастерской, где делают самые невероятные вещи. Я нанимаю еще одного юношу-золотобита и еще одну путелу из Местре, чтобы прясть и ткать. Спит она с Катериной: девушке лучше бы не оставаться надолго одной, не то снова одолеют дурные мысли или воспоминания о тех чудесах; похоже, это работает, поскольку Катерина стала немного спокойнее, хотя улыбки ее я так и не видел, да и говорила она с тех пор только с Бенвеньюдой, а на меня даже глаз не поднимала. Сам я тоже чуточку успокаиваюсь: настолько, что разрешаю жене, соскучившейся по нашему сыну Бастиану, отправиться на материк, возможно, в тайной надежде, что это поспособствует восстановлению наших отношений, загладив проступки и злодеяния, которые он, вероятно, справедливо мне приписывает.
Заработанные деньги я храню наличными в запертом на ключ сундуке на втором этаже, поскольку банкам, зная их слишком хорошо и слишком близко, более не доверяю; а кроме того, мало-помалу начинаю отдавать некий отягощающий мою совесть долг. Там же, в сундуке, лежат и все векселя прошедших лет, расписки от былых должников, и облигации государственных займов, которые я прикупил: никогда не знаешь, может, однажды и они пригодятся. Дела и в самом деле шли бы неплохо, кабы не темная сторона этой истории: подпольная работа, которой я тайком, в праздники или чаще по ночам, занимаюсь в кузне, грязная работа фальшивомонетчика на жалованье у достопочтенного сенатора с безупречной репутацией, Иеронимо Бадоера. Через узкую дверь, выходящую на канал, я уже не раз сгружал тяжелые мешки в лодку все более осмотрительного Дзуането, который затем ускользал под покровом темноты, проникая потайным ходом в Арсенал: очевидно, стража была с Иеронимо и местоблюстителем Арсенала в сговоре. В прошлый раз он вручил мне мешок монет из настоящего серебра, которые я замуровал в стенной нише. Это бремя – единственное, что омрачает мою жизнь. Ах, если бы только я мог снова обрести свободу…
* * *
Жирный вторник. В этом году карнавал был еще более пышным: вероятно, виной тому затянувшееся возбуждение из-за свадьбы юного Фоскари, словно весь город решил непрерывно веселиться и кутить, спуская свои богатства на всеобщую оргию без конца и края, долженствующую помочь людям забыть о страхе будущего, о войне, стоящей у самых дверей, о грозящих финансовых катастрофах и тысячах других опасностей, по всей видимости нависших над Республикой. Но хотя бы наша мастерская отработала выше всяких похвал и теперь на несколько дней закрывается, даже путела из Местре уже уехала к семье.
Кьяра так и не вернулась из Фриули. После нескольких месяцев молчания, в течение которых я даже не пытался ее искать, она написала мне письмо, точнее, не написала, а продиктовала писцу, и только в конце собственноручно, угловатым почерком подписала: Киара. Слишком часто я бросал и предавал ее, обманывая ложными надеждами, а после разочаровывал, погружая в бездну нищеты и позора. В итоге, как она узнала, я тайно продал все ее самые ценные украшения, а ей сказал, будто они в ломбарде у моего приятеля-еврея в Местре и я вскорости их выкуплю; я также растратил ее приданое, чтобы расплатиться с долгами; и, раз уж я поступил так с ней, благородной дамой знатного рода, отныне она предпочитает оставаться рядом с единственным сохранившимся у нее сокровищем, своим любимым сыном Бастианом. Так, разумеется, и продиктовала: своим, не нашим.
Я ответил ей тотчас же, честно, без капли притворства, ведь в нашем возрасте незачем притворяться любящим, если любви никогда и не было. Всего несколько фраз, в которых я признаю справедливость всего, в чем она меня обвиняет, и умоляю только об одном: о прощении. Ниже добавляю новости из мастерской и прошу поверить, что это взаправду, а не пустая болтовня, как случалось в прошлом. У меня в самом деле полный сундук дукатов, я почти расплатился с долгами, скорее всего, мы даже сможем расширить предприятие: у шуринов Панцьера есть прекрасная возможность вложить капиталы. Я лишь прошу Кьяру дать мне последний шанс и вернуться в Венецию.
Ответ пришел несколько дней назад. Кьяра принимает мое предложение, поскольку поклялась перед Богом быть моей женой и вынуждена оставаться ею, пока смерть не разлучит нас. Она приедет, но уж точно не во время карнавала: она теперь всегда носит черное, словно монахиня или вдова, не снявшая траура, а кроме того, у нее нет никакого желания мешаться с толпой развратников в масках. Завтра, в Пепельную среду, как раз подходящий день для начала покаяния и искупления. И прибудет она не одна: сын Бастиан с одним из шуринов станут ее сопровождать, чтобы проверить, правда ли то, о чем я писал.
Настает время вечерни. За окном собирается гроза, и сильная: с юго-востока задул яростный ветер, не ко времени несущий тепло, а ведь если снег растает и море поднимется, нас ждет большая вода. На всякий случай я уложил на первом этаже мостки и покрепче привязал лодку у двери, выходящей на Рио-де-Сан-Джероламо. Издалека слышится приглушенный шум карнавала, но нет, это просто поет кто-то в проплывающей гондоле, и в этом затерянном краю, зовущемся Тана, снова тишина. Карнавалы не для меня, да и что мне там праздновать, прикрывшись маской?
Я одиноко бормочу молитву, потом зову Катерину, прошу приготовить еды для нас и для Дзордзи, бедняга сидит внизу, в мастерской, тоже один как собака. Девушка разжигает огонь, но по ней не скажешь, что холодно: ни толстой шерстяной юбки, ни даже чулок, лишь обнаженные ступни, мелькающие над краем цокколи, когда она приподнимает подол, чуть покраснели; должно быть, в стране, откуда она родом, снег и лед – дело привычное. Когда она мешает поварешкой в котле, я снова замечаю на пальце маленькое серебряное колечко. Надо же, а я и забыл. Она наполняет мой кубок вином, наливает мне исходящего душистым паром супа с отменными тортелли, фаршированными тыквой и грушевой горчицей с щепоткой драгоценных пряностей, которые мне удалось раздобыть у аптекаря, перцем, имбирем и мускатным орехом, потом достает миску для Дзордзи и молча, приткнувшись в углу, ест сама, поскольку сидеть за моим столом ей не по чину.
Снова вспомнив про колечко, я подзываю Катерину и прошу его показать. Она глядит с легким подозрением, словно опасаясь, что отниму, потом вытягивает левую руку: мол, смотри, но издалека. Колечко и в самом деле грязное, потемневшее, так сразу и не поймешь, что на нем выгравировано. Похоже, его не снимали с пальца месяцами, если не годами. Я пытаюсь объяснить ей, что предлагаю: раз это кольцо для нее так важно, давай спустимся в кузню и хорошенько его почистим, пусть снова засияет. И в шутку добавляю: бояться нечего, я ведь не вор какой, не отниму да в ломбард мастера Саломона не снесу. Но нет, Катерина шутки не понимает: отшатывается, правой рукой левую прикрывает. Боится.
В конце концов я вспоминаю, как она делилась с Бенвеньюдой своими приключениями, и мне приходит в голову мысль: может, сказка ее убедит? Я говорю, что ей не нужно меня бояться, я ведь тоже великий волшебник, совсем как тот рыжий великан, что увез ее из родных краев. Я колдун, алхимик, и она сама видела, как металлы подчиняются моей воле, как они сами, сияя, вытекают из тиглей, как счастливы, когда я вдыхаю в них жизнь и тепло. Таково мое колдовство, колдовство созидания. Одним простейшим заклинанием я могу вернуть ее колечку жизнь и свет, наполнить его новой магией. Я сразу понял, что колечко это – волшебное, вроде тех колец, которые, как я где-то читал, делают своего обладателя невидимым, хранят в бою или переносят из одного места в другое. Если она захочет, я произнесу для нее, и только для нее это заклинание, мою собственную тайную формулу, чтобы кольцо стало еще более волшебным.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































