Текст книги "Улыбка Катерины. История матери Леонардо"
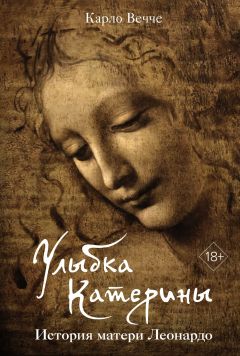
Автор книги: Карло Вечче
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 34 страниц)
Сейчас Лена слишком слаба, чтобы кормить Марию грудью. Сама она этого хотела, поскольку сразу почувствовала привязанность к малышке, а также и оттого, что послушна учению святого Бернардина, говорившего, будто отдавать детей кормилицам – смертный грех, но все попытки оказались тщетны. Маттео Пальмиери, принесший нам травяных снадобий из своей аптеки, считает правильным, чтобы новорожденная продолжала получать живительный гумор от той, что носила его во чреве, ведь материнское молоко – не что иное, как животворная кровь, что после рождения устремляется в высшие органы и, более того, оказывает решающее воздействие на развитие ребенка. И, наконец, самое страшное: что ребенок будет испытывать любовь к кормилице, а не к истинной матери.
К сожалению, выбора у нас нет. Беременность и роды отняли у Лены все жизненные соки, поток молока из ее груди, и без того скудный, вскоре сократился до нескольких капель, а Мария все время плачет, и сама жизнь ее под угрозой. Нам срочно нужна кормилица, и не приходящая, а та, что будет жить в доме, еще и потому, что Лена наотрез отказалась разлучаться со столь желанным ребенком, рожденным великим напряжением воли и великой мукой. Об этом обычно заботятся мужчины, на все время беременности и родов отлученные от своих жен, словно к подобным таинствам причастны одни лишь женщины, жрицы жизни, а нередко, увы, и смерти. Я уже успел ощутить себя в высшей степени огорченным этим отлучением, поскольку, пережив впервые в жизни период невероятной близости с Леной, оказался вдруг отрезан от нее, изгнан из ее покоев, оставлен в неведении относительно действий, предпринимаемых моей матерью, акушеркой и другими женщинами.
Но самое главное, в те судорожные, отчаянные часы, когда я скрывался в подвале, а Лена разрешалась от бремени, я ощутил всю глубокую несправедливость того, что по вине природы или самого творца мы, мужчины, не способны разделить в полной мере страдания и боль деторождения. Отчего нам не дано пережить вместе и эти мгновения?
Итак, поиск кормилицы – дело ничтожное, мужское, потому как именно мужчинам пристало договариваться об условиях и цене. Обычный договор найма или аренды между двумя владельцами имущества, мужем роженицы и отцом или мужем кормилицы, сиречь кормильцем. Женщины в подобного рода сделках, как правило, не участвуют и даже в бумагах упоминаются редко, как если бы дело шло о приобретении мула или фруктового сада. Но есть в этих договорах и еще кое-что, о чем не сообщают ни устно, ни письменно. Чтобы иметь молоко, женщина должна стать матерью. А чтобы стать матерью, придется пережить целый ряд судьбоносных событий, которые ни в один договор не внесешь: полюбить мужчину, соединить свое тело с мужским и принять его семя, зачать во чреве своем крошечный сгусток атомов, микроскопическое сердце коего начнет биться, сопричастное чуду Божественного творения или смешения форм природой, потом в течение девяти долгих месяцев вливать в него жизнь, живя с ним в совершенном симбиозе, и, наконец, произвести его на свет в невыразимых муках. И все это ради того, чтобы, разлучившись с собственным чадом, отдавать молоко чужому?
Мне, к счастью, никакого договора заключать не нужно, от этой утомительной повинности я избавлен. В нашем доме, где всем заправляют женщины, они тоже займутся сами, точнее, займется моя мать монна Джованна. Она уже сообщила, что, когда придет кормилица, моей задачей будет лишь выдать флорины, ее жалованье и оплату посреднику. Обо всем остальном она позаботится, поскольку, проделав недавно то же самое с Никколо, прекрасно знает, что к чему, и совесть ее не мучает. Моя мать прекрасно умеет играть по правилам серого, мутного мира посредников между громадными, богатыми дворцами зажиточных горожан и грязными, вонючими лачугами в рабочих кварталах или хижинами среди полей, где женщины и девушки, только вступившие в пору полового созревания, без устали рожают детей, хотя едва ли в состоянии их прокормить; впрочем, провидение одаривает их потоками сытного, питательного молока, будто бы желая заранее компенсировать несчастным крохам хлеб, которого они вскоре лишатся.
Разумеется, немыслимо, чтобы монна Джованна в своих пьянеллах и парчовой чоппе стучалась в двери бедняков с вопросом, не найдется ли у них свежего молочка; нужен посредник, добытчик. И это, на мой взгляд, самое отвратительное, ведь я прекрасно представляю себе этих омерзительных персонажей, всю жизнь выслеживающих нищие семьи какого-нибудь квартала на окраине или отдаленной деревушки, выпытывающих последние сплетни и слухи о забеременевших девушках и неверных женах у лицемерных ханжей возле церкви и с той же целью отирающихся по кабакам и цирюльням. Паразиты, живущие на чужой жизни и смерти. Едва становится известно, что в какой-нибудь лачуге родилась от запретной беременности новая жизнь, а это в том переулке, да и во всем городе, знает каждый, посредник уже терпеливо ожидает под дверью, лицемерно интересуясь здоровьем роженицы, а если та вдруг скончалась, истекши кровью, переходит к соседней двери, ибо здесь уже ничего не поделаешь – ребеночка снесут в Воспитательный дом и оставят там подкидышем.
Но ежели роженица, напротив, быстро оправилась, начала прикладывать ребенка к груди, и оттуда после нескольких дней густого, желтоватого молозива потекло сладкое, обильное белое молоко, тут-то для посредника и начинается настоящая работа – переговорить с родителями, убедить их в том, чего они и сами не могут не знать: что наступит день, когда уже не под силу будет прокормить лишний рот, что это дитя греха, особенно если младенец – девочка, а значит, лишняя беда для и без того нищей семьи, и от нее в любом случае не жалко избавиться, а с тех пор, как существует Воспитательный дом, найдется множество добрых людей, готовых дать ей кров; что до молодой матери, которую Господь Бог благословил таким количеством молока, она могла бы принести пользу семье и искупить тяжкий грех похоти, позволив заодно и ему, старику, у которого семеро по лавкам, заработать пару звонких монет, ведь известно, что богатые флорентийские семьи готовы платить любую цену, лишь бы прокормить свое ничтожное потомство, поскольку у их чванливых мадонн молока либо недостает, либо они предпочитают с ним не расставаться, дабы, не растеряв свежести форм и красоты, вернуться к танцам и сытой жизни со своими кавалерами, а то и снова забеременеть ради будущего семьи.
* * *
Ну пойдем, что ли, заберем эту кормилицу, говорит мать. Она договорилась с монной Джиневрой ди Антонио дель Реддито, той, о которой судачат на каждом углу, поскольку она в свои сорок с лишним умудрилась выскочить замуж за старого авантюриста лет семидесяти, эмигрировавшего было в Венецию, но несколько лет назад вернувшегося, Донато ди Филиппо дель Тинта, столяра, ныне совсем выжившего из ума, хотя поговаривают, будто в молодости в Венеции он был банкиром, а также держал несколько золотобитных мастерских и был сказочно богат, но потом потерял все. Живут они по ту сторону Санта-Репараты, за церковью Сан-Микеле-Висдомини, на виа ди Санто-Джильо, и потому я мог бы доехать туда верхом, а мать – в крытой повозке, чтобы иметь возможность задернуть полог и не давать простолюдинам лишнего повода для любопытства и пересудов.
Кормилица, говорит мать, самая лучшая, какую только можно найти, не какая-нибудь неотесанная плебейка или деревенщина откуда-нибудь с гор, что передаст ребенку свои дурные манеры и вульгарный язык. Нет, она – рабыня, личная рабыня монны Джиневры и принадлежит именно ей, а не мессиру Донато, на старости лет окончательно свихнувшемуся. Но рабыня эта особенная: скромная, простая, добродетельная, с прекрасным характером и добрых кровей, сложением и манерами она походит на благородных, хоть происхождения и варварского, точнее сказать, черкешенка, но порядочная. Монна Джованна лично осмотрела ее, а монна Джиневра говорит, мол, она самая настоящая принцесса, что в юности носила оружие и скакала верхом, как амазонка. Не поймешь, правда, всерьез она это или в шутку, как у монны Джиневры заведено. К тому же все эти годы она лично свою рабыню воспитывала: обучила изъясняться понятно и прилично готовить.
Разумеется, кормилица – не святая непорочная дева, раз у нее есть молоко, значит, недавно родила, и явно не от Святого Духа или архангела Гавриила. Про черкешенок, впрочем, известно: чем красивее, тем порочней. Но тут уж монна Джиневра клялась своей честью, и уж точно без шуток, что девушка эта – сама чистота и прежде, мол, не знала мужчины, да и в тот раз была не ее вина, но теперь историю необходимо замять, чтобы не было скандала. В наше время, под тяжкой рукой епископа Антонина, приличия лучше блюсти.
От бремени она разрешилась совсем недавно, а кто отец ребенка, никто не знает. Младенца у нее немедля забрали и подкинули в Воспитательный дом. И теперь она, лишившись сына, безутешна, зато грудь ее настолько полна прекрасного, сладкого молока, что льется неудержимой рекой, и ей приходится постоянно менять промокшие рубахи. Безусловно, она будет счастлива выкормить Марию, чтобы хоть как-то примириться с потерей своего малыша. Стоить это будет недешево, но такая кормилица, несомненно, своих денег заслуживает: восемнадцать флоринов в год, естественно, лично в руки монне Джиневре, ее хозяйке. Которая, повторяет моя мать снова и снова, одалживает ее не корысти ради, а исключительно из уважения и любви к монне Джованне, хотя по справедливости все должно иметь свою цену.
Ах да, чуть не вылетело из головы. Как ее имя? Катерина. Ну да, никакой фантазии. Что может быть очевиднее для рабыни.
6 мая 1450 года, раннее утро обещает чудесный весенний день, из садов уже доносится аромат роз. Я, как и всегда, разодет в пух и прах: на мне чулки-шоссы из черного перпиньяна и кафтан-вестиретто. Когда Кастеллани, покинув замок, проезжают по улице, простой люд высыпает из домов и мастерских, ожидая увидеть их непременно нарядными, разодетыми по последней моде, и мы не вправе обмануть их ожидания: такова наша роль во всеобщем действе. Моя мать занимает место в коляске, запряженной мулом, которой правит Андреа, поскольку обычный возница из страха перед эпидемией предпочитает не выходить из дома, а я забираюсь на буланую клячу под вышитым золотом красным седлом; разумеется, лица у нас закрыты платками, пропитанными пахучими мускусными эссенциями, ведь чума по-прежнему незримо присутствует в городе, хотя это никого уже не заботит: устав от запретов и страха, каждый уповает на судьбу или провидение, а если и заражается коварной болезнью, то с христианским смирением бредет навстречу скоротечной болезни и смерти. Можно было сократить путь, проехать через канто деи Картолаи, мимо Бадии и Палаццо-дель-Капитано, но день такой теплый, что хочется, поднявшись сперва к центральной площади, проехать по виа Калимала до ларго Санта-Репарата. Людей на улице много, умереть, кажется, никто уже не боится. По одежде и посоху во многих можно узнать паломников, по случаю провозглашенного папой Николаем V Юбилейного года бредущих в Рим в надежде получить полное отпущение грехов. Если они и дальше, думая обрести отдохновение на тяжком пути, будут шляться толпами по борделям и тавернам вместо церквей, болезнь доведет их до Рая или Ада куда раньше, чем они доковыляют до собора Святого Петра.
Я хотел еще проехать мимо баптистерия Сан-Джованни и потрясающего золотого великолепия Райских врат, созданных маэстро Лоренцо Гиберти, но нас ожидает неприятный сюрприз. Пространство, которое должно быть отведено лишь для созерцания великой красоты, созданной и подаренной городу нашими мастерами: баптистерия с его вратами, башни Джотто, купола Пиппино, на которые невозможно смотреть без трепета, – стало, напротив, ужасным местом пыток и смерти во имя безумного суеверия, которое книга, спрятанная в подвале моего дома, осуждает без малейшего снисхождения. Мы вынуждены свернуть за баптистерием, потому что площадь перед собором Санта-Репарата занята длинным помостом, этакой сборной дощатой кафедрой, и штабелем дров, сложенных вокруг высокого столба. К сожалению, эти декорации мне знакомы. Им суждено стать сценой для священного и назидательного зрелища, сожжения еретика, дабы огонь искупил страшный грех человека, посмевшего утверждать нечто противное истине и догматам Церкви.
Я пришпориваю коня, надеясь поскорее убраться отсюда, и машу Андреа, чтобы погонял мула. Охваченный мрачными мыслями, уже забыв о радостном поводе нашего выезда, я наконец добираюсь до виа ди Санто-Джильо. Пока монна Джованна с монной Джиневрой заключают договор и ставят свои подписи, одна передает деньги, другая – рабыню и узелок с ее скудными пожитками, я в полнейшей отрешенности даже не смотрю в ту сторону; а блаженный мессер Донато все это время глядит в окно, зачарованный полетом разноцветной бабочки. Наконец дело кончено, повозка готова, мы медленно и печально возвращаемся другой дорогой, по виа деи Серви, и я, не имея более желания ехать верхом на глазах у всей толпы, спешиваюсь и дальше иду пешком, ведя коня под уздцы.
Но я не подумал, что, решив выбрать кружной путь, чтобы избежать зрелища казни, мы окажемся ровно у того места, где несчастного держали в цепях и где он провел последнюю ночь своей жизни, – у капеллы Палаццо-дель-Капитано. В тесноте и давке у Канто-дель-Проконсоло, я велю Андреа, взяв и мою лошадь, свернуть на виа деи Пандольфини и поторопиться, но осторожно, дабы не раздавить кого-нибудь колесами. Я последую за ними пешком, слегка подобрав полы, чтобы не замараться в толпе грязных простолюдинов.
Однако галдящая, почти ликующая толпа оттесняет меня от повозки и увлекает за собой, не в силах противиться болезненному любопытству к жестокости этого зрелища. И вот я снова оказываюсь у Санта-Репараты. Архиепископ, громогласно заклеймив с кафедры виновного в ереси, богохульстве и некромантии, публично сжигает его книги. Приближается финал. Барабанная дробь. Милостивым повелением еретик избавлен от непосильных мучений. Вместо костра его тащат на другой помост, где быстро и без особых церемоний вешают. Затем безжизненную марионетку, бывшую прежде человеческим существом, привязывают к столбу и сжигают дотла. Когда все заканчивается и пламя гаснет, Черные братья, чьи лица скрыты капюшонами, затягивают последний гимн, Omnes Sancti et Sanctae Dei.
* * *
Лена полюбила Катерину сразу, с первого мгновения, как только ее увидела, о чем и сообщила вечером, когда я, совершенно опустошенный, в измятом, перепачканном грязью и пеплом вестиретто вернулся наконец домой после долгих скитаний вдоль городских стен и за Арно до самого Сан-Миниато-аль-Монте. Все еще слишком слабая, она приняла кормилицу, не вставая с постели, в своей комнате, куда ту проводила моя мать, когда они добрались до дома. Женщины тут же все устроили. Они отвели Катерину в ее маленькую комнатку на третьем этаже, велели разобрать вещи, умыться, а после снова спуститься вниз. Катерина, любуясь лежащей в колыбели Марией, нежно ей улыбалась, и Лене показалось, будто Мария ответила ей, широко распахнув изголодавшиеся глазищи, хотя это, конечно, невозможно, ведь она еще слишком мала. Катерина молча, одним взглядом спросила, можно ли ей перейти к делу, и Лена согласно кивнула. Тогда кормилица осторожно взяла Марию на руки и стала ее баюкать, тихо мурлыча колыбельную, потом устроилась на перине на полу, рядом с высокой кроватью Лены, в одной рубахе с ворохом подложенных тряпиц, обнажила грудь, уже набухшую, из сосков которой потихоньку сочились белые капли, и с необычайной простотой и естественностью прижала к ней крохотный ротик Марии. Малышка, не открывая глаз, повернула в ее сторону голову, словно в мире не было ничего естественнее, чем обнаружить источник жизни; так же совершенно непостижимым образом отыскивает воду при помощи палочки лозоходец. Сжав сосок губами, она принялась сосать, чувствуя, как теплая жидкость наполняет ее изнутри. Лена блаженно наблюдала за ней, и даже бабушка Джованна, наученная самой жизнью быть черствой и не склонной к сентиментальности, была счастлива.
Вернувшись, я застал Марию спящей на руках у Лены. Мать моя уже легла после изрядно затянувшегося дня, от самой ужасной части которого мне удалось ее оградить. Катерина отдыхает наверху, готовая в любой момент спуститься, если Мария проснется и Лена вызовет ее звоном колокольчика. Что за восторг видеть, как счастлива Лена за свое дитя; эта сила жизни и любви окончательно изгоняет из моей души весь яд смерти и ненависти. Мне хочется подойти, поцеловать их, но я не смею и замираю на пороге, опасаясь, что в этот злополучный день в толпе людей, что разносят заразу, прикасаясь друг к другу, обмениваясь дыханием и жидкостями, кашляя, крича и чихая, мог подхватить болезнь и потому по крайней мере две-три недели должен сторониться близких.
Лена обращается ко мне с особой просьбой. Она говорит, что любоваться тем, как Катерина кормит грудью Марию, было для нее восхитительным переживанием, утешением, которое Господь даровал ей, лишив возможности кормить ребенка самой, и что выражение блаженства, которое она видит на лицах Катерины и Марии, передалось и ей, она тоже его испытала, и теперь она хочет, чтобы Катерина кормила Марию грудью, находясь с ней рядом, потому что так и сама будет чувствовать, что дочь растет и набирается сил при ее непосредственном участии. Она понимает, что это не совсем обычная просьба и что многие синьоры из иных знатных семей предпочитают, чтобы кормление происходило где-нибудь в другом месте, а у них была бы возможность накраситься, нарядиться, выйти по своим делам; но ее это не интересует, ей все это не важно, она просто хочет быть с Марией и дарить ей всю свою любовь, и разговаривать с ней, и петь ей песенки, пока Катерина кормит ее молоком. А пока Мария спит, она должна всегда быть в колыбельке возле ее, Лениной, кровати, а не в комнате Катерины. Я нахожу эту просьбу весьма справедливой и прекрасной и сразу же даю согласие, хотя и предвижу некоторое недовольство со стороны матери. Но на этот раз ей придется смириться: нельзя же во всем следовать прихотям монны Джованны.
Потом Лена говорит мне еще кое-что, и это в самом деле нежданный сюрприз. Эта мысль пришла ей в голову только сейчас, когда она осталась одна и подумала обо мне, о нас. Она вдруг осознала, что во время беременности и родов меня, должно быть, мучили не только переживания за нее, но и некое чувство отстраненности от того, что она переживала, ведь, насколько ей известно, именно так всегда и происходит. Однако нет ни капли истины в том, что мы, мужчины, думаем о них, женщинах, а именно: что они живут заботами лишь о теле, о красоте и о любви, что способны только ухаживать за домом, мужем и детьми. Нет, это неправда, они тоже умны, чувствительны и о многом размышляют, быть может, даже больше нас, мужчин, что вечно заняты делами. Она понимает, что мужчины и женщины, которым долг велит быть спутниками жизни, обычно ведут жизнь совершенно раздельную, но ей хотелось бы как-то это исправить, показать мне всю меру своей любви и огромную благодарность за то дитя, что я ей подарил, и за тех, что у нас с ней еще будут. Поэтому она просила бы, чтобы в будущем, когда Катерина будет кормить ребенка, я тоже время от времени присутствовал рядом, чтобы в эти минуты я сжимал ее руку, разделял ее счастье и ощущал свое участие в том, как вступает в жизнь и растет наше дитя.
Глаза мои наполняются слезами. Я хотел бы встать на колени у края кровати, целовать ее руки и крохотные ручки Марии, но не могу. Этим своим желанием и силой своей любви Лена совершает маленькую, но невероятную революцию. У нее хватает духу переступить через барьер, разделяющий и всегда разделявший нас, мужчин и женщин, она пытается сделать меня частью своего мира и своих чувств, сделать меня лучше, чем я есть, избавить от моих кошмаров и страхов, наконец, открыть меня для жизни. Настоящей жизни, которую не мужчины вовсе, а только женщины, матери, понимают полностью и абсолютно в глубине своего существа и своего тела, прежде мысли, разума и философии. Той жизни, что выходит за пределы книг.
Не знаю, однако, суждено ли этой мечте сбыться. Возможно, через несколько дней у меня начнется жар, я с ужасом обнаружу темные припухлости в паху и под мышками, потом погружусь в забытье и через неделю покину эту долину слез. А может, ничего не покину, потому что смерти не существует, как не существует загробной жизни. Мои атомы, атомы тела и души, останутся здесь, в доме, ведь они распадутся и продолжат блуждать в бескрайности Вселенной.
* * *
Чуму я не подхватил. Май подошел к концу, а симптомы этой ужасной болезни не проявились, так что я решился выйти и приобрел у Антонио ди Джованни Каниджани локоть с четвертью белой миланской саржи, чтобы сшить из нее пару великолепных шоссов и окрасить их кошенилью в честь того чудесного времени года, когда все вокруг возвращается к жизни. Однако в городе дела обстоят не лучшим образом. Число погибших от чумы многократно увеличилось из-за жары и наплыва паломников, а более всего по причине массового заражения в толпе, собравшейся поглазеть на казнь того еретика, будто он вернулся из своего нового нематериального измерения, чтобы отомстить палачам. Болезнь свирепствует главным образом в бедных кварталах, ведь на звон колокола, возвещающий о смертной казни, стекались в основном простолюдины, и теперь в тех местах заболевают сотнями, трупы выносят за порог, а наутро проезжает телега c санитарным управлением, и два-три уцелевших монаха, собрав покойников, вывозят их в братские могилы за городской стеной.
Похоже, вернулся ужас столетней давности. Я хорошо помню, с чего начинается «Декамерон». Но теперь на тот жуткий рассказ накладывается другой, еще более трагический, которым заканчивается тайный манускрипт, скрытый в подвальном сундуке: повесть о чуме, опустошившей Афины. А наша Флоренция – разве не новые Афины? Поэт описывает мельчайшие физические подробности жуткой болезни, верные признаки приближающейся смерти. Но самая большая мука – в другом: болезнь завладевает душой и лишает человечности, способности общаться с другими людьми, помогать им, облегчать их страдания в великой войне против общего врага.
Мы решили переехать на виллу в Торре-дель-Антелла, пока мор не пойдет на спад. Моя мать останется дома, дают о себе знать годы, к тому же ей не хочется испытывать на себе тяготы деревенской жизни, больше она ничего не говорит, но мы-то знаем правду. Мать недовольна решениями Лены, не одобряет ее чрезмерного сближения с рабыней, а также излишней самостоятельности моей жены, что, по ее словам, повадилась чересчур много думать и рассуждать, а женщине подобное не пристало. Нам же, безусловно, будет полезно вернуться на лоно природы, а заодно провести некоторое время вдали от моей дорогой матушки, имеющей привычку контролировать все и всех, причем в весьма навязчивой манере. В этом году зараза обошла Антеллу стороной, работы в полях и садах велись вполне исправно. Мы с Андреа тоже приложим руку: скоро наступит время жатвы и молотьбы.
Перед отъездом мать успевает напоследок упрекнуть меня, что я до сих пор не внес в книгу воспоминаний момент появления Катерины. Это нехорошо, говорит она, записывать надо все и всегда, ведь чего не запишешь, того и не существует, а куда мы придем, если не будет учета покупкам и арендам, приходам и расходам. И тогда я, любитель сорить деньгами пуще своего отца, только и думающий, как бы потратиться на красивую одежду и книги, бесполезные, а, пожалуй, и вредные, и которому, не слушая мудрой свекрови, потворствует теперь и жена, доведу-таки семью до полного разорения. И вот, чтобы ее задобрить, я послушно беру тетрадь, обмакиваю перо в чернильницу и пишу.
В одном матушка моя, несомненно, права. Произошедшее нужно записывать сразу, в тот же день, иначе детали, даже самые важные, начинают стираться из памяти, заслоняться другими событиями, что набегают друг на друга, подобно волнам в реке времени, неумолимо продолжающей свой бег. И вот я, поняв, что уже не могу вспомнить точный день появления в нашем доме Катерины, оставляю это место пустым. Не припомню и как звали выжившего из ума мужа монны Джиневры: Филиппо или Донато? Хуже того, когда мы отправились за рабыней и монна Джиневра попросила ее назваться, Катерина произнесла и имя отца, причем эту деталь я хорошо запомнил, поскольку она была весьма необычной, рабыни ведь никогда не говорят имени отца, у них нет прошлого. Но, к сожалению, в тот злополучный день я плохо расслышал ее слова, должно быть, что-то вроде Катерина, дочь Якова или Якува, не знаю, а может, это было какое-то варварское имя, свойственное ее народу, так что здесь я поставлю прочерк, как и на месте имени отца посредника, о котором я помню только, что звали его Рустико, разносчик.
* * *
Пора в путь. Я еду верхом, Лена, Катерина и Мария, все в простой, легкой одежде, – в повозке, которой правит Андреа. Мы пересекаем Понте-Рубаконте, покидаем зачумленный город через ворота Сан-Никколо и наконец, миновав Понте-а-Эма и городок Антеллу, подъезжаем к нашей древней башне, что высится, белея, над господским домом и домишками работников, уже поджидающих нас на гумне с женами, семьями и многочисленными детишками.
Именно здесь, в Антелле, в ярком свете деревенского лета я впервые могу разглядеть Катерину, ведь прежде, в нашем флорентийском доме она не попадала в поле моего зрения, разве только на мгновение, безымянной фигурой, что входила в покои жены и покидала их. А я – я никогда не обращал на нее внимания. Здесь, в Антелле, сбылось наконец то, что я обещал Лене. Мне позволили наблюдать за ритуалом кормления грудью. Освободившись от назойливого присутствия моей матери, Лена чувствует себя здесь гораздо свободнее, одевается по-крестьянски просто. Она оставила во Флоренции всю свою тяжелую, не подходящую для этой жары одежду. Как подумаю, сколько стоили ее жилеты-джорнеи, все эти чоппы, чоппетты и рукава к ним, а хуже всего – роскошное алое платье с вычурными узорами, расшитое золотом и жемчугом… Когда вернемся, велю их спороть, жемчужины всегда пригодятся, их вполне можно перепродать.
Иной раз Лена ходит здесь босиком: в какой бы ярости была моя мать, узнай она об этом! Она даже велела положить перину для Катерины в угол ее собственной комнаты, рядом с колыбелью Марии. Это тоже разозлило бы монну Джованну: виданное ли дело спать с рабыней? Я же нахожу более удобным спать во второй комнате, вместе с Андреа; не важно, что это мой слуга, для меня он почти как брат: я слежу за тем, во что он одевается, и стараюсь не журить за единственный его порок, которому, впрочем, тоже позволяю ему предаваться с умеренностью, – страсть к игре. Во время кормления Лена не оставляет Катерину на перине, но позволяет ей расположиться на семейном ложе, высокой деревянной кровати, а сама устраивается рядом, поглаживая Марию по головке, шепчет ей самые прекрасные в мире слова, поет колыбельные, когда малышка, насытившись, засыпает.
И когда я, робко приоткрыв дверь, заглядываю в их комнату, погруженную в полумрак прикрытыми ставнями, спасающими от беспощадной жары и яркого полуденного солнца, это чудесное единение трех наполненных жизнью тел, Лены, Катерины и Марии, представляется мне почти священным образом. Вот Лена, приложившая Марию к налитой Катерининой груди и сама усевшаяся рядом, вот малышка, прильнувшая к кормилице и начавшая сосать. Катерина, тоже нисколько не смущенная моим присутствием, закрывает глаза и улыбается, мягкой, едва различимой в уголках приоткрытых губ улыбкой, от которой веет бесконечным горем: быть может, она думает о сыне, с которым ее разлучили. Лена знаком приглашает меня присесть на табурет возле кровати, протягивает свою теплую руку. И я замираю в созерцании, как замирает в этот миг время вокруг нас. Кажется, будто я слышу каждый самый тихий звук, проникаюсь каждым мигом этого чуда жизни здесь и сейчас: губы Марии, грудь Катерины, дыхание Лены, жужжание мухи, пытающейся выбраться из-под шторы, далекое стрекотание цикады, взмах крыла где-то там, в бесконечной синеве неба…
Лена начинает заговаривать с Катериной, а иногда и я прислушиваюсь к ним, с любопытством разглядывая эту дикарку, которая, однако, манерами, характером и каким-то особым чувством красоты и гармонии больше похожа на принцессу. К тому же, если верить монне Джиневре, ее хозяйке, она обладает необычайным талантом: умеет рисовать лучше иных художников. Вернувшись во Флоренцию, я непременно это проверю, быть может, покажу ей рисунки в моих книгах или свожу в Санта-Кроче, чтобы для нас провели службу в нашей семейной капелле, самой прекрасной во Флоренции. Мне хочется показать Катерине фрески, которыми она расписана. Сейчас я понимаю, что, увидев ее без чепца, с распущенными волосами, прекрасными, струящимися, золотистыми от природы, я мысленно сравнил Катерину с одной из фигур в капелле, той, что с самого детства производила на меня сильнейшее впечатление: святой мученицы Аполлонии, которую один из мучителей силой удерживает за волосы, а другой палач, словно цирюльник, вырывает у нее изо рта один за другим все зубы. К счастью, Катерина – не Аполлония, ее белые зубы здоровы, и нет на свете человека столь жестокого, чтобы их вырвать.
Постепенно открываясь Лене, Катерина рассказывает ей невероятную историю своей недолгой жизни: мол, она дочь князя одного воинственного племени, обитающего в горах над Великим морем, мифической области, лежащей сразу за Колхидой, откуда аргонавты похитили золотое руно. Возможно, родина ее – древняя страна амазонок, ведь сама с ранней юности она была свирепой конной воительницей, а с недавних пор, обнаружив необычное для женщин влечение к лошадям, холит и ласкает моего коня, того, что со звездой на лбу, кажется, даже разговаривает с ним и успокаивает, когда тот нервничает, чего сам я сделать не могу. Видно, что она дикарка: стоило нам приехать в деревню, словно расцвела и повсюду ходит босиком. Но, возможно, именно благодаря своему варварскому происхождению она куда ближе нас к природному типу, суровому первобытному человеку, вскормленному непосредственно матерью-землей. Чтобы не испортилось молоко, мы стараемся оградить ее от тяжелой работы, сажаем с нами за стол и следим, чтобы хорошенько поела. Овощи и фрукты она обожает и абрикосы бог знает отчего любит до безумия. Катерина – крещеная христианка, хотя молитв и не знает, и Лена, желая ей помочь, водит ее с малышкой на руках на мессу в маленькую часовню при вилле, куда каждое воскресенье наезжает священник из Антеллы. Она кажется очень набожной, а когда видит крест и образ Богоматери Млекопитательницы, подаренный некогда моему деду одним из мастеров, расписавших часовню, глаза ее всегда мокры от слез.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































