Текст книги "Улыбка Катерины. История матери Леонардо"
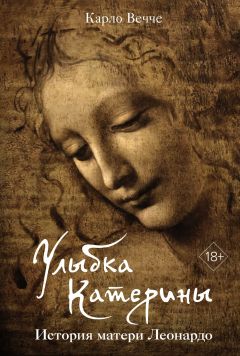
Автор книги: Карло Вечче
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 34 страниц)
Когда я заканчиваю, монна Джиневра просит меня составить также небольшую дарственную в пользу Катерины, разумеется, post mortem suam, то есть как можно позже: кровать, сундук с двумя замками, тоненький матрас, пару простыней, одеяло; в общем, то немногое, что еще оставалось в Катерининой комнате, и вдобавок еще кое-что по выбору Джиневры. Все кончено. Катерине никогда не быть свободной. И мне придется разлучить ее с ребенком.
Тишина. Катерина, presentem et acceptantem, улыбается мне из своего уголка, явно считая, что все прошло хорошо и что мне при помощи магии и власти письма удалось разорвать ее цепи, вернуть ей свободу. Как мне набраться храбрости и сказать ей правду? К чему теперь бесполезный свиток пергамента, уже заготовленный для чистовика, чтобы сейчас же вручить ей?
И все же это еще не конец. К удивлению всех присутствующих, и особенно монны Джиневры, дряхлый Донато поднимается во весь свой немалый рост. Уверенным шагом направившись к Катерине, он возвращает ей волчок Леонардо. Потом наклоняется, целует ее в лоб и, повернувшись к нам, начинает говорить. И, поверьте, этот голос принадлежит не выжившему из ума старику: Катерина свободна, и всегда была свободна, с тех самых пор, как он ее знает, она свободнее любого из нас, находящихся в этой комнате, свободна от предрассудков, законов, злобы, мелочности, от бесконечных цепей, делающих каждого из нас рабом худшей части самого себя. Катерина подарила ему, Донато, жизнь и свободу, но теперь вот-вот потеряет и то и другое. Кажется, многим из нас, сидящим в этой комнате, она тоже успела подарить и радость жизни, и любовь, без какого-либо расчета, без выплат и процентов. Катерина уже свободна, так зачем они нужны, эти условия? Клетка открыта, пускай она летит. Произнеся это, Донато наконец снова садится в кресло, замыкаясь в своем молчании.
Я никогда не забуду лицо монны Джиневры. Нет, это не злость. Она и впрямь до сих пор любит своего негодяя-мужа. И Донато сказал слова правды, которые никто из нас, даже сама Джиневра, не осмеливался произнести. Но это лишь секундное замешательство. Монна Джиневра мигом приходит в себя и забирает у меня протокол: договор заключен, бросает она, ее пожелания внесены в текст в присутствии свидетелей, добавить больше нечего. И велит мне немедленно, не теряя времени, приступать к составлению оригинала in mundum под ее диктовку. Свидетели молчат, никто не понял, что произошло. Возмущенная монна Лена хочет вмешаться, но муж стискивает ее руку, умоляя молчать, формально их обоих здесь нет. Ничего не понимающая Катерина тихо сидит в своем углу, баюкая Леонардо; тот по-прежнему мирно спит. А я? Что остается делать мне, кроме как развернуть пергамент, разгладить его, закрепить двумя линейками, потом взять перо, снова окунуть его в чернильницу и начать писать то, что диктует мне Джиневра? Я не более чем нотариус. Тот, кто записывает чужую волю.
Строка за строкой ложатся на лист, мое сердце – кусок льда. Однако сразу после слов presentem et acceptantem, как раз перед этим проклятым conditio, мне приходится остановиться, поскольку остановилась и монна Джиневра. Подняв голову, я вижу, как она задумчиво смотрит на пергамент. Потом оборачивается к Катерине, а та отвечает ей дивной улыбкой и взглядом, полным благодарности. Возможно ли, или это мне лишь показалось, что на миг в глазах Джиневры мелькает слеза? Покосившись на меня, она ворчит: мол, синьор нотариус слишком медленно пишет, похоже, он без ума от своего изящного почерка, давайте-ка пропустим пару ненужных строчек, а то до ночи просидим. И снова начинает диктовать: liberavit et absolvit ab eius servitute. Затем, пропустив все условия, сразу переходит к заключению и тому, что дарит Катерине. Я судорожно записываю, должно быть, почерк мой становится все хуже, возможно, я даже делаю ошибки, так до конца и не осознав, что произошло. Внизу вычерчиваю свой сигнум, поспешно, небрежно, надеясь только, что наш малыш Леонардо не унаследует моих скудных способностей к рисованию.
В заключение вывожу подпись, еще более пышную, нежели обычно, так меня переполняет счастье: «Ego Petrus Antonii ser Petri de Vintio civis et notarius Florentinus Imperiali auctoritate iudex ordinarius notariusque publicus de omnibus et singulis suprascriptis rogatus fui et meo solito». Я сворачиваю пергамент и дрожащей рукой протягиваю его Катерине. Мечта сбылась. Она свободна. С этого мгновения.
Напряжение спало. Теперь и в самом деле все кончено. Нас тянет обняться, мешает лишь нужда соблюдать приличия и достоинство. Счастлива даже монна Джиневра. Прежде чем отпустить меня восвояси, она хочет перемолвиться еще парой слов. Остальные уже спустились во двор и, укрывшись в повозке, мчатся в сторону замка, поскольку начинается ливень. В зале только мы вдвоем. За этими стенами незамужнюю женщину ждет множество опасностей, говорит Джиневра. К несчастью, в этом мире женщина никогда не бывает по-настоящему свободной. Свобода – всего лишь иллюзия. Всегда есть кто-то, готовый воспользоваться ее слабостью, навязать свою волю, совершить насилие или бесчинство. Вот почему она не хотела отпускать Катерину. Но теперь та вылетела из клетки, и я должен поклясться именем Господа нашего, что я обеспечу не только будущее ребенка, но и будущее самой Катерины, насколько того позволит нынешнее общество. Мне предстоит со всей возможной тактичностью подумать о ее счастье, ее свободе, завоеванной ценой стольких страданий.
И последнее, а потом можете идти, сказала она, протянув мне свернутую салфетку. Внутри оказался медальон с ликом Мадонны, переломленный пополам. Я с тяжелым сердцем понял, что это значит, и Джиневра немедленно мне это подтвердила. Вторая его половина – в Воспитательном доме, на шее нашего с Катериной первенца. Если я решу отыскать его и помочь на жизненном пути, Господь вознаградит меня за это, а этот знак поможет мне узнать малыша: половинки идеально совпадут. Монна Джиневра велела окрестить его двумя именами, первым она выбрала, потому что ей казалось правильным, чтобы ребенок носил имя того, кто несет тяжелую ответственность за его зачатие; второе предложил Донато, вероятно, с сожалением вспоминавший об отце, которого оставил еще в детстве. И теперь ребенок, старший брат Леонардо, зовется Пьеро Филиппо.
С огромным трудом, борясь с проливным дождем, я добираюсь до палаццо Кастеллани, а кругом носятся люди, с воплями бросаясь закрывать свои дома и лавки, поскольку Арно поднимается и может выйти из берегов. Мне хочется попрощаться с рыцарем и его женой, а также с Катериной и Леонардо. Завтра утром я отправлюсь в Винчи, и меня ждет множество дел. Сегодня, не желая никого стеснять, я уже заказал каморку на постоялом дворе Гуанто, это практически напротив, у монастыря бернардинцев, лишь бы Арно не разлился и не унес нас всех. Я кланяюсь монне Лене и ее дочери Марии, обнимаю Катерину, которой нужно поскорее переодеться, а потом покормить Леонардо. Я провожаю их глазами и сердцем: мы снова увидимся только после моего возвращения, а я вернусь только тогда, когда сделаю то, в чем поклялся монне Джиневре. Не знаю пока, как этого добиться, но как-нибудь справлюсь. Провидение, помогавшее нам до сих пор, не оставит нас на полпути к цели.
Я остаюсь наедине с рыцарем, впервые спустившимся со своего Олимпа. Он приглашает меня задержаться на минутку, наливает бокал лучшего вина с собственных виноградников в Антелле. Мы впервые пьем вместе. Да, вино и впрямь хорошее. Согревает, ведь с меня все еще льет. Катерина забыла на столе свой пергамент, для нее он не имеет значения, есть куда более насущные вещи, о которых стоит подумать. Развернув его, рыцарь вдруг хохочет. Поистине великим, говорит он, может считаться нотариус, умудрившийся заверить договор даже в будущем. И он сует мне под нос datatio, где написано: die secunda mensis decembris. Да откуда же декабрь? Сегодня 2 ноября! Выходит, из-за меня ему придется заплатить монне Джиневре еще за месяц найма кормилицы; и рыцарь снова хохочет. Как можно совершить такую грубейшую ошибку? Я ведь экзамены проваливал из-за меньшего! Снова взглянув на имбревиатуру, которую я упрятал в сумку, чтобы уберечь от дождя, я обнаруживаю еще большую путаницу: там я написал die XXX octobris, потом поспешил исправить, но не на 2 ноября, а на die prima novembris. Так какой же сегодня день? Пустое, заключает рыцарь, залпом опорожняя бокал чистейшего горного хрусталя, какое это теперь имеет значение? Что есть время? Что есть дни, месяцы или даже годы в масштабах Вселенной? Ничто. Взмах крыльев бабочки.
* * *
Донато
Дом на виа ди Санто-Джильо во Флоренции,
16 апреля 1466 года
Говорят, когда подходит время оставить земную жизнь, перед глазами проносится все, что случилось пережить, даже то, что давно забыто, чему ты позволил раствориться в ночной темноте. Быть может, сами засовы и решетки телесной тюрьмы начинают ослабевать и таять, и тогда из глубин, из самых сумеречных уголков души, свободных от этих оков, возникают призраки прошлого, сперва как робкие посетители, трепещущие, боязливые, затем все назойливее и громче, как вышедшая из берегов река, внезапно, одномоментно заполняя собой все комнаты. Это происходит со мной уже две-три недели, пока снаружи зарождается чудо или иллюзия новой весны, которой мне уже не испытать. Я четко осознаю, что эта весна станет для меня последней. Когда являются знаки, куда более ясные и очевидные, чем даже физическая боль, уже несколько месяцев назад приковавшая меня к постели и каждый день забирающая еще немного крови и дыхания, то и в самом деле настало время завершать мою историю. Miserere mei, Domine, quoniam infirmus sum.
Я словно очнулся от долгого сна. Прямо сейчас, оказавшись на пороге сна еще более долгого, глубокого, без сновидений. Я помню все. Каждое событие, даже самое незначительное. Отца, допоздна работавшего в том самом доме, где теперь умираю я, в большой комнате на первом этаже, ныне пустой и заброшенной, но бывшей тогда сердцем его лавки и всей жизни, с видом на огород, которого больше нет, во времена оны залитый солнечным светом, которого тоже больше нет, осталась лишь тень грандиозного купола, нависшего над нашим домом. Ребенком я часто подглядывал из-за двери, как отец ведет резец, как проделывает в древесине кедра последнюю бороздку, куда ляжет тонкая полоска перламутра, как ложится в мягкую постель надушенное тело любовника.
О, эти ощущения, фрагменты уходящей жизни… Воспоминания, самые сильные, вонзающиеся, словно гвозди, в нашу бедную плоть… Порка, что задал мне отец ивовым прутом, свежесрезанным, гибким, как змея, жгучая боль, металлический привкус собственной крови во рту. Звонкая музыка золотобитных молотов, запах расплавленного золота и серебра, капающих из тигля, запах старых кирпичей, перемалываемых в порошок, чтобы смешать аффинат, мышей и плесени в камерах Пьомби, моря, водорослей и людей, сходящих с галер, прибывающих в Венецию. А после – голоса, языки, наречия, мешавшиеся в Риальто и на складах: венецианцы, падуанцы, кьоджотти, фриуланцы, евреи, немцы, богемцы, турки, греки, армяне; и шепот проституток, и крики менял у Сан-Якомето, и колокола Сан-Марко, и алая хоругвь «Бучинторо», хлопающая на ветру… Как от всего этого хотелось жить! И как прекрасна была молодость!
Множество лиц, глаз, улыбок, людей, которых больше нет. Старый парон Бальдассарре, вернувшийся из путешествий по далеким сказочным мирам. Достопочтенный Себастьяно Бадоер. Верный Муссолино и ушлая Паска. Мастер Томазо и монна Бенвеньюда. Бедняжка Кьяра, несчастная моя жена. Раб Дзордзи и ужас, охвативший меня, когда его кровь хлынула на пол. Святой брат Христофор. Все они давно умерли. И ты, Луче, единственная любовь моей жизни! Ты, чьи глаза были подобны звездам! Как ты пела, аккомпанируя себе на лютне! Я и теперь помню те слова: «Тебе шепчу я с обожаньем, с сожаленьем: „Звезда моя, когда ж ты утолишь мое томленье?“»
Но пока жизнь нас не покинула, а милосердная смерть дает последнюю короткую передышку, давайте-ка лучше вспомним о живых. И первая моя мысль – о Джиневре, отчаянно сражавшейся со всем и вся, даже со мной, едва заметившим и ее саму, и тот дар невинности и любви, что она вручила мне еще юной девушкой; и лишь когда судьба бросила меня, разбитого, оборванного, нуждающегося, в ее объятия, сумевшей наконец довести дело до замужества. Я думаю о Себастьяно, моем сыне, живущем в Венеции, не знаю, впрочем, жив он или мертв, но верю, что жив-здоров и ждет известий, что я отбросил концы. Думаю о Полиссене, нашей с Луче дочери, теперь уже взрослой, тридцатилетней, единственном сохранившемся свидетельстве, что некогда эти мужчина и женщина любили друг друга. Где она теперь? Что с ней?
И еще Катерина. Сколь же ярки воспоминания о том, как она легко соскочила с лодки Дзуането на причал. Он не была закована в цепи и походила вовсе не на рабыню, а на левантийскую принцессу, что, сойдя с галеи, полной золота, слоновой кости и шелка, презрительно оглядывалась по сторонам, силясь понять, достоин ли ее мир, до которого она снизошла. Золотые волосы, синие, словно небо, глаза. Длинные тонкие руки, мягкая, шелковистая, чуть поблескивающая кожа. Юное, гибкое тело дикой кошки. Но у меня ни разу, даже на миг, не возникло желания овладеть им. Она была моей рабыней, мне ничего не стоило в любую секунду дать волю своим самым низменным инстинктам. И все же я с самого начала почувствовал ее свободу, внутреннюю энергию, которую ни одна сила и ни один документ не смогли бы обуздать. В глубине души я знал, что она – ангел. Ангел, явившийся спасти меня, освободить, пусть даже от меня самого и моих собственных демонов.
Так и случилось, когда она вытащила меня бесчувственным из вод великой реки и отвела во Флоренцию. C того же момента начался и мой долгий сон, словно сама Катерина, обернувшись волшебницей, окутала меня чарами, снова превратившими меня в ребенка, вернувшими невинность помыслов, оставившими выживать в лабиринтах нового мира, о котором я не имел ни малейшего понятия. И теперь, когда я вот-вот умру, заклятье это рассеялось, завеса прорвалась, а память моя вновь прояснилась, но помню я только годы, предшествовавшие падению в великую реку, а все, что случилось после, так и осталось зыбким туманом. Джиневра говорит, этот туман длился не одну короткую ночь, от заката до восхода. Прошло целых двадцать пять лет.
Я знаю, что Катерина теперь свободна и замужем, у нее спокойная, мирная жизнь и множество детей. Должно быть, последний раз я видел ее вон там, в зале, с ребенком, столь же похожим на ангела, как и она сама. Впрочем, мне кажется, я припоминаю еще одного ангела, рожденного ею года за два до того: Джиневра забрала его, отдав в Воспитательный дом, где его окрестили Пьерфилиппо. Оба они были плодами ее огромной любви к нотариусу, серу Пьеро, ведь Катерина, а в этом есть прелесть жизни, на самом деле была вовсе не ангелом не от мира сего, а таким же человеческим существом, как и все мы, женщиной, состоящей из плоти, крови и чувств, способной влюбляться, любить и дарить новую жизнь.
Теперь, когда мне лучше и я снова могу мыслить здраво, Джиневра наскоро восполняет те последние двадцать пять лет, что прошли незамеченными. Меня не интересует состояние высших сфер, понимание того, кто правит нынче во Флоренции и что случилось с теми, кто когда-то был у власти. Я хочу знать лишь о тех, кто был мне близок, о превратностях судеб людей, чьи жизни переплелись с моей, вот и все; будто перед смертью мне нужно осознать, размотать моток, клубок, отыскав нить, связывающую мою жизнь с другими, возможно, в конце концов она сможет подарить мне хотя бы иллюзию того, что эта жизнь была зачем-то нужна, что, пускай даже и против моей воли или без моего ведома, мои непреднамеренные поступки имели большие и долговременные последствия для жизней других людей.
Кстати, Пьеро и оказался достойным человеком. Когда Джиневра освободила Катерину, он взял на себя все обязанности отца и мужчины. Честно выдал Катерину замуж за батрака из Винчи, а сам женился на дочери чулочника, Альбьере ди Джованни Амадори, и поселился рядом в Борго-де-Гречи. Еще и брата праздношатающегося, Франческо, к себе перевез, женив на младшей сестре Альбьеры Алессандре. Джиневра говорит, насколько ей известно, приданого ни за той, ни за другой невестой не дали. Впоследствии Пьеро с Альбьерой переехали в палаццо на пьяцца ди Парте-Гуэльфа, где располагался совет цеха менял. К несчастью, милость иметь потомство не была им дарована, и бедняжка Альбьера умерла в родах. Сын Пьеро и Катерины Леонардо остался жить с ним. Приехав из Винчи, он в возрасте десяти лет был отправлен в школу абака, но сер Пьеро, оставшись один и не имея более возможности за ним присматривать, отдал сына в мастерскую маэстро Андреа ди Микеле, прозванного Верроккьо. Должно быть, сер Пьеро был ему надежным и верным другом, поскольку маэстро взвалил на него пару месяцев назад непростые обязанности посредника в споре с братом Мазо за отцовское наследство. Еще Джиневра сказала, что люди не раз видели, как сер Пьеро входил в Воспитательный дом, хотя никаких дел у него там не было, скорее всего, он тайком печется о другом своем внебрачном сыне, Пьерфилиппо.
Еще одна семья, куда пришла беда, – Кастеллани. Когда рыцарь явился к нам, чтобы помочь освободить Катерину, с ним была его беременная жена монна Лена. Ребенок, их первый мальчик, законный наследник, родился 12 января 1453 года, что доставило рыцарю огромную радость. Малыша окрестили Маттео, это случилось на следующий день после Прощеного воскресенья, и не где-нибудь, а в баптистерии Сан-Джованни. Служили сам архиепископ Антонин, фра Мариано Сальвини, приор Аннунциаты, и архиепископский капеллан, сер Джованни; рыцарь не поскупился на свечи, на дары для крестных и милостыню для бедняков, на ленты для новой кормилицы, занявшей место Катерины, на засахаренный миндаль для женщин, что приходили проведать монну Лену. Но радость вскоре сменилась болью, всего через месяц младенец был найден бездыханным: возможно, кормилица нечаянно его заспала. Eius animam inter innocentes suos Deus noster suscipiat in gloria etterna. Amen.
Чем я занимался все эти годы, я почти не помню. Время от времени Джиневра или один из ее братьев водили меня туда-сюда, нарядив в дорогой плащ, велели делать то-то и то-то, а главное – не раскрывать рта. Кажется, в 1457 году меня избрали гонфалоньером нашего квартала, но что именно мог сделать восьмидесятилетний командир вооруженного ополчения для поддержания общественного порядка и подавления каких-либо мятежей, я точно сказать не могу, вероятно, за три моих месяца в этой должности абсолютно ничего не произошло. Таким же образом, но уже в прошлом году меня, похоже, избрали в Совет двенадцати добрых мужей, а от плотницкого цеха – еще и в приорат, но и тут я совершенно ничего не помню, кроме того, что на протяжении трех месяцев мне и одиннадцати другим дряхлым старикам приходилось сидеть смирно, делая вид, что мы слушаем приоров и принимаем решения, давным-давно принятые совсем в другом месте. Ну, по крайней мере, потомки смогут сказать, что старый Донато в конце своей полной приключений жизни тоже активно участвовал в законодательной деятельности этой славной Республики.
И вот наконец несколько месяцев назад я проснулся. Я видел, как воды Арно перехлестывают через парапеты, разливаясь по улицам и переулкам квартала Санта-Кроче. Месяц назад, последний раз выйдя из дома, я видел, как несли сквозь набожную толпу к церкви Сан-Феличе-ин-Пьяцца балдахин, почти скрывавший образ Богоматери Импрунетской. Едва образ миновал нас, я, должно быть, упал наземь, потеряв сознание, и даже когда меня внесли домой, еще долго не подавал признаков жизни.
Как это обычно и бывает в подобных случаях, тут же слетелись многочисленные родственники, друзья и знакомые, что раньше могли не показываться годами, а теперь вдруг вспомнили о немощном и явились к нему домой, встревоженные состоянием здоровья и последней волей умирающего. Первыми, как всегда, прибыли монахи: два монаха из монастыря Сан-Бартоломео-ин-Монтеоливето, в развевающихся белых рясах с капюшонами и препоясанных скапуляриях, фра Лоренцо д’Антонио деи Сальветти и фра Баттиста ди Франческо да Пиза в сопровождении Андреа ди Нери по прозвищу Пинтассо, утверждавшего, что он мой старый друг, хотя я его совершенно не помнил.
Безусловно, Джиневра время от времени водила меня подышать воздухом в Монтеоливето, что за воротами Сан-Фредиано, это и в самом деле прекрасное место для умиротворенного созерцания, откуда можно насладиться чарующим видом Флоренции, разумеется, если ты мертв, зрелище это не имеет для тебя особого значения, но по крайней мере любоваться им могли бы в будущем кто-нибудь из твоих потомков и родственников. Им будет приятно подняться туда, чтобы вознести молитву в память о тех, кто похоронен в этом монастыре.
И вот, сидя возле садовой ограды, я в беседе с фра Лоренцо, выходцем из знатного рода нотариусов и давним другом семейства моей жены, выразил желание быть погребенным в стенах этой обители, скажем, в простой семейной капелле, куда можно перенести и останки моих стариков, дабы возвысить этих скромных столяров под нашим фамильным гербом. Кроме того, с благословения Пресвятой Богородицы мне бы хотелось также поместить в алтаре над своей могилой ее прекрасный образ. Стоит ли ожидать меньшего от человека, способного, подобно мне, похвастать тем, что был подмастерьем великого Бальдассарре дельи Убриаки!
Конечно, это было бы замечательно, задумчиво отвечал фра Лоренцо. Жаль, что церковь и монастырь до сих пор в таком ужасном состоянии. Ремонтные работы начались уже более десяти лет назад, и конца-края им до сих пор не видно. Вот и прекрасный мастер-каменщик Андреа скончался, а мастер Джованни ди Сальвестро только сейчас приступает к делу. Даже им, монахам, непросто жить среди этой бесконечной стройки, верша дела милосердия, как велит устав оливетанцев, собирая милостыню и раздавая хлеб беднякам, поскольку все их скудные сбережения съедаются этими самыми мастерами, что, поднимаясь сюда, чаще обсуждают монастырские колонны, что, мол, должны быть прекраснее колонн Сан-Лоренцо, или витражи, что готовят братья-иезуаты, да только ничем эти рассуждения не кончаются; а денег тем временем становится все меньше, и кажется даже, будто сердца богатых флорентийских купцов совсем очерствели, и никто in articulo mortis теперь не оставляет имущество монастырям, дабы спасти свою душу. Может быть, потому, что, введенные в заблуждение неким еретиком, уже и не верят в бессмертие души.
Так в чем проблема, говорю я, деньги у меня есть, и даже с избытком, я все оставлю вам, приведите только в порядок церковь и монастырь да выстройте капеллу в память о Донато ди Филиппо ди Сальвестро Нати, прозванного Тинтой, место упокоения для меня и моей семьи, посвятите ее Деве Марии, схороните меня там, а после закажите образ Благовещения, и пусть он будет прекраснее всех, что есть сейчас во Флоренции, прекраснее, чем у фра Анджелико и фра Филиппо. Я хочу, чтобы ангел преклонял колени перед Марией не в городе, под портиком, среди домов или, того хуже, в запертой комнате. Нет, весть о спасении должна раздаться на свежем воздухе, вроде этого сада, среди этих деревьев, каменных дубов и кипарисов за невысокой стеной. Если уж мне придется лежать в тесноте могилы, пускай хотя бы Мария и ангел не станут прятаться в доме. Меня уже тошнит от замкнутых пространств, я всю свою жизнь был узником: мастерская, склад, банк и даже дом на виа ди Санто-Джильо. Ах, если бы душа моя могла летать свободно среди лугов и олив в Теренцано, лежащем там, по другую сторону Арно…
И вот монахи первыми являются ко мне в дом, дабы призвать меня спасти свою душу. На смертном одре я готов на все согласиться, лишь бы скорее отослать их подальше, однако слова их мне в целом кажутся искренними, быть может, есть еще надежда, что и моей шальной головушке повезет, против чего я бы лично не возражал. Потом заглядывает Джиневра и, осознав, что возле моей постели не столько истово молятся, сколько слушают, что я говорю, а дружок Пинтассо заодно исписывает этими словами свиток пергамента, приходит в ярость. Она немедля прогоняет всех вон, поскольку ее бедный Донато слишком страдает и не должен утруждаться подобной ерундой. Когда придет время, она за ними пошлет. А после, как обычно, берет бразды в свои руки, тут ведь, еще до священника, в срочном порядке нужен нотариус, а единственный доверенный среди них – он, сер Пьеро.
После истории с Катериной Джиневра время от времени продолжала пользоваться его услугами. Более того, в последние годы наш нотариус, чья репутация непрерывно росла, а клиентура ширилась, специализировался именно в отношении монастырей и прочих институций. Никто лучше него не сговорится с той частью человечества, что состоит из братьев и сестер во Христе, монахов и монахинь, клириков и каноников, занимающихся не только горним, но и дольним, мирским: контрактами, арендами, куплей-продажей, доверенностями, тяжбами и так далее. Кроме того, он единственный, кто много лет назад видел мои венецианские бумаги и знает, что нужно сделать, чтобы вернуть все эти кредиты: подвиг, теперь ожидающий тех, кто меня переживет.
И вот сер Пьеро снова входит в наш дом. Всегда такой хладнокровный, он признается, что даже спустя столько лет не может сдержать душевного трепета при виде залы, где когда-то работал с моими документами и где впервые увидел Катерину. Джиневра, предвосхищая возможную просьбу, говорит, что заглянуть в комнатку наверху не получится, она опять занята, там теперь живет девочка-рабыня, купленная вскоре после освобождения Катерины, ей уже двадцать два, как летит время. Я не в силах подняться с постели, дышу и то с трудом, поэтому нотариус устраивается здесь же, в этой комнате, и начинает записывать все, что я ему диктую, а Джиневра подает необходимые бумаги и документы. Писать приходится много. Наконец сер Пьеро медленно, с долгими паузами, перечитывает все еще раз, дожидаясь моего одобрения. Оглашение назначаем на среду, 16 апреля. Напоследок я прошу его об услуге: не мог бы он взять с собой ребенка, их с Катериной сына, того, что учится сейчас у Верроккьо? Мне бы хотелось его увидеть.
И вот день настал. Похоже, конец близок. Я не могу даже оторвать голову от подушки, с трудом говорю. Джиневра сидит рядом, поддерживая меня за затылок, то и дело дает мне глоток воды. Впрочем, делать мне ничего не нужно. Только время от времени кивать. Сер Пьеро приходит первым и готовит конторку, на которой раскладывает листы имбревиатуры, чтобы зачитать в присутствии моем и свидетелей; пергаментную тетрадку in mundum и протокол он составит позже, без спешки, у себя дома. Джиневра велит принести еще несколько стульев. За дверью я замечаю подростка, высокого и худощавого, как сер Пьеро, но с каскадом белокурых локонов, должно быть, сын. Его и Катерины.
Подходит время вечерней молитвы. Джиневра помогает мне прочесть ангелус, зажигает несколько масляных ламп. Первыми появляются созванные мной свидетели, горстка верных друзей. Сер Пьеро, типичный нотариус, начинает зачитывать своим безразличным голосом, и кажется, будто голос – это перо, которое движется прямо в воздухе, одно за другим выводя слова на невидимой бумаге.
Cum nihil sit certius morte et nihil incertius hora mortis, il providus vir Donato fu Filippo di Silvestro Nati, по милости Всевышнего творца Господа нашего Иисуса Христа, будучи здрав умом, чувствами, зрением, слухом и рассудком, но немощен телом, оглашает следующее изустное завещание. И прежде всего смиренно и благочестиво предает душу свою всемогущему Богу и всему небесному воинству. Для погребения же своего тела, когда придет ему время покинуть сию юдоль, он устанавливает церковь монастырского капитула и обители монахов Монтеоливето близ Флоренции, размер же суммы на погребение определен на усмотрение его жены, монны Джиневра. Доля малая, как это принято среди флорентийцев, должна быть выделена на строительство собора и новой ризницы, а также на возведение городских стен. Джиневре, моей возлюбленной жене, я оставляю шестьсот флоринов, которые получил за ней в приданое, а также банковские аккредитивы, одежду из шерсти и льна, et unum mancipium et salarium dicti mancipii, то есть ее новую рабыню.
И наконец, монастырю Сан-Бартоломео-ди-Монтеоливето, amore Dei et pro remedio anime sue, и его монахам я оставляю долговые расписки на мое имя, заверенные банком или ссудной палатой славного города Венеции, со всеми надлежащими купонами и процентами, накопленными почти за тридцать лет. Я уже не помню, сколько там, но это весьма значительная сумма в венецианских государственных облигациях, доходных, выкупаемых и отчуждаемых. Вполне достаточно для семейной капеллы, но послужит также для церкви и монастыря. Я доверяю монахам право в полной мере истребовать оплаты указанных расписок и уверен, что они в состоянии этого добиться, религиозные учреждения обладают экономической и политической силой, способной распространять свое действие даже за пределами государств и синьорий благодаря сети монастырей и обителей, разбросанных по всей Европе.
Сему я ставлю только два условия: пятую часть собранных сумм, за вычетом всех расходов, монахи обязаны будут уплатить вышеуказанной Джиневре; также они должны будут отыскать мою дочь Полиссену и выплачивать ей по пять золотых дукатов в год до самой смерти.
Наследником всего прочего имущества объявляю мою Джиневру. Душеприказчики: сама Джиневра вместе с торговцем шелком Филиппо ди Бастиано, и Пинтассо, согласно обычаю, предложенному монахами.
Бьет третий час ночи. Почти все ушли, даже Джиневра удалилась в кухню, чтобы приготовить мне что-нибудь горячее. Сер Пьеро медленно собирает вещи: листы бумаги, чернильницу, пенал. Я жестом подзываю его ближе, хочу кое-что сказать. Может, я и умираю, но заговорщицкие взгляды, которыми обменивались брат Лоренцо и Пинтассо, мне совершенно не понравились: будьте внимательны, сер Пьеро, монахи могут попытаться наложить лапу на все наследство, а не только на венецианские расписки, возможно, по приговору какого-нибудь услужливого судейки. Нотариус успокаивает меня: он тотчас же подготовит пергаментные чистовики, мне не о чем беспокоиться, права монны Джиневры будут защищены, а сам он, куда лучше многих умея вести дела с обителями и монастырями, еще и проследит, чтобы с будущей капеллой в Сан-Бартоломео все прошло гладко. Единственное его сомнение касается как раз монны Джиневры. Сер Пьеро, человек чести, чувствует себя обязанным задать мне последний вопрос, постыдный и болезненный, касательно слуха, гуляющего в Паладжо: правда ли, что монна Джиневра уже сговорилась с Томмазо ди сер Якопо Сальветти, что выйдет за него замуж после моей смерти? Чертов нотариус, он еще хуже меня: все разнюхает.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































