Текст книги "Улыбка Катерины. История матери Леонардо"
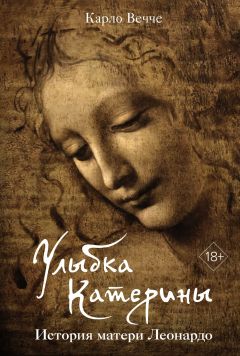
Автор книги: Карло Вечче
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 28 (всего у книги 34 страниц)
Разумеется, дорогой нотариус, я об этом знаю. Я сам велел ей позаботиться о себе после моей кончины. Насколько мне известно, она по-прежнему будет любить меня, любовь вечна, и это не обсуждается. Однако в этом городе женщине негоже жить одинокой вдовой, уж точно не такой, как она, с ее-то энергией и самостоятельностью. Ей всего пятьдесят шесть, а Томмазо Сальветти – очередной семидесятишестилетний старик. Он ее даже не тронет, тем более каждый знает, что мальчики ему нравятся больше, чем девочки. Зато она станет властвовать над ним и заставит поступать так, как ей захочется. В крайнем случае, если ее это устроит, во избежание ссоры с Монтеоливето можно даже отказаться от доли наследства, на жизнь ей и так хватит, ведь приданое вернется к ней по праву. Кроме того, Томмазо Сальветти – двоюродный брат фра Лоренцо и сможет настоять на своем, то есть на том, чего захочет Джиневра. Короче говоря, мы собираемся строить капеллу Нати или нет? Иначе куда девать мои косточки? Мне ведь недолго осталось, а сохнуть до скончания веков в деревянном ящике, брошенном где-нибудь на монастырском складе, среди кирпичей и пыли, как-то нерадостно…
А теперь я могу наконец познакомиться с этим вашим сыном, твоим и Катерины, что все это время торчит под дверью? Сер Пьеро, уже собиравшийся уходить, впускает сына. Он подождет внизу. Велит мальчику поторопиться, поскольку ночная стража уже вышла в дозор, и ему не хотелось бы, чтобы такого симпатичного мальчика обнаружили гуляющим по городу в одиночестве… Кстати, на всякий случай он лично сопроводит его в мастерскую Верроккьо.
Едва Леонардо выходит в круг света, лампа вдруг начинает мерцать и гаснуть, похоже, Джиневра забыла долить масла. Сходство с матерью впечатляющее, такие же золотистые волосы, такие же ясные глаза. Может, нос чуть напоминает отцовский. На нем застегнутый на все пуговицы дублет с высоким воротником и нежно-розовые чулки. Сейчас ему, наверное, уже четырнадцать. Опасливо подходит ближе. Похоже, знает, кто я. Скорее всего, мать упоминала о Джиневре и обо мне. Я тоже хотел бы с ним поговорить, мне столько всего нужно ему рассказать, про его мать и ее долгую историю, но я не могу, не хватит ни времени, ни сил. Дрожащей рукой я провожу по его чудесным золотистым кудрям, струящимся, словно тихий ручеек. И отваживаюсь пробормотать только несколько слов, что-то вроде вопроса: нравится ли ему у маэстро Андреа, начал ли он уже учиться какому-то из многих искусств, которые маэстро знает и преподает.
Парнишка улыбается, очень похоже на мать, и отвечает, что да, хотя сориентироваться среди стольких разных занятий непросто: в этой мастерской делают все сразу, есть печи и тигли, бьют золото и серебро, гнутся пружины, режут шестерни для часов и других необычных машин, высекают из мрамора и песчаника, льют металлы и готовят формы для выплавки работ маэстро Андреа, лепят и обжигают терракоту, смешивают краски, рисуют с натуры, и однажды, быть может, если маэстро не станет возражать, он тоже начнет писать картины. Тогда я, заглянув в его глаза, чистые, лучистые, как у матери, спрашиваю, может ли он дать мне обещание, которое не должен исполнять сразу, а только когда станет художником и наступит подходящее время. А обещание очень простое: я хочу, чтобы свою первую работу ты сделал для меня. Свой первый заказ, первую серьезную вещь. Тому, кто вот-вот умрет, не отказывают. Я сообщу его отцу, а тот передаст монахам и мастеру Джованни, ведущему работы в Монтеоливето.
Мне нужна картина, не слишком большая. Для моей капеллы, прямо над моей могилой. Образ Богоматери, чтобы защитить и помочь моей грешной душе в том путешествии, что мне вот-вот придется в так пугающей меня темноте. Пресвятая Дева Мария получает от ангела весть, что она, никому не известная девушка, такая же, как Катерина, избрана Господом стать матерью его сына, орудием спасения. Спасения для всех нас, а может, даже и для меня. Это должно быть самое прекрасное из когда-либо написанных Благовещений, куда более прекрасное, чем у фра Анджелико и фра Филиппо. На поляне, на свежем воздухе, на природе, в лучах света, не скованное замкнутостью пространства. Чудо жизни, зарождающееся в утробе женщины. Жизни природы и божьих тварей, цветов, растений, деревьев. Жизни воздуха, земли, воды.
Я вижу, как блестят его глаза в свете гаснущей лампы, словно он уже видит то, что я так путано пытался описать. Мои последние слова больше смахивают на невнятное бормотание: Катерина, ангел мой, рука, кольцо. Наконец в окутывающем меня тумане мало-помалу скрываются и эти синие глаза.
Прежде чем я теряю сознание, в голове проносится последняя мысль: не стоило Джиневре так уж экономить на масле для лампы. Вот она совсем погасла, и все погружается во тьму.
11. Антонио, но другой
Кампо-Дзеппи в окрестностях Винчи, любой день 1490 года
Имя мое – Антонио.
Сын Пьеро, сына Андреа ди Джованни ди Буто, которого еще прозвали Андреа Чискья, Раззява. А Пьеро – Вакка, Лежебока. Меня же называют Аккаттабригой, Забиякой, и за дело. Чисто солдатское прозвище. Я ж, как восемнадцать стукнуло, старика своего к дьяволу послал и в солдаты ушел. А все потому, что он меня в грош не ставил. Не первенец, видите ли, которому древний обычай, да и собственное его желание велит все нажитое оставить. И не последыш, любимый больше прочих, избалованный белокурый красавчик. Нет, я шел посередке: ни Каин, ни Авель. Зато вставал на рассвете раньше всех и сразу в поле, где под палящим солнцем, надрываясь, пахал на волах, жал, молотил, давил виноград, собирал оливки – в общем, делал что должно, ведь плоды, что земля дает нам, вовеки проклятому Адамову семени, достаются лишь неимоверными усилиями и в поте лица своего.
Эта земля – наша. И всегда была нашей. Никто не знает, как давно мы здесь живем. Говорят, Бути спустились с Пизанских гор, что косым гребнем торчат над горизонтом на фоне заката, из края, населенного одними лишь бути, то бишь пастухами; правда, один старик клялся, что имя Буто, отца Джованни, означает буон айюто, подмога. А я все себя спрашивал: откуда ж мне ее ждать, подмогу-то? В милость Господню я не верю, ему, похоже, до нас особого дела нет. Выходит, подмога – это все, что мы сами, своими руками делаем.
Записей о старых временах у нас нет, как, впрочем, и о новых, поскольку ни читать, ни писать никто из нас не умеет и никогда не умел. А воспоминания, что передаются из поколения в поколение, потихоньку истираются. Кто жил здесь до Джованни и до Буто? Да что проку от этого знания, если осень все так же сменяет весну, если пот и кровь вместе с дождевой водой и солнечными лучами все так же удобряют почву, и плоть наша неотделима от этой земли, даже обратившись в прах?
Испокон веков, рассказывали старики, мы были людьми подневольными. И правили нами синьоры, графы Гвиди, хоть их никто никогда и не видел. Зато навидались всяких разных, заявлявших, что действуют от их имени. Стража, управляющие, священники. Неумолимые, словно смерть, они являлись раз-другой в год или даже чаще, требуя пшеницы, овса, скотину. Бывало, уводили себе в солдаты самых крепких парней. Бывало, хоть и реже, исчезала одна из самых красивых девушек. Но однажды все это кончилось, синьоры сгинули, а пахотная земля стала нашей. Вот только кончились и мирные времена. Мы не понимали, что тому причиной, не знали даже, кто такие папа и император, и почему тех, кто стоял за папу, звали гвельфами и числили на стороне добра, а тех, кто за императора, злобных гибеллинов, отлучали от Церкви. Гибеллинами, как правило, становились знатные синьоры из древних родов. Мы же поголовно были гвельфами. Армии и вооруженные банды опустошали нашу землю, ставшую пограничьем в борьбе между коммунами и синьориями, что грызлись между собой почище диких зверей: Пизой, Флоренцией, Луккой, Сиеной…
Замок Винчи всегда оставался флорентийским и гвельфским, отражая любую атаку, любую попытку его завоевать; выстоял даже против жестокого наемника-англичанина по имени Джованни Акуто. Гибеллинов и всех, кто слыл гибеллинами, повесили, сослали или строго ограничили в правах и свободах. И среди первых в этом списке были вечно недовольные жители Анкиано, чей замок сровняли с землей, запретив носить при себе оружие или инструменты, способные таким оружием стать, включая и серпы. Мы же, напротив, с самого начала объявили себя до мозга костей гвельфами, подтвердив тем самым свое право на эти земли. Окрестности Винчи еще во времена моего прадеда Джованни были разделены на четыре части, и наш участок вместе с приходской церковью Сан-Панталео попал в четверть равнинную, она же Сан-Бартоломео-а-Стреда, а имена прадеда Джованни и его сыновей, Андреа, Паскино и Марко, внесли в длинный список тех, кого по жребию могли выбрать на высокие должности. Правда, никто их так никуда и не выбрал.
Сердце нашей земли – Кампо-Дзеппи, невысокий холм, протянувшийся вдоль течения речки Винчо, в миле или чуть больше от городка. А на самой его вершине стоят кружком несколько домов, образуя нечто вроде деревушки с крохотной центральной площадью – скорее даже широким двором, поместившимся между конюшнями, амбарами и винокурней. Здесь чувствуешь себя в самой середке мира, со всех сторон окруженным знакомыми селениями и городками: чуть впереди, на возвышении, церковка Сан-Панталео, за ней башня замка Винчи и колокольня церкви, а дальше гора Монт’Альбано и домишки на ее склонах. Прекрасная земля, почти тридцать стайоро, большая часть засажена виноградниками, а остальные распаханы или покрыты лесом; в общей сложности, вместе с другими участками в окрестностях Кампо-Дзеппи, в Миньяттайе, Квартайе, на виа Франконезе и в других местах, доходило и до девяноста двух стайоро, приносивших, если дела шли хорошо, девять четвериков пшеницы и шестьдесят бочек вина; а ведь были еще овцы, по меньшей мере десятков шесть, и быки, телята, свиньи, мулы, жеребята…
Шестьдесят четыре года назад, когда родился я, дедушка Андреа уже умер, и мы жили там тремя семьями: Паскино и Марко, сыновья Джованни, с женами, детьми и внуками, и мой отец Пьеро со своей женой Пьерой, бабушкой Липпой, моей сестрой Беттой и братом Якопо. Помню эти дома, полные шумных, босоногих, чумазых ребятишек, и среди них я. Взрослые вечно нас бранили, случалось, и поколачивали, но каждому было ясно, что мы счастливы, а жизнь на Кампо-Дзеппи цветет самым пышным цветом.
Годы шли, рождались новые дети, умирали старики. Сын Паскино, Монте, перебрался с женой и детьми в Пизу, подковывать лошадей. Место Марко заняли его сыновья Маттео и Мазо, которые тоже потихоньку обзавелись семьями. Из старой гвардии остался один только мой отец Пьеро, ставший главой нашей маленькой деревушки. Моя мать Пьера, к несчастью, умерла, успев родить еще одного сына, Андреа; Пьеро немедля женился повторно и от новой жены, монны Антонии, прижил Бенедетто. Я для отца словно бы и не существовал. Все его внимание было сосредоточено на первенце Якопо, на чье имя, едва тот достиг совершеннолетия, отец переписал часть имущества: дом в замке Винчи и десять стайоро земли в Кампо-Дзеппи, приносивших три четверика пшеницы и бочку вина. А всю свою любовь Пьеро отдавал новой жене и ее младенцу. Вот я и решил уйти, как только вырасту; и то же решение созрело у моего младшего брата Андреа, вытесненного из отцовского сердца малышом Бенедетто. Все, хватит батрачить! Я хотел освободиться – от этого обветшавшего дома, от этой проклятой земли, где что ни день, от рассвета до заката, гнул спину.
Отрочество мое пришлось на тяжкие годы. Вернулась война. К счастью, уже не та, что во времена Джованни Акуто, когда отставший наемник мог, выйдя из виноградника, зарезать какого-нибудь крестьянина только ради того, чтобы поразвлечься с его женой или дочерью или даже просто наесться от пуза после долгих дней без крошки во рту. Однако приходилось терпеть нелегкое бремя податей, наложенных Республикой, и непрерывный поток войск. Где проходили солдаты, там оставались пустоши, сеять на этой земле бесполезно. Когда мне было лет шесть, мы даже запирались в доме, пока отряды рыцарей и пехоты стекались к Фучеккьо. Поговаривали, будто в Сан-Романо, что за Арно, у замка Монтополи, случилась тогда великая битва, много смертей и много крови. А зим через десять шайка бывших солдат, скорее всего вышвырнутых из армии без гроша в кармане, осталась зимовать в заброшенной лачуге на берегу Винчо. Они жгли огромные костры из украденных у нас дров, закатывали пиры, жаря на вертелах пропавших у нас овец. Чтобы не случилось чего похуже, мой отец Пьеро даже послал им бочку вина, а нам, мальчишкам и особенно девчонкам, запретил ходить теми местами, покуда солдаты не уберутся восвояси.
Однако в начале весны, в последний вечер зимовки наших докучливых соседей, снова призванных на службу пизанцами, мы с Андреа, будто влекомые неведомой силой, подкрались к той лачуге. Нам любопытно было узнать, каким будет их последнее празднество. Спрятавшись за живой изгородью, мы широко раскрытыми глазами наблюдали это зрелище, завораживающее и в то же время ужасающее, ведь в нем, казалось, воплотились наихудшие образы, какие священник в Сан-Панталео только мог вызвать в нас своими покаянными проповедями. Над огнем крутился огромный вертел с последним украденным у нас козленком, жир капал и шипел на углях. Две простоволосые босые женщины танцевали у костра, а солдаты, рассевшиеся кругом, попивая наше вино, хохотали и хлопали в ладоши. Это в самом деле походило на сцену адского шабаша, где демоны воплощались в пьяных мужланах с грубыми лицами, изуродованными у многих ссадинами и шрамами, или в созданиях греха и похоти, женщинах, что так безудержно и бесстыдно плясали, задирая юбки.
Но только мы собрались потихоньку ускользнуть, как чьи-то пальцы мертвой хваткой впились нам в плечи. Оказывается, два солдата из тех, что, даже опьянев, привычно остаются начеку, заметили наше присутствие задолго до того, как мы заметили их. Они оторвали нас от земли и потащили на поляну, к костру, хохоча и выкрикивая: «Вот и еще пара дроздов на вертел», – а там грубо швырнули на землю. Самый безобразный из всех, великан с рыжей бородой и горящими глазами, приставил мне к горлу длинный меч, вопрошая замогильным голосом: «Ну, братцы, как нам поступить с этими пизанскими шпионами?» Все снова расхохотались, должно быть оценив солдатскую шутку, но мы с Андреа, не поняв их юмора, умирали от страха. Помню, штаны у братишки были насквозь мокрые, он надул под себя. Рыжебородый солдат ткнул в него пальцем, и хохот стал еще громче. Другой, осветив наши лица горящей головней, бросил, что мы, мол, чистые да кудрявые, словно девчонки, так, может, нас и для чего более приятного попользовать. Страх наш усилился, но, к счастью, одна из плясуний, услышав, что солдат предпочитает мальчиков девочкам, разозлилась и огрела его поленом.
Тут огненнобородый гигант, бывший у них за главного, решил, что шутка затянулась. Он мигом утихомирил вояк и женщин, да и козленок как раз поспел. Добродушно ухмыльнувшись, он поднял нас своими ручищами, посадил рядом с собой, сунул по деревянной чаше вина, некогда нашего, и по зажаренной, сочащейся жиром ножке козленка, тоже нашего. Нелепое празднество, но нам казалось, что это и есть настоящая, свободная жизнь, о которой мы так мечтали. Мы восхищались их чувством товарищества, общности сильных, независимых мужчин, которые вольны делать что, как и когда хочется, идти куда вздумается, свободных от диктата государства, священников и семьи, плюющих на законы и правила. И когда среди ночи нас спросили, хотим ли мы отправиться с ними в Пизу, мы с Андреа, опьяненные вином и теплом костра, в один голос выкрикнули «да». И сбежали не оглядываясь, не вернувшись даже попрощаться со стариками.
Так началась моя солдатская жизнь. Я стал Аккаттабригой, Забиякой, поскольку в любой стычке оказывался первым, кто с криком, не раздумывая, бросался в бой, как раньше, в Кампо-Дзеппи, первым поднимался с восходом, первым принимался мотыжить землю: бездумно, словно скотина, делающая то, что ей должно делать, повинуясь инстинктам или силе привычки. Вот и меня теперь вел примитивный инстинкт каждого живого существа, свойственный даже самым презренным тварям, вроде свиньи или курицы, – остаться в живых, отложить, отсрочить, насколько это возможно, роковой момент, когда это тело умрет, распадется на куски: кусок туда, кусок сюда – голова, ножка, крылышко… А чтобы справиться с этой задачей, пришлось приноровиться орудовать инструментами, не слишком отличающимися от деревенских кос, секачей или топоров. Завести привычку наносить удар не раздумывая, мотыжить не землю, а живую плоть, руку или ногу, вспахивать брюхо, выворачивая клубок длинных червей-кишок, раскалывать черепа, словно докучливые камни, что мешают вести борозду, пожинать человеческие жизни, будто спелые колосья в разгар лета, орошать землю вязкой и липкой кровью. Такая уж это штука – война. Тяжкая работа. Грязная. Такую только по привычке и делаешь. Не задумываясь.
Милостью Господа нашего исполнять эту работу, вызывавшую у меня стойкое отвращение, мне почти не приходилось. В армию мы попали в краткий период иллюзорного мира и в итоге пополнили ряды флорентийской солдатни в Пизе, по большей части возводившей новую крепость и старавшейся держать в узде город и округу. Реальных стычек не было, мы лишь время от времени совершали карательные вылазки в какую-нибудь деревню, где недавно убили сборщика налогов или солдата, позволившего себе излишнюю вольность в отношении женщины. Противостояла нам обычно горстка угрюмых крестьян, вооруженных косами и вилами, одного наши арбалетчики подстреливали издалека, остальных обращали в бегство, а мы, пехота, жгли и грабили, впрочем не особо усердствуя, а, как наставлял командир, больше для острастки. И женщин чтоб не насиловать.
В Пизе мы с Андреа отыскали семью двоюродного брата, Монте ди Паскино, он там гарнизонных лошадей подковывал. Монте вместе еще c одним парнем из Винчи, Нанни ди Ферранте, жил и работал в приходе Санта-Мария-Маддалена. Наши встречи чуток поуменьшили тоску по дому, я-то скучал не сильно, а вот Андреа, случалось, даже плакал ночами, так хотел вернуться в Кампо-Дзеппи, но тут уж никуда не денешься, пока срок службы не кончится. Что до столь желанной свободы, то ею здесь и не пахло, напротив, мы оказались в рабстве куда худшем, чем прежде, только хозяином теперь был не отец, а Республика, которой мы служили цепными псами, помогая порабощать другие города и государства. Обретались мы в квартале Гуаццалонго, или же Кинцика, в окружении кожевенных мастерских и узких улочек, посвященных, если верить названиям, несколько иному ремеслу: переулков Магдалины, Красоток, Зачатьевского… А двоюродный брат наш жил ровнешенько посередке. Так что все свое грошовое жалованье мы растрачивали в тамошних остериях, на вино и мимолетные удовольствия со случайными подружками.
Боевым приемам нас обучал в крепости сам начальник стражи. Нам, деревенским, назначено было стать рядовыми пехотинцами, теми, кого в настоящем бою посылают вперед, на убой, чтобы вымотать врага; к счастью, настоящих сражений в наших краях уже давно не случалось. Упражнения, всегда начинавшиеся с молитвы во имя Господа и мессера святого Георгия, были суровы и жестоки, а главный урок – простым и ясным, без лишней болтовни: убей, если не хочешь быть убитым. Перед тобой не человек, а тот, кто хочет тебя уничтожить, нужно просто быть быстрее и проворнее. Мы упражнялись непрерывно: движениям предстояло стать инстинктивными, чтобы выполнять их не раздумывая, привычно. И тело для этого нужно сильное, приученное, ведь бой – все равно что работа на земле, целый день, от рассвета до заката. Битвы выигрываются не единственным блестящим подвигом рыцаря, а трудовым потом тех, кому дольше удастся выдержать ближний бой. Кто пал, сраженный скорее усталостью, нежели вражеским ударом, – тот мертв. Лишь немногим из тех, кто остался лежать на земле, посчастливилось выжить, да и везением это назовешь далеко не всегда, плен, тюрьма могут обернуться бесконечным адом, где есть лишь голод и болезни, а малейшая рана – ужасной агонией. Так что в плен лучше не попадать, невозмутимо повторял наставник. И ран лучше не получать. И не умирать.
Первым приемом, что нам предстояло освоить, были объятия, но не любовные, как между мужчиной и женщиной, а объятия смерти. Нас учили биться голыми руками, пуская в ход локти, колени, даже зубы, рвать, кусать: так дерутся животные, так воевали и люди, пока не изобрели оружие. Поначалу мы с Андреа смеялись, считая это обычной дракой, вроде тех, что мы и сами мальчишками затевали на гумне в Кампо-Дзеппи. Но на самом-то деле все оказалось совсем иначе, наставнику и его солдатам всякий раз удавалось повалить нас, заломить руки, заставить корчиться от боли или так сдавить горло, что, пожелай они, мы были бы уже мертвее мертвого. Именно в одном из таких объятий я пропустил удар, сломавший мне нос, вдавив его в лицо, и с тех пор ношу уродливую маску Аккаттабриги.
Потом отрабатывали поединки на деревянных тесаках, получая очко за каждый хороший удар. Тут уж с нами, вчерашними деревенщинами, все стало ясно. Вместо схваток нас, вооружив лопатами и мотыгами, куда чаще использовали теперь в качестве вспомогательных сил: тех, кто горбатится, таская снаряжение, кто пилит и возит бревна для строительства мостов через водные преграды, кто копает, выравнивая дороги, отрывая траншеи или возводя насыпи, кто жжет поля и дома на вражеской территории. Так что выдали нам только по кожаной куртке, круглому деревянному щиту, шлему, короткому тесаку да кинжалу. Ремесло воина, рыцаря или латника, оказалось не для нас.
Наставник наш, весь покрытый шрамами капитан стражи, доблестно сражался в войнах прошлых лет, в баталиях, что представали в его рассказах невероятными легендами, битвами гигантов: Сан-Романо, Ангиари. Он носил имя Якопо ди Нанни, родом из Кастельфранко-ди-Сотто, совсем недалеко от нас, но все звали его Аккаттабрига, и то же прозвище унаследовал от него я.
Жаль, продлилась эта чудесная жизнь в Пизе недолго. В Тоскану вторгся король Неаполя, арагонец, союзник вероломных сиенцев. Зимой Флоренция пришла на помощь осажденной Кампилье, послав еще один отряд в Спедалетто, неподалеку от Пьенцы; но мы по-прежнему торчали в Пизе и ждали. А по весне король, уверив всех, что собирается осадить Кампилью, напал вместо этого на Пьомбино. Терять Пьомбино было нельзя. В Ливорно спешно снарядили четыре галеаса, чтобы перевезти нас хотя бы по две-три роты. Позиции мы занимали в Калдане, что между Кампильей и Пьомбино, среди трясин и топей, в полной уверенности, что с минуты на минуту на нас обрушится вся арагонская армия. Андреа колотило от страха. Он еще никогда никого не убивал и боялся, что, очутившись один на один с другим парнем, глядящим на него с тесаком в руке, попросту не сможет этого сделать. Чувствуя, что однажды настанет и его черед быть убитым, он заранее боялся клинка, что войдет в его плоть, крови, что хлынет из горла, смерти, тьмы, холода. Я как мог старался его утешить, обещая всегда держаться рядом и защищать его от любой опасности. Теперь он мог быть спокоен, ведь со мной ему ничто не грозило.
Положеньице, конечно, было не из лучших. Есть нечего, из страха перед войной жители покинули окрестные земли, и без того малонаселенные, да и вина не хватало – самую малость, ровно настолько, чтобы поднять настроение вечером у костра. Мы выживали на похлебке из ящериц и фуражного зерна, без надежды на подкрепление, беспрестанно ворча и жалуясь на жару, мух и комаров, на гнилую вонючую воду, на заразу, косившую наши ряды. Позицию в итоге удержать так и не удалось: опасаясь бунта, командиры предпочли увести нас оттуда и, задействовав в других стычках, отбить пару замков, все еще находившихся в руках короля.
Противнику, впрочем, приходилось ничуть не слаще. Его огромная армия, вооруженная и накормленная куда лучше нашей, застряв в этих болотах, была разбита самой Мареммой, ее комарами и трехдневной лихорадкой, и отступила практически без боя, оставив позади более двух тысяч трупов, в том числе почти всех наших дезертиров-обозников, наказанных за измену самим божественным правосудием. Мы тоже отступили, погрузившись на посланные за нами два галеаса. Но в Пизу я вернулся один. Эта бесславная война, единственная, в какой я когда-либо участвовал, стоила мне тяжкой жертвы: мой брат Андреа умер от лихорадки в грязной хижине, взывая в бреду к Богородице и нашей матери Пьере. От смерти с ее косой мне его заслонить не удалось.
Именно в тот момент, в настроении весьма мрачном, я и познакомился с сыном Антонио ди сер Пьеро да Винчи. Старина Антонио, кто же в Винчи его не знал? И кто не знал его в нашей семье? Я прекрасно помню, как часто он наведывался в Кампо-Дзеппи, какие-то их земли граничили с нашими, и Антонио никогда не упускал возможности заскочить, попробовать, каким вышло новое вино и насколько выдержан урожай прошлых лет, а потом все говорил, говорил, и мы слушали, потому что таковы уж мы, Бути: немногословные труженики, люди дела, не слишком доверяющие тем, кто много болтает, и словам, которые только для того и пишутся, чтобы нас обмануть. Но со стариной Антонио все было иначе. Он испытывал настоятельную потребность говорить, общаться с нами и со всеми прочими окрестными жителями. Его прямо-таки распирало от историй, бывших, по его мнению, чистой правдой, хотя каждый знал, что они – лишь плод его воображения: о морских путешествиях на самый край света, в страну сарацинов, о нападениях пиратов, о бескрайних пустынных землях, населенных лишь змеями, львами и великанами, о чудесных девушках, что источали восхитительные ароматы и запросто давали тебе сорвать свой цветок, поскольку считали это правильным. Мне старина Антонио всегда нравился. Он был сыном нотариуса и время от времени тоже помогал нам с какими-нибудь бумагами, которые мы сами не могли прочитать, или с налогом, который не желали платить. А потом возвращался к себе в город, довольный, с каплуном под мышкой и подаренной отцом бутылкой вина в руке.
Но вот с сыном его я ни разу не встречался, еще и потому, что мы не бывали в городе, а он не появлялся у нас в деревне. Зато недавно стал нотариусом. Его даже послали в Пизу обслуживать флорентийских купцов, чьи лавки располагались в приходе Сан-Себастьяно в Кинцике, в Торговой галерее, выходящей на Арно. И вот однажды он зашел к Монте подковать лошадь. А я как раз думал покончить со службой, но не знал, как это сделать и куда потом деваться. Это был март 1449 года. Больше сорока лет назад. Монте, не отрываясь от наковальни, нас представил. Прежде чем обменяться рукопожатиями, мы с Пьеро взглянули друг другу в глаза. И оказалось, что мы очень похожи. Мы ведь ровесники. Я почувствовал, что могу ему доверять, хоть он и нотариус. И не ошибся. Сын Антонио, он просто обязан был вырасти похожим на него. Честным человеком.
Из моих скупых слов Пьеро сразу понял все, чем болело мое сердце, увидел желание вернуться в деревню и, будучи человеком практического склада, тут же задал главный вопрос: зачем мне возвращаться, особенно после ссоры с отцом, чуть ли не впрямую винившим меня в том, что я потащил с собой брата, втянув его в свою военную авантюру? Он ведь не знал, что Андреа мертв, и никто ему этого так никогда и не сказал, знал только, что мой младший брат сгинул и что о нем больше не слыхали, даже то, жив ли он еще. Чем я собираюсь заниматься, ведь отец вряд ли стерпит, если я стану работать на соседнем поле? В кузнице моего двоюродного брата Монте, под гулкий перестук молотов, меня вдруг осенило: а почему бы не заделаться ремесленником? Я ведь столько денежных профессий освоил, даже в строительстве крепости поучаствовал. Точнее сказать, именно этим я в основном в последнее время и занимался, обжигал кирпичи для крепостных стен.
Что ж, это было бы вполне достойной работой. Я же и знать не знал, что за время моего отсутствия отец купил в Меркатале-ди-Винчи, по дороге к Арно, половину печи для обжига, другая половина которой принадлежала монашкам из флорентийского монастыря Сан-Пьетро-Мартире, чьи владения простирались также и на сопредельные земли, от Сан-Панталео до Сан-Донато-а-Грети. А вот сер Пьеро об этом знал, поскольку владения монастыря граничили с землями его отца Антонио и Марко ди сер Томме. Старина Антонио, разумеется, был знаком с монахинями, так что сер Пьеро легко мог выступить посредником, с аренды монастырской половины стоило и начать. Если же мне понадобится помощь, то у зятя сера Пьеро, Симоне д’Антонио из Пистойи, что недавно женился на его сестре Виоланте, тоже есть печь, и еще одна – у семьи его матери в Баккерето, та, правда, больше специализировалась на кружках и кувшинах.
Так я вернулся в Винчи. Отец принял меня холодно, без ликования, коим Евангелие призывает встречать возвращение блудного сына. Впрочем, против затеи с печью, заброшенной и не приносившей дохода, он возражать не стал, лишь бы я поскорее убрался из его дома в Кампо-Дзеппи. Здесь все изменилось, старики умерли, и теперь, помимо отца и мачехи монны Антонии, там жили только Маттео и Мазо, сыновья Марко, со своими семьями да Пьеро, сын Монте, перебравшийся из Пизы. Мой брат Якопо подаренные ему земли сохранил, но жить с молодой женой Фьоре предпочитал в городском доме за стенами замка: синьора из себя строил. При посредничестве сера Пьеро монахини сдали мне печь за восемь лир в год, и я пообещал не задерживать платежей.
Поначалу дела шли неплохо. Я погрузился в работу, трудился не поднимая головы, в одиночестве, как привык; упорно, словно мул, восстанавливал полуразрушенные строения: домик, конюшню, двор и, конечно, печь. В этом домике я и поселился, поскольку в Кампо-Дзеппи вернуться уже не мог: отец настолько не желал меня видеть, что в кадастровой декларации даже не указал моего имени, пришлось чиновнику своей рукой вписывать и его, и половину печи. Я тем временем заделал дыры в полуподвальной топке, укрепил опорные своды, а камору наверху тщательно почистил. Разумеется, в итоге мне все пришлось делать самому, поскольку Симоне д’Антонио, оказавшийся редкостным брехуном, так ни разу и не появился: собирать дрова и хворост, копать подходящую глину, месить ее, формовать в буханки, подсушивать. Потом наконец наступили дни обжига, и эти буханки превратились в твердые и прочные темно-красные кирпичи.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































