Текст книги "Улыбка Катерины. История матери Леонардо"
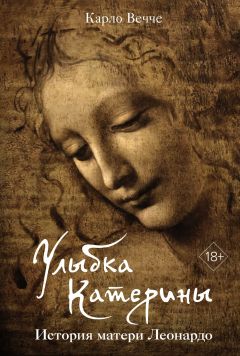
Автор книги: Карло Вечче
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 34 страниц)
С тех пор я видела Донато лишь раз, десять лет спустя, в 1439-м, два года назад. За это время наша переписка понемногу сошла на нет, а в какой-то момент и вовсе почти замерла. Но я и не нуждалась в тайных записках: Донато был в моем сердце, он стал той тайной, что давала мне силы и дальше жить в родительском доме, защищая свою независимость, свой статус незамужней женщины, не желающей, чтобы ее заставляли против ее воли, в интересах семьи, выйти замуж за незнакомца или быть насильно упеченной в монастырь. Но бедный мой отец умер, а мать и братья просто перестали мне досаждать. Признав меня самой самостоятельной и здравомыслящей из женщин в доме, они оставляли на меня все текущие дела, а в дальнейшем и тягостное общение с арендаторами. Уезжая, доверяли мне получать их письма, составлять ордеры и доверенности, собирать долги, проверять бумаги в конторе нотариуса при Бадии и, наконец, одну из самых трудоемких обязанностей: подачу документов в конторы при палаццо Синьории и цехе суконщиков, особенно в налоговом и кадастровом управлениях. Эти задачи я выполняла с неизменным терпением и упорством, заставлявшим отступить даже самых упрямых и мерзких бюрократов.
Каждое дело я вносила в тетрадь, старательно вклеивая туда все расписки и квитанции. Что и говорить, теперь я была куда свободнее, чем раньше. А главное, вольна была ходить без сопровождения, и не только в церковь. Чтобы никого не возмущать и не раздражать, я притворялась замужней женщиной или вдовой, облачаясь в длинное строгое платье-чоппу, темный, без всяких украшений плащ с капюшоном и мягкие туфли вместо пьянелл на высокой подошве, предпочитая удобно ходить, а не казаться выше ростом. Возможно, увлекшись переодеваниями, я и впрямь стала походить на монашку.
Я также взяла на себя заботы о семье, что братья считали главной моей обязанностью. Но мне это было в радость, ведь здесь никто мной не помыкал, я сама была себе хозяйкой, проявляя все свои таланты и всю свою мудрость. Дом, как говорил Аристотель, это маленькая республика, и я ею управляла. Будучи в добром расположении духа, братья даже хвалили меня, пускай и по-своему: наивысшей похвалой, обращенной к женщине, было для них то, что она похожа на мужчину и наделена мужскими добродетелями.
Эти их похвалы я принимала молча, с полуулыбкой, хотя, по правде сказать, во мне клокотала ярость. Как же так? Выходит, все мои усилия нужны, чтобы сравняться с мужчиной, быть его бледной копией? Так себе завоевание, думалось мне. Между тем всеми семейными делами заправляла именно я, а не они, и уж тем более не их жены, капризные ветреницы, не понимавшие, с чего бы это я выбрала удел старой девы, не проявляя никакого интереса к щедрым подаркам, которыми мужья покупают твою свободу: скажем, какому-нибудь расписному сундуку или шкатулке из слоновой кости, набитой украшениями. Они считали меня чокнутой, поглядывали с подозрением, и тем не менее были рады доверить мне заботу о своих детях. О детях, которых у меня не было и к которым я очень привязалась: двум Тонино, как я их называла, сыновьям Томмазо и Андреа.
Мальчишки меня тоже обожали. Их любовь родилась не из того, что я им потакала или разрешала все на свете, обычно я одинаково сурова со всеми. Но нет, эти любили поговорить с чудной тетей Джиневрой, потому что тетя Джиневра, если она была в духе, любила поболтать о том о сем или почитать истории из тех странных, но прекрасных книг, принадлежавших еще прадеду Томмазо и деду Антонио, истории правдивые, жизненные, порой забавные или печальные, порой даже трагические, но главное – настоящие, из тех, что в самом деле случаются с людьми, будь они мужчинами или женщинами, аристократами или простолюдинами, богачами или бедняками.
Им нравилось, что я не пытаюсь казаться слишком уж набожной, лицемерной святошей, как все прочие, что запросто могу обругать священника или монаха, чья репутация оставляла желать лучшего. Кроме того, они обнаружили, что я тайком, спрятавшись под капюшоном, оставляю пожертвования и милостыню для Общества призрения в помощь безымянным сиротам, подброшенным под портик недавно выстроенного Воспитательного дома. Может, к мессе я ходила не каждое утро, зато добрые дела вершила исправно: думаю, Всевышнему это нравилось даже больше.
Вернувшись в 1439 году, Донато выглядел иначе. Длинные золотистые волосы потускнели и поредели на висках, в них пробивалась седина; глаза ввалились, а гладко выбритый подбородок теперь покрывала неухоженная белая борода. Что до остального, он по-прежнему был высок и строен, держался уверенно, да и выглядел куда моложе своих шестидесяти. Но проявилось в нем что-то странное: казалось, его мучает страх или подозрения, и рассказывать о них он не желал. И вот что еще меня поразило: Донато выбрали в правление, но не цеха менял, а плотницкого, одного из Младших цехов, к которому принадлежали его отец и другие предки.
Какое несчастье постигло его в Венеции? Куда делись его семья, жена? Вопросы эти приходилось держать при себе, поскольку встречи наши были редки, и я поклялась, что не буду ничего спрашивать о другой, венецианской жизни, для меня словно и не существовавшей. Да и он, наверное, решил ничего мне об этом не рассказывать, и слово свое держал. Кажется, мы и впрямь были созданы друг для друга, потому что понимали друг друга без лишних разговоров. Мои мысли были его мыслями. Стоило мне, перебив его, начать что-то объяснять, как мы заливались смехом, услышав, что оба произносим одни и те же слова; и так случалось не единожды, а всегда, хотя мы не виделись десять лет, да и до того не успели толком друг друга узнать. Но такая уж между нами царила гармония, что это меня почти пугало.
Зачем же сейчас я так спешу по дороге в Теренцано, нетерпеливо погоняя белую кобылку? Что ожидаю там увидеть?
Насколько мне известно, Донато мертв. Месяц назад об этом со слезами на глазах поведал мне старый Аарон. Вызвав меня в контору, он плотно затворил двери и показал письмо от давнего партнера из Местре, сера Мойзе, который просил зачислить на имя Донато и выплатить ему лично в руки некую сумму, на мой взгляд огромную, в венецианских дукатах и лирах, подлежащую обмену на чеканные флорины по текущему курсу, ставшему даже чуть лучше, чем пару месяцев назад. Я толком не успела среагировать и спросить, зачем это он заводит со мной разговор о делах Донато, если я о них ничего не знаю и никогда ими не интересовалась. Ведь до сих пор, все эти почти пятнадцать лет, отношения наши ограничивались исключительно переданными через Аарона записками, состоявшими максимум из пары десятков слов с известиями о добром здоровье Донато и пожеланиями мне милости Господней, а также моих устных ответов, Бог знает каким образом переведенных на иудейско-венецианский диалект и переданных в Местре.
Аарон, угадав и предвосхитив мой вопрос, добавил всего несколько роковых слов: проблема, а для банкира это проблема, сказал он, по-прежнему протягивая мне аккредитив сера Мойзе, состоит в том, что Донато мертв. И проблема эта серьезная, поскольку столь крупная сумма денег должна быть выплачена наличными в руки более не существующие, не имеющие возможности шевельнуть даже пальцем, поскольку в них не течет кровь. Потом он перевел мне другую записку, шифрованную, от некоего мальчишки, тоже еврея, Абрамо ди Джузеппе деи Тедески из Кьоджи. Абрамо сопровождал Донато, когда тот бежал из Венеции, принял его, преследуемого стражей, в своем доме, а после повел дальше, к переправе через По у остерии в Форначе, на границе с Феррарой.
Несмотря на ненастье, Донато успел запрыгнуть в лодчонку-сандоло у мельницы, но тут прискакали всадники венецианской стражи, и, как уверяет Абрамо, оставшийся на берегу, он своими глазами видел, как Донато, пронзенный стрелой из арбалета, упал в волны реки и исчез в водовороте. Вот и все, что известно, поскольку мальчишка, спасаясь от стражи, сам вынужден был спрятаться в поросшей камышом речной пойме. Оба послания, показанные мне Аароном, письмо Мойзе и записка Абрамо, были датированы началом марта, а сейчас уже май. Он ждал, надеясь, что они каким-то чудом окажутся ложными, но теперь все кончено, слишком уж много времени прошло. Донато больше нет. Донато мертв.
Зачем же я забираюсь все выше и выше по поросшему оливами склону, а когда усталая лошадка упрямится, не желая идти, со злости топаю дальше босиком, как деревенская девка, сбросив даже мягкие туфли?
И вот я, миновав монастырь Сан-Мартино и Паладжо делла Роза, сворачиваю к вилле Фортини. Пришла жара, а оливы все еще в цвету. Здесь, в оливковой роще, ни души, все крестьяне заняты на пшеничных полях, где уже золотятся колосья, или в огородах, готовят грядки к посеву семян капусты, лука-порея и тыквы. Подойдя к хижине Нуччо, слышу, как скулит старый Аргус. Узнал меня, хочет подойти поближе, поласкаться, но вот что странно: жмется к дверному косяку, словно охраняет кого-то внутри. Я приподнимаю овчину, что служит здесь дверью, и вхожу.
Он там, распростерт на тюфяке, укрыт парой подбитых мехом плащей. Я знала, что он жив, я не верила ни единому слову из уст Аарона: может, кто и видел, как он исчез под водой или даже погиб, но мой Донато, словно дьявол, всегда возникает снова где-нибудь еще, и жизней у него больше, чем у кошки, так что вот он, здесь. Нет времени убиваться, причитать как девчонка. Нужно быть сильной, такой я и буду. Подхожу ближе, но он меня не замечает.
Глаза Донато закрыты, его почти не узнать: с этой длинной белой бородой и впрямь вылитый дьявол, да и спутанные волосы, поредевшие еще сильнее, стали совсем седыми, будто с ним вдруг приключилось нечто жуткое. Кажется, его знобит, хотя день выдался жаркий; должно быть, холод разлит по жилам, так бывает при трехдневной лихорадке, которую я научилась распознавать, поскольку дома теперь лечу всех подряд: женщин, стариков, детей. Нащупываю запястье: сердце колотится слишком часто. Единственное, что тут можно сделать, – первым делом попытаться сбить жар. Нужно немедленно спуститься в овраг и омыть Донато прохладной водой, да хорошенько, а то он весь в грязи и воняет.
Поднимаю овчину – и замираю. Передо мной незнакомец, по виду совсем мальчишка, в кожаной куртке и сапогах, светлые волосы коротко острижены. Похоже, за поясом у него еще и кинжал. Тоже застыл, будто громом пораженный, увидев, как я выхожу из хижины. Кто же это? Тот, кто помог Донато добраться сюда, в родные места, в хижину молочного брата? Или тот, кто вытащил его из вод великой реки, а после днями, неделями волок по равнинам, горам и долам туда, куда Донато, должно быть, стремился, чтобы мирно испустить дух, положив тем самым конец своему полному приключений существованию, вечному бегству от кого-то, чего-то или просто от самого себя? А может, это ангел, как и сказал Нуччо, тот самый архангел Михаил в лучистом сиянии возник в дверях?
Но кем бы он ни был, этот ангел предусмотрительно держит в руках то самое ведро воды, что мне сейчас нужнее всего. Без лишних вопросов забираю и снова иду врачевать Донато. Откинув плащи, освобождаю его от одежды, сапог, штанов, дублета, пока он не остается голым. Зрелище не из приятных: на боку – уродливый шрам в струпьях засохшей крови, вероятно, память об арбалетной стреле, огромный кровоподтек на лбу, масса других безобразных отметин на ногах и руках. Я смачиваю тряпку и принимаюсь омывать тело этого Мужа Скорбей, словно Магдалина, склонившаяся над мертвым Христом.
Донато продолжает бредить, хрипя и не приходя в сознание, исторгая звуки и обрывки непонятных мне слов. В какой-то момент я вижу, как мальчишка молча опускается на колени по ту сторону распластавшегося тела. Взглянув мне в глаза, он тоже принимается протирать кожу Донато мокрой тряпицей. Почувствовав, что тело чуть охладилось и перестало дрожать, я осматриваюсь, обнаружив кусок тонкого холста, накрываю им Донато, словно саваном. Потом выхожу, потому что сама вся вспотела и нужно, наконец, оправиться от накативших эмоций. Остается только ждать, надеяться и молиться.
Я сажусь на каменный приступок в прозрачной тени оливы и гляжу в никуда. К ногам печально жмется Аргус. Мне хочется собраться с мыслями, попытаться понять, что произошло, и решить, что делать, но тщетно, я совсем без сил, чувствую себя опустошенной, думаю и тревожусь только об одном: Донато здесь, рядом со мной, возможно, он и впрямь умирает, а я не знаю, чем помочь. Молиться не могу. Может, поплакать? Оплакать немощного Донато. И саму себя, пустившую жизнь псу под хвост, даже не поняв, что к чему, не пожив по-настоящему.
В минуты самого глухого отчаяния спасение приходит оттуда, откуда меньше всего ожидаешь, и в самой необычной форме: пухлой округлости абрикоса. Его вручает мне мальчишка, должно быть, сорвав с дерева, усыпанного спелыми плодами, которыми Нуччо с утра, отправляясь на рынок, наполнял корзины. Я беру фрукт в руки, несколько сомневаясь, стоит ли так явно предаваться греху чревоугодия в трагический момент, когда судьба Донато колеблется между жизнью и смертью, но потом прихожу к выводу, что мальчишка прав, вполне можно позволить себе развеяться и подкрепиться абрикосом, а то и не одним, раз уж их можно запросто сорвать с дерева.
Ах, что за чудо этот фрукт, спелый и сладкий, почти как варенье! Еще бы, полдня греться под жарким солнышком! Я улыбаюсь мальчишке, он улыбается в ответ, одними прекрасными голубыми глазами. Потом встает и в два прыжка приносит мне новую горсть фруктов, еще слаще и спелее первой. И вот мы уже вовсю объедаемся, и мне уже плевать на перепачканную гамурру[82]82
Гамурра – верхнее распашное платье с широкими рукавами.
[Закрыть]. О Донато мальчишка, похоже, не сильно беспокоится, возможно, повидал и хуже, а нынешнее его состояние считает не таким уж плохим; и, глядя на него, успокаиваюсь и я.
Его лицо спокойно, безмятежно, словно он нисколько не удивился моему приезду. Сидит себе рядышком и с невозмутимым видом, как ни в чем не бывало жует абрикос. При этом продолжает меня разглядывать, возможно, изучая, но молчит, будто ждет, пока я сделаю первый шаг. Он хорош собой, ох как хорош, а также строен и гибок. Мне бы такую фигуру! Вот только есть в его лице, в глазах что-то странное, двойственное, почти женственное. Ему тоже жарко, и он снимает куртку.
Бог ты мой, так ведь это не мальчишка! Два темных пятнышка, оттопырившие рубаху, – это же соски девической груди! Но почему она так коротко острижена? И почему в такой одежде? Кем она приходится Донато? Дочь, любовница? Девушка сразу улавливает, что я изменилась в лице, пытается заговорить, но от волнения только ловит воздух. Потом ей приходит в голову мысль: развязав шнуровку на рубахе, она показывает мне свою обнаженную грудь, еще небольшую, плотную, и несколько раз кивает, словно говоря: да, я женщина. Потом, по-венециански быстро, но с чужестранными призвуками, сплошь гортанными, почти без гласных, как это бывает у самых диких, затерянных на краю света народов, говорит, указывая на себя: ми Катарина, раба Донадо.
Я поражена простотой этого признания, его искренностью, этой обнаженной грудью, так естественно выставленной передо мной на солнце под оливами, и, конечно, невинностью этого существа, в которую я верю сразу, гоня прочь подозрения и дурные мысли о том, что могло случиться между ней и Донато. Да пусть бы и случилось, мне-то что за дело?
Ведь она спасла его и привела сюда. Мне хочется смеяться, это волна освобождения от тоски и страха. Боже мой, рабыня. Служанка Донато. Вот она какая. Прекрасная Камилла[83]83
Прекрасная Камилла – заглавная героиня популярной в XV веке поэмы Пьеро да Сиена.
[Закрыть] в мужском платье, а он – там, внутри, в бреду, между жизнью и смертью, и я сижу босая, наслаждаясь абрикосами, и старый пес Аргус жмется к моим ногам.
Ситуация, конечно, безумная. Но очаровательная. Каким же бесконечно далеким, исчезающим в дымке кажется отсюда лежащий внизу, в долине Арно, мой старый город, окруженный каменной стеной, со всеми своими моральными и социальными предрассудками, правилами и законами, клетками и тюрьмами! А здесь, наверху, под солнцем и оливами, вот эта рабыня преподает мне важнейший и прекраснейший урок свободы, какой я когда-либо в жизни получала. И я, смеясь, принимаю из ее рук еще один абрикос.
Когда Катерина говорит, понять ее нелегко. Меня даже смех разбирает: такое красивое личико, нежные губки, так и ждешь услышать ангельский, райский голосок, а получаются лишь невнятные, чужеродные звуки. И потом, понять ее непросто еще и потому, что сам смысл этих речей мне чужд. Будто жизненный опыт вбирали в себя глаза совершенно иные, чем наши, дикие, по-звериному острые, как у лисицы или орла, способные, возможно, ощутить присутствие окружающих нас богов, видеть чудеса и метаморфозы природы, то, на что мы, цивилизованные существа, уже не способны. Мне даже не нужно задавать вопросы, она заговаривает первой, сразу поняв, что я хочу знать все: что с ними случилось, как они сюда попали; видно, она доверяет мне, полноватой босоногой женщине, возникшей в хижине буквально из ниоткуда, интуитивно чувствуя, что женщина эта каким-то глубоким и таинственным способом связана с Донато.
Ее отдали в рабство хозяину Донато, и хозяин Донато был добр к ней, никогда не бил и не порол, давал ей работать вместе с другими женщинами, что пряли золотые и серебряные нити, рисовали, ткали одежды и покрывала. Все это она делала своими руками – и показывает мне свои изящные кисти с прямыми тонкими пальцами, а мой взгляд задерживается на прелестном серебряном колечке на безымянном пальце. Однажды ночью хозяин спас ее от насилия, смерти, огня и воды, но боги воды и огня решили ему отомстить, потому что завидуют нашей жизни и нашему счастью, а порой и злятся; они никак не могли признать, что хозяин Донато сможет, одолев их, избежать рока, и поджидали его на берегу великой реки.
Огонь сходил с неба, воды вздымались, одна молния поразила Донато, а руки rusalok схватили и утянули на дно. Он долго боролся, опутанный руками и волосами деревьев и стволов, влекомых течением, но в какой-то момент все-таки сдался. Тогда Катерина, преодолев сковавший ее страх перед rusalkoi, высунулась из лодки, погрузила руки в воду, уже не боясь, что ее схватят и утащат в свой мир эти сотканные из радуги создания, и вдруг нащупала руку, скользнувшую по ее руке, схватила изо всех сил и больше не отпускала, не сознавая, кто дал ей всю эту силу: может, великая мать Шатана или ее сын, рожденный из камня и огня могучий Сосруко.
Лодка, несомая больше течением, чем веслом перевозчика, застряла в корнях старой ивы у дальнего берега, и только тогда им удалось сойти на берег, в топкий ил, и вытащить хозяина. Донато был мертв, боги забрали его душу, так они решили, никто не может противиться воле богов. Потрясенная, Катерина опустилась подле него на колени, но не заплакала, потому что в их народе не следует плакать или показывать слабость.
Последним сострадательным движением она решила стереть с прекрасного лица Донато кровь и грязь, пригладить длинные седые волосы. Тогда-то, впервые заметив в его лице схожесть с чертами отца, благородного Якова, Катерина всем сердцем и взмолилась своей святой, Екатерине Великой, чтобы та вернула ему душу. Потом коснулась закрытых глаз серебряным кольцом, что всегда носит на пальце. И чудо свершилось. Донато судорожно закашлялся, его вырвало водой, илом и кровью. А Катерина, уже более не сдерживаясь, расплакалась и рассмеялась.
Лодочник оставил их, как только смог, и первую ночь они провели в мокрых холодных зарослях. Катерина перетащила тело Донато повыше, где было сухо, обернула своим плащом, потому что не чувствовала холода, подобрала сумку и узелок, небрежно брошенные ей лодочником, и осталась сидеть рядом. В ту ночь она не спала, но и не боялась, чувствуя защиту святой Екатерины и для пущей храбрости время от времени трогая свое кольцо.
А поутру первым делом принялась ухаживать за Донато: тот по-прежнему был без чувств. Раздев его и расстегнув дублет, Катерина увидела рану, та оказалась неглубокой, даже кровь не текла; чтобы промыть ее, пришлось поискать проточную, не застойную воду и травы, похожие на те, что у нее в деревне применяли, врачуя раны воинов и животных. Ступки не было, и она долго их пережевывала, потом сплюнула на рану, наложила сверху лоскут и, крепко прижав, завернула вокруг бедер, а под конец коснулась лба Донато кольцом, произнеся магическую формулу, хотя, возможно, не совсем точно, потому что плохо ее помнила. Так она поступала каждый день на рассвете, вплоть до новолуния.
Боги благодаря заступничеству святой Екатерины сжалились над Донато и вернули ему душу, но частицу ее оставили себе. Когда Донато проснулся, она даже не могла понять, что он бормочет. Такое бывает, когда у тебя по воле богов или ведьминскими чарами отнимают часть души и ты продолжаешь жить, но творишь нелепицу. У них в деревне тоже была такая женщина, и ее все уважали, ведь подобный недуг делает тебя ближе к богам. Катерина решила, что теперь эта участь выпала и Донато. Он говорит с богами и покойниками, а открыв глаза, он первым делом изрек: «Дочь, дочь моя, благословенна ты среди жен»[84]84
«Благословенна ты среди жен» – из Евангелия от Луки (1:28).
[Закрыть]. Может, это душа ее отца Якова говорила его устами, заняв тело на тот краткий срок, пока душа Донато блуждала по царству мертвых.
Теперь Донато убежден, что Катерина – его дочь. И еще одержим свертком из вощеной ткани, лежащим в сумке: первое, о чем он спросил, – цел ли сверток, точно он был ценнее его жизни и души. И это еще один явный признак безумия, ведь Катерина видела этот сверток, заглядывала внутрь: там одни бесполезные бумажки, покрытые непонятными значками, что зовутся буквами; и да, они все целы, не испорчены и не намокли. Донато это успокоило. Но потом он вдруг снова стал бредить и, впиваясь в нее безумным взглядом, повторял одно-единственное слово: Флоренция, Флоренция.
Несколько дней Катерина ухаживала за ним, как могла добывая еду: горькие травы, которые она разжевывала и клала ему в рот, коренья, желуди, крохотные перепелиные яйца, найденные в гнездах то тут, то там, сырую рыбу, пойманную голыми руками и разорванную зубами; потом она нашла в сумке кинжал и начала пользоваться им. Ради удобства, а также, вероятно, понимая, что так будет лучше и безопаснее для обоих, она сняла юбку, надела сменные штаны Донато, заправив их в сапоги, натянула дублет, затянув потуже, чтобы не болтался, а главное, заточив кинжал о камень даже до бритвенной остроты, обрезала волосы под мальчишку: в предстоящем им путешествии женщине не место.
Потом подняла хромающего, пошатывающегося Донато, накинула на него и на себя плащи с капюшонами, и они, опираясь на палки, побрели вперед, будто нищие пилигримы, старик отец и его юный сын, прося у других путников еды, ночуя в конюшнях или где придется и выспрашивая дорогу к этому незнакомому месту, название которого Донато неустанно повторял: Флоренция, Флоренция. Она не знает, сколько прошло времени, видела только, что луна сменилась несколько раз, но дни не считала. Они всё шли и шли. Пересекали реки, болота, каналы, прятались за изгородями, завидев банды наемников, сжигавших и грабивших села, укрывались под больничными портиками у милосердных монахов, спали под звездами между скал в высоких горах под полной луной, углублялись в густые леса, где слышался волчий вой, и она крепче сжимала кинжал. Она ловила зайцев, рыбу в речках, разводила огонь и стряпала для Донато, а тот все повторял с потухшим взором: Флоренция, Флоренция.
Эти глаза оживились, лишь когда они спустились в знакомую ему долину. Здесь к Донато будто бы вернулись силы, и ей даже пришлось его сдерживать, потому что лихорадка все время возвращалась, словно сама кровь вскипала в жилах. В этой поросшей лесом долине шел нескончаемый дождь, их ненадолго приютили у себя монахи. Один из братьев как раз собирался за подаянием в место, называемое Флоренция, и предложил подвезти их на своей повозке по дороге, тянувшейся между гор, постепенно переходивших в холмы и наконец спускавшейся в долину, где вдали серебрилась река. Донато широко распахивал глаза и, весь дрожа, указывал брату свернуть здесь, потом там, меж виноградников и оливковых рощ, пока монах наконец не высадил их на углу, у церковки с колокольней. Они приехали вчера. Донато, опираясь на руку Катерины, еще некоторое время тащился по пыльной дороге. Они услышали собачий лай, потом вышел старик крестьянин, вскрикнул, обнял Донато и увел его в хижину. Вот и все, таким было их странствие.
Я совершенно очарована рассказом Катерины и тем, как она спасла моего Донато. Что за прекрасная история! Куда прекраснее и правдивее глупых кантари Антонио Пуччи или Пьеро да Сиены! Тем временем мы перекусываем черным хлебом и мардзолино, что оставил Нуччо, она отхлебывает вина из кувшина, потом передает мне, облизнув край, а я беру без всякой брезгливости.
Так кто же она, эта Катерина? Если рабыня, то откуда родом? Но ей больше не хочется говорить, особенно о себе. Она долго рассказывала об их с Донато пути и, наверное, поняла, что между нами есть какая-то связь, а теперь, чувствуя, что странствию и ее трудам приходит конец, препоручает его мне, во исполнение долга Господу, святой Екатерине или ее загадочным богам. Говорит лишь, что была княжной, дочерью князя Якова из горного народа, но отца убили франки, и она стала рабыней. Помнит еще название того места, название города и большой реки – Тана, потому что Донато не раз повторял его, и то же имя, как ни странно, носило место, где он жил в Венеции.
Рыжебородый гигант перенес Катерину по волнам в утробе деревянного чудовища, из Таны в город, сотворенный из золота, а затем, уже в другом деревянном чудовище, в город, сотворенный из воды, где ее отдали хозяину Донато. Я понимаю, что она говорит о Константинополе и Венеции. Мысль о странствиях по большому и страшному миру меня зачаровывает. Остается только воображать, сколько разных мест повидала Катерина, прежде чем попасть в Венецию: ее плавания по Средиземному, Эгейскому и Черному морям, греческие острова, берега Троады и Колхиды; моим же самым дальним странствием была поездка из Флоренции в Прато, но куда чаще я путешествовала, не выходя из комнаты, грезя над любимыми книгами.
В Венеции Донато спас ее от насилия и смерти, а потом уже она сама спасла Донато, привезя его сюда. И теперь расспрашивает меня: неужели это место и есть Флоренция, куда они так долго добирались? Эта оливковая роща, эта хижина и невысокая колоколенка – Флоренция? В таком случае Флоренция прекрасна, это чудесное место, открытое и свободное, под высокими небесами, среди деревьев, травы и земли. Не такое закрытое и мрачное, как город на воде, где она жила раньше. Она ненавидит каменные дома, ведь они означают заточение и рабство. Как хорошо, что во Флоренции нет домов, лишь деревья и трава. Как же хорошо здесь, во Флоренции, под теплым солнцем! Она счастлива. Разве что жарковато становится.
Я смеюсь в ответ, я тоже счастлива. Увы, Катерина слишком красива, слишком искренна и слишком наивна. Она воистину ангел, что сразу понял другой простак, Нуччо: блаженны наивные, ибо они пройдут невредимыми среди горестей земных. Если она из Таны, значит, черкешенка, и это видно по ее стати: не низенькая и плосколицая, как татарки, и не бледная, как русские. Меня не в чем ее подозревать и незачем ревновать.
Заговорившись, мы обе, благовоспитанная мадонна из славного зажиточного флорентийского дома и рабыня-черкешенка, варварская княжна, забыли о течении времени, забыли и о Донато, чей стон вдруг доносится из хижины. Я бегу, а глаза у него открыты, он узнает меня и плачет, бормоча мое имя. Я припадаю к нему, причиняя, должно быть, немалую боль, я ведь не пушинка, обнимаю, тискаю, шепчу его имя. И не нужно оборачиваться, чтобы понять, что Катерина смотрит на нас с порога.
* * *
Я сразу беру ситуацию под контроль. Как делаю всегда и везде. Еще некоторое время с помощью Катерины, невероятной и идеально исполняющей все, чего я требую, зачастую упреждая мои просьбы, я устраиваю выздоравливающего Донато у Бернабы, избавив Нуччо от слишком обременительной для его преклонного возраста ответственности. Телом Донато чуть воспрял, должно быть, ему идут на пользу сила и энергия земли, где он родился и вырос, а может, просто радуется теплой погоде. Но что касается ментального здоровья, боюсь, Катерина права. По ее словам, в обмен на оставленную Донато жизнь боги забрали частичку его души. Так оно и есть, Донато постоянно бредит, заговаривает то об одном, то о другом, порой он кажется абсолютно здравомыслящим, а то отправляется в бессмысленные рассуждения или вдруг закатывает глаза, водит руками по воздуху, словно молотком размахивая, и кричит: «Дзордзи, нет, Дзордзи! – Потом: – Кровь, кровь, – а после стиснет зубы, плюнет в стену и шипит: – Будь проклят сенатор, и золото это, и серебро!»
Но мне все равно. Я взяла его в мужья перед Богом и матерью-землей, пускай пока не в миру и не в церкви, а брак предписывает супругам помогать друг другу, не оставляя ни в горе, ни в радости, ни в ясные дни, ни в мрачные. Сейчас для Донато мрачные дни, возможно, такими они и пребудут до конца его жизни, но мне все равно. Он вернулся ко мне, добрался сюда, в Теренцано, где зародилась наша любовь. И даже в бреду он всегда узнает меня, и нежно мне улыбается, и шепчет словно молитву мое имя, как будто я самый прекрасный ангел Рая там, в небесных кущах.
Тем временем, чтобы не забросить дела здесь, на земле, я забираю с собой сверток вощеного холста с бумагами Донато, тот, что кажется Катерине совершенно ненужным, поскольку в нем нет таких важных вещей, как пища или утварь, а только какие-то бумаги. И все же она сохранила его в своем опасном путешествии. Я днями и ночами разбирала эти документы, и, пожалуй, это куда большее сокровище, чем то, что Донато получил от Аарона: десятки ценных бумаг и государственных облигаций под высокие проценты, приобретенных в венецианской ссудной палате, а также множество документов и обязательств по другим кредитам, подлежащим взысканию с частных лиц, компаний и торговых предприятий в том же городе.
С большой опаской я возвращаюсь к Аарону, показываю ему документы и уверяю, что Донато жив, в безопасности и, как только будет возможность, зайдет в контору за своими деньгами; но главное, прошу его оказать мне ради Донато огромную услугу: попытаться выяснить через их сеть еврейских купцов и банкиров, что на самом деле болтают о нем в Венеции. Правда ли, что его разыскивает правосудие? Если над ним нависло какое-нибудь тяжкое обвинение, ему будет опасно показываться на люди. Венеция и Флоренция сейчас слишком дружны, они заключили союз, а потому вполне могут делать друг дружке небольшие одолжения, в том числе и обмениваться опасными преступниками, пойманными на территории другой республики. Тогда прощайте обязательства и кредиты: все будет конфисковано и пожрано светлейшим львом святого Марка. Я во что бы то ни стало должна узнать, что произошло на самом деле. И уж точно это невозможно узнать у самого Донато, который пока еще в полном отупении отсиживается в Теренцано.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































