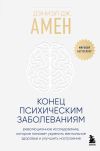Текст книги "Власть лабиринта"

Автор книги: Лидия Бормотова
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 33 страниц)
Глава 31
Месть
От всадника на дьявольском коне валил пар, словно у него с конём был один общий внутренний костёр, рвавшийся наружу, но пока извергавший лишь зловещий колдовской дым.
Любаша замерла на крылечке, не чувствуя мороза, глядя безумными глазами на долгожданного гостя, не в силах выговорить ни слова.
– … Арина… – с трудом выдохнул гость, словно простонал.
И Любашу прорвало. Она сбежала со ступенек и, ухватившись за стремя Баюра, рыдая, торопясь и путаясь, изливала боль и тревогу:
– Третьего дня ушла. К матери. Господи! Зачем отпустила её одну? – слёзы клокотали в горле девушки и рвались наружу. – Не прощу себе никогда…
– Короче, – грозный всадник не был похож на парня, что приезжал летом, – лёгкого, быстрого, улыбчивого. Нынче он словно окаменел, и веяло от него стужей.
– От матери ушла, а сюда не вернулась. Николай Фаддеич велел всю округу обыскать. С ног сбились – не нашли.
– Я найду, – он развернул коня в сторону Бельского тракта и помчался галопом к лесу.
Любаша ахнула и только теперь вспомнила рассказы Арины, как ходила она с Баюром к Святому камню. Завязав шаль и вытерев слёзы, она поспешила к родителям подруги предупредить их, хорошо зная, как в неутешном горе они продолжают поиски, да не знают, где искать.
Не мысль, не догадка, не памятное слово, не расчётливый выбор, а только горячая кровь, извергавшаяся из сердца, выбирала направление и гнала его, не давая вздохнуть, туда, где расцвела их любовь, в центр мироздания, от святости или осквернения которого зависели жизнь и тлен, свет и тьма. Гром вихрем взлетел на холм и остановился. Баюр спрыгнул на мёрзлую землю. Арину он увидел сразу. Она лежала там, где упала, зарубленная саблей. Со времени разыгравшейся здесь трагедии, никто не посещал холм. Арина закостенела, присыпанная лёгкой позёмкой.
Баюр упал рядом:
– Горлинка моя! Нет мне прощения за твою погибель!
Его сознание, скованное железной волей, теперь, почувствовав наступившую слабость, отлетело в небесную высь, оставив его наедине с землёй, которая с материнской заботой обнимала, выискивая невидимую боль, и вытягивала её, освобождая душу от гнёта, непосильного человеку. Баюр вдруг увидел весеннюю синь поднебесья и Арину в синем сарафане, как летом. Русая коса, перекинутая на грудь, кудрявыми кончиками, словно детскими пальчиками, заигрывала с ветерком. Арина со спокойной улыбкой перебирала луговые цветы, пёстрые и бесхитростные, составляя пышный букет. А голос Арли откуда-то издалека произнёс отчётливо и властно, как наказ:
– Баюр, ты должен отомстить за Арину, за сына. Чтобы они стали свободными, как мы, с белоснежными крыльями и могли летать.
Баюр открыл глаза и увидел маленький застывший кулачок в засохшей крови, намертво сжимающий что-то острое. Он пригляделся получше. Да ведь это булавка! Обычная, швейная. Внезапная догадка заставила его вскочить. Её преследовали! И она побежала сюда. Но почему? Почему так далеко от дома? Кроме булавки, оружия для защиты не нашлось никакого. Что можно поразить булавкой? Глаз! Булавка в правой руке – удобнее всего попасть в левый глаз. А она попала! Весь кулак в крови! Вот за что зарубили! Умница моя, горлинка ненаглядная. Всё одно убили бы, только надругались сначала, наиздевались бы.
Баюр смахнул с лица Арины снежок и нежно гладил застывшее лицо и такие живые, растрепавшиеся, роскошные волосы. Сабельная рана была глубока, со всей злости. Стоп! Шнурок, на котором Арина носила Берег Луны, оборван… а Берег Луны исчез. Баюр задумался. Догадки, обгоняя друг друга, вихрем полетели в голове, постепенно выстраиваясь в связную цепочку. Мародёры. Шайка, не иначе. Поодиночке они не рискуют. Убийца – одноглазый, и Берег Луны – у него.
За спиной послышался тяжёлый вздох со всхлипом. Матвей Григорьич, сильно постаревший, сгорбившийся, упал на колени перед Ариной, уронил непокрытую голову и беззвучно затрясся невыплаканным горем:
– Кровиночка моя, разъединственная! Не уберёг я тебя, старый пень, не заслонил от антихристов. Голубка невинная, жаль моя несказанная…
Баюр встал у него за спиной и старался не слушать причитаний, жалящих сердце острыми иглами, а застрявший в горле ком загонял так глубоко, чтобы и самому забыть о его мощи, рвущейся оглушительным, взрывным криком наружу. Он с трудом расцепил сжатые зубы, едва владея закаменевшим лицом, и крепко зажмурился, не давая воли слезам.
– Вставай, Матвей Григорьич. Будет ещё время плакать и горевать. Я снесу Арину в твою телегу, чтоб дома обряд совершили и собрали, как полагается. А похоронить её надо здесь.
– Да как же, Баюр? – всхлипнул осиротевший отец, оглядываясь. – Не лучше ль на погосте? И батюшка могилку бы освятил…
– Святее этого места нет. Она сама его выбрала. А до убийцы я доберусь, будь спокоен.
– Да рази способен ты распознать яво́? Али видал хто?
– Арина его видела, а мне подсказку оставила, – Баюр показал на кулачок с булавкой и поделился своими догадками. – Когда будете обряжать Арину, булавку не троньте, так с нею и хороните.
***
По расчётам Баюра, шайка мародёров обитала где-то в окрестностях, совершая набеги в разных направлениях. Найти приют было несложно. Брошенные деревни, пустые дома были в их распоряжении. И Баюр стал объезжать ближайшие сёла, расспрашивая крестьян о французах. Мужики рассказывали с охотой, подробно, а Баюр выбирал из их историй всё, что ему требовалось. Постепенно сложился план действий, и пора было его осуществлять.
Он направил Грома снова к Святому камню. Здесь было тихо, всё по-прежнему, только рядом с камнем Святой Параскевы-Пятницы вырос холмик свежей земли с деревянным крестом над ним. Он постоял рядом, справляясь с болью, сковавшей сердце, потом решительно достал из ташки длинный шнур, туго скрученный кольцами, уже не раз послуживший ему верой и правдой, и пошёл к Святому камню. Опоясав монолит и закрепив петлю крепким узлом, он растянул шнур на всю длину и к другому концу прикрепил саблю. Древний храм занимал обширную территорию, и задуманный Баюром лабиринт легко вписывался в неё. Воткнув саблю в мёрзлую землю, он пошёл вокруг Святого камня на расстоянии вытянутой верёвки. С каждым кругом шнур, наматываясь на камень, сокращался в длине, а круги, вычерченные саблей, составляли идеальную спираль. Осталось обозначить круги лабиринта камнями. Их он заметил ещё в июне, теперь же, когда не было травы и негде стало прятаться, камней оказалось гораздо больше.
Закончив работу, он лёг на спину рядом с Арининой могилой и закрыл глаза.
– Баюр, а разве храм бывает из одного столба?
– Это не весь храм, а только кон его, вроде алтаря в церкви.
– Почему кон?
– Кон – это начало и конец вместе, то есть Центр Мира. Точка, вкруг коей совершается коловращение жизни… Такие камни закрывают проход в Иной Мир. Встречаются даже специально выстроенные из камней лабиринты – такие спирали вокруг, вроде как путь в Иной Мир назначают.
– Обязательно камнями?
– Камни бессмертны.
Мокрые дорожки, не спрашивая хозяйского разрешения, струились по лицу, деревянному от напряжения. Железная воля кандалами сковала душу, не давая ей взорваться, всё смести на своём пути, помрачить рассудок. Бесконтрольные ручейки катились и катились в разные стороны, соревнуясь в соли и горечи, а потом уже остывшей капелью сыпались за ворот. Заледеневшая шея заставила хозяина встряхнуться и встать.
Пора.
Баюр вытер ладонями лицо, вложил саблю в ножны и свистнул Грома. Он определил для себя два места, где можно застать шайку, и не очень надеялся, что всё получится гладко с первого раза. Но отступать от задуманного не собирался.
Подъехав к намеченной избе, он дал знак Грому скрыться за углом и быть наготове. Ногой саданул дверь. Щуплый артиллерист-француз суетился у печи, обвязав грудь и живот бабьим засаленным фартуком, в избе вкусно пахло. «Дежурный кашевар? – усмехнулся про себя Баюр. – Или штатный повар?». Француз удивлённо воззрился на вломившегося гостя, едва не на голову выше его.
– Где Кривой? – нахально и грозно рявкнул Баюр, приготовившись в случае промашки, огреть олуха по голове.
– А ты кто такой? – неожиданно осмелел недомерок.
– Отвечай, когда тебя спрашивает старший по званию! А представляться тебе я не намерен!
– Да кто ж его знает, – сразу залебезил побледневший солдатик. Кулак у этого громилы, сжатый на эфесе сабли, пугал напряжёнными, как взведённый курок, костяшками. Одним ударом вышибет дух, охнуть не успеешь. – Должен вот-вот прибыть. Велел, значит, чтобы к его возвращению обед был готов.
– Так обед готов? Подавай!
Струсивший кашевар растерялся и, выпучив глаза, пролепетал:
– Прежде Кривого? Да он мне голову снимет!
Баюр лениво достал саблю, аккуратно вытер её о замызганный мундир кашевара, приставил к заросшему щетиной кадыку:
– Ну, хочешь, я её тебе сниму?
– Ладно, ладно, – мигом засуетился тот, тряскими руками отводя клинок в сторону, – как прикажете, господин лейтенант. Может, и не заметит, окаянный.
Тут же на столе появилась полная миска гречневой каши и изрядный кусок мяса:
– Говядинка. Не сомневайтесь, господин лейтенант. Вчера только освежевали.
Он достал ещё бутыль вина, выставил на стол и сильно удивился, когда «лейтенант» велел её убрать. Быстро поев, Баюр приказал скрыть следы трапезы и добавил:
– Я вздремну здесь, – показал он на полати за занавеской, – а тебе не советую предупреждать обо мне Кривого, когда он явится, ни словом, ни зна́ком, ибо стреляю я метко, – Баюр поднёс к носу кашевара пистолет и спрятал его за занавеской.
– Я всё понял, понял, – ещё сильнее затрясся французик.
Ждал Баюр меньше часу. Всё точно было рассчитано. Спасибо местным крестьянам. Дверь отворилась с шумом, и в избу вслед за начальником ввались «удальцы», окутанные морозным паром. Баюр считал: 16 душ. Кашевар суетился у печи и накрывал стол. Кривой стал против окна, в которое били прямые солнечные лучи послеполуденного солнца, и Баюр хорошо рассмотрел его. Левая глазница заживала плохо (Арина со всего отчаянья всадила иглу и, видно, расцарапала щеку возле глаза). Перевязанная несвежей тряпицей, которая намокала от нескончаемых выделений, рана доставляла боль главарю шайки, заставляющую его передёргиваться и быть в постоянном раздражении. Второй глаз был совершенно круглым и грозно вращался по сторонам. Чёрная, давно не мытая шевелюра войлоком торчала в разные стороны. Поверх мундира – лисья шуба. Он встал спиной к окну, занимая главное место за столом, и тряхнул плечами – шуба свалилась на лавку. Баюр вздрогнул: на груди Кривого радужно блеснул Берег Луны. Не в силах больше сдерживаться, он рванул занавеску и одним прыжком оказался на столе прямо против негодяя, круглый глаз которого, казалось, выкатывается из орбит. Баюр рывком сдёрнул Берег Луны с его шеи и со всего маху врезал сапогом в ненавистную, мерзкую рожу. Главарь опрокинулся на лавку, грохнувшись затылком об оконную раму, и бешено завопил:
– Убейте его!!!
– Догони сперва! – наглец прыгнул прямо на ошалевших разбойников, повалив и затоптав их, и, вырвавшись за дверь, свистнул.
Гром ждал. С разбегу взлетев в седло, Баюр помчался по мёрзлой дороге под вопли, брань и угрозы, несущиеся ему вслед. Французы подняли невообразимый гвалт, вывалились из избы, стрелять было поздно, беглеца выстрелом уже не достать. А из тряского седла – только пули вхолостую терять. Вскочив на лошадей, они устремились в погоню. Сбитые с толку неожиданной выходкой незнакомца, они не думали о том, куда он скачет. Вот Кривой вырвался вперёд. Злость придавала ему силы, он даже о боли забыл. Уйдёт! Что за конь под ним? Не иначе – сам дьявол!
Свернув с прямой дороги, Баюр уводил преследователей вокруг холма, чтобы не дать им по знакомым приметам догадаться раньше времени об уготованной каре, не повернуть назад.
Обратная сторона холма, пологая, легко далась французам, и они, видя впереди спешившегося беглеца, безоружного, спокойно стоявшего поодаль от каменного монолита, с неистовой яростью, с саблями наголо рванулись вперёд.
Баюр поднял к солнцу ладонь, красноватый камень с белыми и золотистыми крапинками запульсировал, а лабиринт словно ожил – вздохнул и покрылся лёгкой испариной.
Кривой летел впереди. Багровая, перекошенная от ненависти рожа была страшна, как лик преисподней. Но отчаянный одиночка не убегал от настигающей его смерти, а лишь скалился, неотрывно глядя на бешеного всадника. Выпученный круглый глаз успел заметить свежую могилу в стороне и сверкнувшую на солнце алую звезду в руке наглеца. «Колдун! – его словно обдало кипятком. – За девку свою мстит!» – но бешеный скок коня было уже не остановить. Со свистом ворвался он в лабиринт. Шайка головорезов, несущаяся следом, видела, как он растворился в воздухе вместе с конём и саблей, и запоздало догадалась о своей участи. Но разогнавшийся галоп был им уже неподвластен. Всей ордой вломились они в закручивающуюся спираль, истошно вопя и от ужаса теряя рассудок.
Монолит невозмутимо глядел в небо, незыблемо возвышаясь над чёрными бороздами лабиринта, которые вдруг осели, разгладили горбики, словно отдыхая после праведных трудов. Пульсирующий камень в руке постепенно успокоился, и Баюр спрятал его в карман.
На холме стояла звенящая тишина. Слышно было только, как гибкие ветви ракит у родника, обросшие ледяной корочкой, колеблемые ветром, тихо скребут по деревянному кресту над свежей могилой.
Глава 32
Живая легенда
– А что мы будем делать с пленными, Денис Васильич?
Давыдов с прищуром посмотрел на Фигнера:
– А что с ними делать? Утром отправим в ставку.
– Не боишься, что к утру разбегутся? Али отобьют французы?
– Я знаю, к чему ты клонишь, Александр Самойлыч, – ложка раздражённо брякнула в пустую миску, а та, резко отодвинутая рукой, глиняно ширкнула, жалуясь столу и освобождая место для партизанских локтей. – Не в моих правилах пленных расстреливать. Сим бесчестием я руки ни разу не замарал.
Фигнер, не ожидавший такого оборота, вздрогнул. И хотя у него в мыслях не было такого предложения, оправдываться он не стал:
– Будто? Неужли не расстреливал?
– Да, случалось, – не смутился Давыдов, чувствуя за собой правоту. – Расстрелял двух изменников Отечеству, из коих один был грабитель храма божия. Так то прилюдно было, при мировом сходе, и расстрел был мировым приговором. А пленных – Боже сохрани! Хоть вели тайно разведать у казаков моих.
– Поначалу я тоже всех пленных отправлял в ставку, – признался соратник, не отводя глаз от вонзившегося в него недоброго прищура Давыдова, – ежедневно по две-три сотни, покуда Ермолов не взмолился: «Вот ещё головная боль с твоими пленными. Куда девать эту прорву? Вступившим на русскую землю – смерть!». Я и отписал ему тогда: «Отныне, Ваше Превосходительство, не буду более беспокоить пленными».
– Стало быть, злодеев истребляешь на месте? – удивился такой беззастенчивой откровенности обличитель.
– Не всегда, – честно признался Фигнер. – Только в исключительных обстоятельствах. Разве с тобой не бывало, что неприятель окружает, а сил и средств заботиться о пленных да ещё снаряжать доставку нет? Своих бы уберечь да унести ноги. Прикажешь возвращать отбитого неприятеля с извинениями?
– Злой ты, Александр Самойлыч, – выдохнул Давыдов и нахмурился. Ну, да. Бывало всякое. Однако его Бог уберёг от греха. Но не всем же так везёт. А что вытворял этот сорви-голова… из уст в уста легенды плели, взахлёб пересказывали. Ежели слухам верить, он уж не раз погиб. Да вот умудрялся как-то выкрутиться. Но беречься так и не научился.
– А почему я должен быть добрым к извергам поруганного Отечества? – и впрямь озлился партизан.
– Не ты один сражаешься за честь и свободу России! Однако законы человечности и милосердия для всех одни. Вот, к примеру, Сеславин, – стиснутые кулаки партизана разжались, и он хлопнул ладонью по столу. – Геройский полковник! Бесстрашный, отчаянный, а не убийца. Согласись, ведь он лучше тебя?
Фигнер встал, надел полушубок, затянул ремень:
– Это верно. Сеславин лучше меня, его все любят, – открыл дверь и вышел в ночь.
– Зря ты, Денис Василич, с ним так, – расстроился Сеславин. – Беспримерной отваги партизан. Жизнью своей не дорожит ради пользы Отечества. Вот и сегодня, не известно, пришлось бы нам праздновать победу, коли бы Фигнер с Баюром так искусно не разыграли спектакль. А ведь отправились почти на верную смерть без всякой выгоды для себя. А что касаемо жестокости… так войны без неё не бывает.
– Ты-то вот не жесток! – поймал на слове защитника Давыдов, потом тряхнул кудрями, скривился, досадуя, что не сдержался, обидел удальца. – Может, и впрямь я лишнего наговорил. Поверь, я бесконечно ценю Фигнера за то, как умеет он прикинуться чёртом, за фантастическую изворотливость его и геройство, однако остаюсь при своём мнении об этом человеке… Впрочем, довольно об этом. А вот встрече с тобой я ужасно рад! Наслышан о твоих подвигах! Да и сегодняшнее дело без тебя и твоей артиллерии было бы кислым. Вот думаю, что бы такое сделать приятное для тебя?
– Ты же знаешь, Денис Василич, как люблю я твои романсы. Но говорят, что, став партизаном, ты из принципа стихи забросил и гитары при себе не держишь.
– Сие намеренно распространённый слух, – ехидно захихикал приятель, – дабы штабные доброжелатели, влекомые завистью, отучились клеветать на поэта: дескать, коли я мараю вирши, стало быть, ни к чему другому не пригоден. Сам слыхал, какую аттестацию мне они загнули.
– А ты?
– Гитару тайно вожу с собой. Но, по правде сказать, времени на поэзию совсем нет. Тебе ли объяснять, как устроена жизнь партизанов.
Дверь открылась, и в облаке пара в избу вошли, поклонившись притолоке, Граббе, Чеченский, Орлов-Денисов и ещё трое гусар. Потирая руки с мороза и осторожно переступая через соратников, которые после горячего ужина повалились спать кто где, прямо на полу, они пробрались к столу.
– Как там? – кивнул на окно Давыдов.
– Да тихо. Дозоры – как положено.
– А пленные?
– В сараях под караулом.
– Да вы ешьте, пока горяченькое, – Давыдов потянулся за занавеску, куда свалили из обоза его вещи, и извлёк гитару в кожаном чехле.
Александр Граббе, с полным ртом, округлил глаза и перестал жевать. Давыдов усмехнулся, погладил чехол:
– Хороша вещица? Специальный заказ. Ну, Александр Никитич, желай!
– Не пробуждай… – выдохнул Сеславин, не веря, что вот сейчас среди дымов и смертей сладко защемит сердце и полетит, трепеща крыльями.
Давыдов достал из чехла инструмент, легко прошёлся по струнам, ловко подкручивая колки́, налаживая звучание, и запел. Голос его, негромкий, приятный баритон, никак не вписывался в кровавый хаос войны. Неподдельная искренность и глубокая проникновенность каждую душу заставляли жадно впитывать слова и звуки и плести из них дорогие сердцу образы, блуждая в лабиринтах собственной судьбы. Смешной нос-пуговка поэта-гусара исчезал из поля зрения, и на лице жили только глаза, горящие восторгом и му́кой.
Не пробуждай, не пробуждай
Моих безумств и исступлений,
И мимолётных сновидений
Не возвращай, не возвращай!
Не повторяй мне имя той,
Которой память – мука жизни,
Как на чужбине песнь отчизны
Изгнаннику земли родной.
Не воскрешай, не воскрешай
Меня забывшие напасти —
Дай отдохнуть тревогам страсти
И ран живых не раздражай!
Иль нет! Сорви покров долой…
Мне легче горя своеволье,
Чем ложное холоднокровье,
Чем мой обманчивый покой!
Давыдов замолчал, продолжая перебирать струны. Когда переливы звуков затихли, Сеславин, покручивая ус, задумчиво произнёс:
– Одно удивительно, Денис Василич, почему ты доселе не женат?
– Потому, друг мой, что барышни не видят меня за спинами здоровенных красавцев.
– Эка причина! Мал да удал! Только после одного этого романса должна очередь невест выстроиться.
Давыдов расхохотался:
– Погоди, погоди, вот дослужусь до генерала, кончится война – тогда и женюсь, – снова наклонился к гитаре, своей верной подруге, и вдруг вспомнил, ехидно заметив: – А сам-то? Аль не сыскалась достойная партия для прославленного героя?
Сеславин махнул рукой:
– Когда? Всё походы – то за пределы отечества, то… А после войны кому я буду нужен – израненный и седой? Да и не тягаться мне с молодыми и ретивыми женихами…
– А я? – округлил Давыдов глаза. – Значит, тоже?
– Ты – совсем другое дело, – вывернулся полковник. – Поэт! Поёшь так, что и меня, обветренного да обугленного, до костей пробрало. Куда уж нежному девичьему сердцу устоять.
– Ничего-о. Дай срок, оженим и тебя, – и вновь ударил по струнам:
Я люблю кровавый бой,
Я рожден для службы царской!
Сабля, водка, конь гусарской,
С вами век мне золотой!
Я люблю кровавый бой,
Я рожден для службы царской!
Эту разудалую песню знали все, несколько гусар лихо подхватили куплеты и пели вместе до конца.
Станем, братцы, вечно жить
Вкруг огней, под шалашами,
Днем – рубиться молодцами,
Вечерком – горелку пить!
Станем, братцы, вечно жить
Вкруг огней, под шалашами!
О, как страшно смерть встречать
На постеле господином,
Ждать конца под балдахином
И всечасно умирать!
О, как страшно смерть встречать
На постеле господином!
То ли дело средь мечей:
Там о славе лишь мечтаешь,
Смерти в когти попадаешь,
И не думая о ней!
То ли дело средь мечей:
Там о славе лишь мечтаешь!
Я люблю кровавый бой,
Я рожден для службы царской!
Сабля, водка, конь гусарской,
С вами век мне золотой!
Я люблю кровавый бой,
Я рожден для службы царской!
***
Ночь выдалась морозная. На чёрном небе звёзды светили ярко, отчётливо, не обещая оттепели. Фигнер объехал караулы, поговорил с казаками.
– Оне, ваш блародь, в едных мундирчиках, яко на параде. Вот друг об дружку и сугреваются по сараям да овинам. Куды бечь? Вон знатный мороз какой вдарил! Один надысь запустил со всей дури, дак Акимка стрелил вдогонь – тот в сугроб свалилси да и окочурилси.
Мимо, спеша в тёплую избу, ехали Чеченский, Граббе, Орлов-Денисов. Граф, завидев Фигнера, натянул поводья:
– Вам, Александр Самойлович, я вижу, и мороз нипочём.
– Да как-то тревожно, что такую прорву пленных до утра бережём.
– Вот-вот, – согласился генерал. – Я говорил Давыдову, да он упёрся. По мне, так сразу бы отправить их на главную квартиру. Тем паче, что французы – нелюбители ночных маршей, стало быть, хлопот в дороге меньше, – он потрепал по скуле нетерпеливо топчущегося коня и поскакал за своими спутниками.
Постояв ещё немного в раздумье, Фигнер решился:
– Фролов! Передай всем караульным казакам, чтоб выводили пленных на дорогу строиться. Я сам поведу их на главную квартиру. В арьергарде – трофейный обоз. Караульные казаки – в сопровождение.
– Дык… ваш блародь…
– Выполняй!
– Есть, выполнять! – и он бегом отправился к караульным постам.
Французы бригады генерала Ожеро не успели испытать бедствий, которые через край хлебнули старые войска и которые косили их почище артиллерийского обстрела, они не дрались из-за мёрзлого мяса дохлых лошадей, не загибались на ледяном ветру, кутаясь в подвернувшееся тряпьё, падая на дорогу закоченелыми трупами.
В синих мундирах с жёлтыми отворотами, они выглядели довольно сытыми, вот только у многих вместо сапог – онучи и поршни, а посему они жаловались на казаков, разувших их.
Фигнер только генерала Ожеро разрешил посадить на лошадь и накрыть плечи солдатским одеялом, а сам скакал вдоль колонны, не давая замедлять ходу, движением разогревая ворчащих на него французов. Выйдя от Ляхова в Дорогобужском направлении, колонна двигалась просёлочными дорогами, ещё не сильно заметёнными, избегая проезжих трактов, и скоро встретилась с артиллерийской ротою под командой поручика Радожицкого, которая в составе войск генерала Милорадовича следовала к Смоленску и Красному. Непреднамеренные случайности войны иногда преподносят приятные сюрпризы, которые озаряют военные тяготы добрым светом, заставляя забывать о лишениях. Друзья обнялись. Фигнер коротко, но выразительно, как умел только он один, рассказал о сражении при Ляхово.
– Да ведь вы с Баюром ехали на верную смерть! – потрясённо воскликнул Илья. Впрочем, зная своего командира, удивляться не приходилось. Это в его духе. – А ежели французы бы не поверили? Должно, страшно умирать вот так, не за понюшку табаку.
– Умирать не наша очередь. Посмотри на этих откормленных трусов. Напугать их не составило труда. Один вид казаков производил в них дрожь, а когда мы ляпнули про число русского окружения, они тут же побросали оружие. Генерал Ожеро, – Фигнер показал тростью на нахохлившегося всадника, – шестьдесят его офицеров, две тысячи солдат.
Радожицкий присвистнул:
– Знатная добыча!
– Однако прощай, друг Илья, торопиться надо.
Отыскав главную квартиру, расположение которой менялось часто ввиду стремительности военных событий, Фигнер не задержался у светлейшего. Фельдмаршал, весьма довольный действиями партизан, отправил его с донесением к государю императору, в Санкт-Петербург, наградив сей командировкой отважного майора.
***
Что награды земные? Они радуют душу и веселят сердце, а человек, хоть и знает о том, но никогда не помнит, что все радости и печали, победы и поражения, взлёты и падения неизменно уравновешиваются в согласии с волей вселенского разума. Результат же сего равновесия человеку заранее знать не дано.
Фигнер по прибытии в северную столицу сделал необходимые визиты по приказу светлейшего с доставкой корреспонденции, и вот он в приёмной самого государя императора, пожелавшего лично принять героя-партизана. Важные сановники в расшитых золотом мундирах и в партикулярном платье тихо переговаривались, переходя от одной группы к другой, кто прямо, кто украдкой и как бы вскользь поглядывая на прибывшего из огня войны человека, известного доселе лишь по слухам, невероятным порой настолько, что впору почитать их за сказки.
А государь император перечитывал реляцию князя Кутузова: «Доставитель сего, – читал Александр I, – в продолжение нынешней кампании отличался всегда редкими военными способностями и великостью духа, которые известны не токмо нашей армии, но и неприятельской». Кутузов и в прежних донесениях аттестовал Фигнера весьма превосходно, нынешний же повод, о котором пишет фельдмаршал, достоин монаршего внимания и награды: «Победа сия тем более знаменита, что в первый раз, в продолжение нынешней кампании, неприятельский корпус положил перед нами оружие». Действительно, перед партизанами, «летучими отрядами»! Подобного примера, кажется, не бывало ещё ни в одной европейской войне. Александр взглянул на секретаря:
– Пригласите Фигнера.
Вошедший вытянулся струной и замер. Так значит, вот он каков, герой. Среднего роста, белокур, лицо красивое и было бы приятное, ежели б не излишняя жёсткость в чертах – признак волевой натуры. Живая легенда!
– Ну что ж, наслышан о подвигах твоих. Много путаного, да по чести сказать, враки мудрёные по следам твоим стелются и славу твою не украшают, а даже наоборот, обращают в выдумку.
Фигнер не пришёл в замешательство и отвечал вполне достойно, без робости:
– О сём, ваше величество, в народе говорят: «На каждый роток не накинешь платок». И выдумщиков понять можно, ибо движет ими одно желание – увидеть врага ненавистного одураченным да смешным.
Ответ Александру понравился. Этот малый, по всему видать, за словом в карман не лезет. Так ли находчив в деле? По рассказам, его не раз и не два считали погибшим. А он выходил сухим из воды.
– А в безвыходное положение приходилось попадать?
– Коли я попал бы в безвыходное положение, меня живым более никто не увидел бы. Пока Бог миловал, да выход находился.
– А вот я слышал театральную историю про Польский уланский полк. Была такая или сочинили любители?
Фигнер улыбнулся:
– Это было. Поручик Бискупский Ксаверий Андреич, командующий Польским уланским полком, целиком влился в мою партию. Поляки сражаются ни за страх, а за совесть. Однажды французская кавалерия окружала нас. Чтобы одурачить её и направить по ложному следу, пришлось разыграть спектакль. Форма наших поляков очень похожа на французскую, посему я поделил партию на поляков и партизан и приказал инсценировать сражение. Спектакль был впечатляющим, с перестрелкой и рукопашным боем. Поляки наседали и загоняли партизан в лес. Французы решили, что мне конец, и не стали вмешиваться, ожидая, что уланы скоро к ним присоединятся. Когда ожидание слишком затянулось, они прочесали лес, но никого не нашли.
Государь позволил себе улыбнуться:
– Когда слышишь историю из первых уст, она имеет совсем другой вес. Может, расскажешь, Александр Самойлович, ещё случай, дабы уверен был я, что сие не выдумка поклонников твоих, а результат предприимчивого ума?
– Извольте, ваше величество…
Он чуть склонил голову, на миг задумавшись. За время его партизанства случилось столько, что всего не поведаешь. Хватило бы на десятерых с избытком. Что же выбрать? Рассказчик он был отменный, его слушали с открытыми ртами. А Ермолов, зачитывая его донесения, неизменно восхищался слогом да сетовал, что талант красноречия тратится впустую: «Экий дар слова! Ему бы книги писать!». Торопливый выбор пал на начальную осень, и Фигнер приступил к рассказу:
– Наполеон тогда ещё в Москве был, а в ближних и дальних её окрестностях партизанские партии совершали набеги на французов. Я после удачного дела вёл пленных в ставку, как вдруг из-за леса выскочил отряд неприятеля, будто поджидал нас, тысяч семь. Пленных отбили, нас загнали в лес, а сами обложили цепью опушку и остановились. Оказалось, что лес выходил прямиком в топь, которая опоясывала его шириною в триста саженей. То-то французы всё рассчитали и уверены были, что крепка западня. Потому в темноте рисковать не стали, решили дождаться рассвета. Но мы-то умирать, да ещё так глупо, не хотели. Товарищ мой Баюр, сибиряк, предложил план сумасшедший, невыполнимый, но я знаю: раз Баюр берётся за дело – будет исполнено. В темноте с шестами по кочкам мы вдвоём перебрались через болото. А там в двух верстах – деревня. Я собрал мужиков, растолковал им наше положение, и они помогли. Снесли на берег доски, солому, настелили гать, по ней я вернулся к партии. Сначала переправили лошадей, за ними пошли люди. Последние снимали за собой доски, передавали вперёд. Так и выбрались. Топь быстро затянула все следы, будто и не было ничего. А наутро французы цепью прочёсывали лес до самого болота, пока лошади вязнуть не стали. Куда делись партизаны – так и не поняли.
Император Александр слушал, не шевелясь, не перебивая и не сводя глаз с выразительного лица со строгими чертами. Воображение красочно рисовало глухую чащу и загнанных в топи партизан, приговорённых к жестокой расправе. Голос рассказчика искусно моделировал и состояние обречённости, и волю к жизни, которая вопреки создавшемуся тупику заставила бороться с судьбой и обвести её вокруг пальца. История захватила его, хотелось узнать и о других случаях, которых у этого героя, видать, немало. Но августейшее положение не позволяло проявлять слабость, несдержанность, равно как и ронять челюсть, увлёкшись повествованием, по примеру бесхитростных искренних слушателей.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.