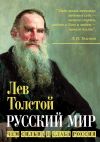Текст книги "Россия и ислам. Том 2"

Автор книги: Марк Батунский
Жанр: Религиоведение, Религия
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 37 (всего у книги 50 страниц)
Глава 3
1 Вот один любопытный пример. Дореволюционная русская историография укладывала многообразие форм религиозного сектантства «либо в два географических ряда – “восточное сектанство” и “западное сектанство”, либо в два идеологических ряда – “мистическое сектанство” и “рационалистическое сектанство”. При этом группа сект, подводимых под понятие “восточного сектанства”, более или менее соответствовала составу сект, подводимых под понятие “мистического сектантства”. Точно так же формы сектантства, относимые к “западным”, более или менее совпадали с его формами, относимыми к “рационалистическим”… В церковно-миссионерской литературе между мистицизмом (т. е. «плодом Востока»! – М.Б.) и изуверством, рационализмом («атрибутом Запада»! – М.Б.) и атеизмом (опять-таки: «порождение Запада»! – М.Б.), как правило, ставились знаки равенства…» (Клибанов А.И. История религиозного сектантства в России. М., 1965. С. 332).
2 Столь типично западнический взгляд на Восток во многом обусловлен влиянием соответствующих представлений ряда весьма чтимых в России европейских мыслителей. Так, даже такой страстный поклонник азиатских – индийской преимущественно – цивилизаций, Фридрих Шлегель (см. подр.: Ilsdorf L. Deutsch-Indische Geistbeziehunden. Heidelberg, 1942; Gerard R. L’Orient et la pensée romantique allemande. Paris, 1963; Wilson A., Mytnicne A. Image. The Ideal of India in German Romanticism. Durcham, 1964; Benler E. «Das Indienbild der deutschen Romantik // Germanisch-Romantische Monatschrift, Bd. 18,1968) писал: «Европу (ав Европе Шлегель видел некое духовное целое, культурное единство. – М.Б.) отличает от Азии известная пластичность, изменчивость, большее стремление к нововведениям и вообще высокая степень совершенства… Именно богатство великих азиатских стран естественно порождает ту самодостаточность, которая ограничивается сама собой… Там, где люди, наслаждаясь жизнью, не отвлекаясь никакой нуждой, довольны своим положением, как это имеет место в Азии, там не проявится живого стремления к дальнейшему развитию и совершенствованию… Азия… является страной мира и беззаботного покоя… Европа является страной многообразия и изменчивости, пластичной формируемости и искусственности.
Естественно, что это своеобразие каждой из обеих частей света простирается и на их политическое устройство, нравы, обычаи, религию и литературу. Если способность Европы к совершенствованию проявляется часто как стремление к нововведениям, то спокойствие и самодостаточность Азии выступают нередко как косность. Европа подходит для самых многообразных разделений и связей и каждый момент подвигается к ним всем своим характером. Она ведет вечную войну, движимая нуждой и потребностью, и именно эти причины побуждают ее господствовать над другими частями света. Азия же от избытка погружается в сонный покой и становится добычей фанатичных воителей и жадных и коварных торговцев или же застывает под гнетом деспотической политики» (Шлегель Ф. Философия. Критика / Пер. с нем. / T. II. М., 1983. С. 44–46). А в исламе – в этой «последней великой революции, поднятой арабами и Магометом и распространившейся по всему земному шару» (Там же. С. 17), Шлегель увидел лишь «грубость и дикость… вдохновенное высокомерие» (Там же. С. 272).
3 Несмотря на то что от Петровской эпохи была унаследована широкая лексическая синомимия, лексическая избыточность, она выявлялась в образовании и функционировании рядов слов разногенетического источника. Диапазон смысловой близости между словами в этих рядах был необычайно широк: «…здесь вычленяются совершенно различные (и нередко подвижные в своих границах) типы отношений… от действительных синонимов, т. е. слов, совпадающих в общем значении, но дифференцированных по тем или иным существенным оттенкам значения или стилистическим признакам, до слов, вполне совпадающих в своем значении, с одной стороны, и слов, совпадающих или близких в своей предметно-понятийной отнесенности, хотя и различных по своему значению, с другой» (Сорокин Ю.С. О задачах изучения лексики русского языка XVIII в. // Процессы формирования лексики русского литературного языка (От Кантемира до Карамзина). М.-Л., 1966. С. 27).
4 Они же – прямое порождение процесса ломки средневековых мировоззренческих систем под воздействием прогресса естественно-научных знаний и сопутствующего им прагматического эмпиризма с его методом posteori. Он диаметрально противоположен априорному методу привнесения ценностных характеристик в объекты изображений. Вследствие этого природные объекты и явления начали отчуждаться от прямой соотнесенности с прежней системой значений и ценностей, которая выражалась в символической или эмблематической их интерпретации. Мир постепенно стал осознаваться комплексом явлений как таковых, существующих независимо от человека и лишь воспринимаемых в акте наблюдения. Самое же главное было в том, что истина, теряющая качество единственности, становилась многоликой. Гносеологическая тенденция может быть описана как движение конфликта между объектом и сознанием вовнутрь – движение, расщепляющее самосознание индивидуума. Постепенно у человека оставалось все меньше возможностей ощущать, что созданная им картина мира разделяется всем обществом (Manlove С.Н. Literature and Reality. 1600–1860. L., 1978. P. 2). Отсюда – характерная и для русской постпетровской культуры нескончаемая плюрализация универсума (и, значит, привнесение все больших и больших зарядов случайности, дезорганизации и неопределенности).
5 Ряд важных историографических материалов см. в: Riasonozsky N.:
1) Russia and the West in the Teaching of the Slavophiles. Cambr. (Mass.) 1952;
2) Nicholas I and Official Nationality in Russia. 1825–1855. Berkeley – Los Angeles, 1967.
6 Этот закон гласит: «Чем меньше информация о предметах, заключенная в понятии, тем шире класс предметов и неопределеннее его состав, и, наоборот, чем больше информация, тем уже и определеннее класс предметов» (Войшвилло Е.К. Понятие. М., 1967. С. 203).
7 Впрочем, имеет, по-видимому, смысл продолжить наш анализ, но уже в ином ключе. Итак, перед нами противоречивое выражение: Россия – одновременно (благодаря прилагательному «христианский») и «Цивилизация» (т. е. «Запад») и Восток, т. е. Не-Цивилизация (т. е. «не-Запад»), или, на языке формальной логики, выражение типа «А и не-А». Выражение это полностью запрещаемо такой логикой, является, с ее точки зрения, логической ошибкой. Но ведь существуют и противоречивые высказывания, которые выполняют познавательную функцию. Представляется, что и в формуле типа «Россия есть Запад» и «Россия в то же время есть Восток (как антипод Запада, даже если это и христианский Восток)» можно видеть не только бессмысленное выражение, но и отражение в логически противоречивой форме определенного момента процесса трансформации русской культуры. Сторонники диалектической логики могут назвать такую интерпретацию формулы «Россия – христианский Восток» адекватным отражением объективных диалектических противоречий. Они могут упрекнуть адептов формально-логического закона противоречия в том, что он не допускает истинности двух противоположных мыслей об одном и том же предмете, взятом в одно и то же время в одном и том же отношении, – и, следовательно, он признает лишь мысль о противоположностях, существующих в одном предмете, но в различное время или в различных отношениях.
8 Очевидно, что в конечном счете все же срабатывало представление не о двух (типа «Россия/Запад» или «Россия/Восток»), а о трехмерном Wordspace: Запад/Россия/Восток (О древних корнях тернарных моделей в русской культуре см.: Петрухин В.Я. Три «центра» Руси. Фольклорные истоки и историческая традиция // Художественный язык средневековья. М., 1982).
9 См.: Попа К. Теория определенности. М., 1976. С. 111–112.
10 Perengy J. Revolutionsuppfat thingens anatomi 1848 ars revolutioner i svensk debatt. Uppsala, 1979 (Acta Univ upseliensus. Studia historica upp-saliensia. 108).
11 Уже в начале XX в. Дмитрий Мережковский, лишь Россию в данном случае отожествляя с понятием «Восток», вопрошал: «Не свершится ли на Востоке второе и окончательное, не языческое, а христианское Возрождение?» (Мережковский Д.С. Полн. собр. соч. T. II. М., 1914. С. 31). Для Мережковского врагом номер один был позитивизм, он понимал его крайне широко, как своего рода дух и религию «середины» консерватизма, неподвижности, индифферентности, «плоскости и пошлости». Его олицетворение – это Восток, в первую очередь Япония и особенно Китай. «Китайцы – совершенные желтолицые позитивисты; европейцы – пока еще не совершенные белолицые китайцы. В этом смысле американцы совершеннее европейцев. Тут крайний Запад сходится с крайним Востоком» (Там же. Т. 14. С. 9). В этой «антипозитивистской схеме» Россия занимает особое место. Если «крайний Запад» и «крайний Восток» сходились в некоторой «точке», то Россия, напротив, отстояла от нее максимально далеко. Хотя она и имела, по выражению Мережковского, «две родины» – Восток и Запад, ее миссия была особой. В данном контексте Мережковский чаще всего определял Россию как «христианский Восток» (той же формулы придерживался и Николай Бердяев, характеризуя борьбу славянофильства и западничества как борьбу Востока и Запада в русской душе (См.: Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма. Париж, 1955. С. 13). Между тем слово «Азия» воспринималось Мережковским всецело негативно. Так, он писал, что толстовство (или «буддийский нигилизм», как правильно утверждали, согласно Мережковскому, Вл. Соловьев и Ницше) – это «отречение от жизни и плоти» культуры, общественности, «непротивление злу» особенно опасно «именно русскому, полуевропейскому, полуазиатскому духу с его вековечной склонностью к историческому «неделанию» (Цит. по: Литературный процесс и русская журналистика конца XIX – начала XX века. М., 1982. С. 150).
12 В журнале «Маяк» (1845, № 7; излагаю ее по «Журналу Министерства народного просвещения». 1845, ноябрь. С. 142–148) была помещена примечательная, на мой взгляд, статья С. Бурачка «Критический обзор народного значения Вселенской церкви на Западе и Востоке». По автору, «исходная цель человечества, тождественная с исходной целью бытия вселенной… усвоение человечеством откровенного ведения о Создателе. Суть жизни Европы – «разъединение и воссоединение главных народов нашей части света… к изумлению вселенной, две стихии, славянская и романская, разъединяются… В начале и в половине IX века совершаются два противоположных события на Востоке и Западе: на Востоке начинает созидаться славянская отрасль Вселенской церкви, умирившая свои народы. В германо-латинской Европе, уже приготовившейся отпасть от единства православной церкви, обновляется Карлом Западная Римская Империя. На Востоке (имеется в виду лишь православный Восток! – М.Б.) – событие небесное, духовное, на Западе – земное, политическое». (Здесь и далее курсив мой. – М.Б.) От древнеевропейского мира остался один лишь «осиротелый памятник» – Восточно-Римская империя. И хотя и она должна была пасть, «но не прежде, как передавши человечеству драгоценнейшие дары небес: Востоку славяно-русскому – вселенское православное учение и науки, а Западу, отвергшему православие, – только науки. До самого падения своего… Византийская империя благотворно предохраняла Восток Европы от безвременного сближения народов его с народами, бывшими под влиянием Рима…» Для нас же важно зафиксировать, что, согласно Бурачку, в истории Востока и Запада усматривается, несмотря на политическое разъединение, «таинственная связь», т. е. стремление к воссоединению. «Восток (но опять-таки «христианский Восток! – М.Б.) и Запад идут к этой цели сообразно со своим характером, различными путями, в продолжении веков испытывая начала своей религиозной и политической жизни и в бурных переворотах очищаясь от заблуждений и возрождаясь к новой жизни. Такими очистительными мерами были для Запада: Крестовые походы, Реформация, Французская революция. Не такова судьба Востока. Он не принял участия в успехах внешних наук на Западе после Крестовых походов, потому что не имел и тех политических и религиозных заблуждений, против которых они нужны были на Западе. Владычество Монголов, бывшее как бы возмездием за временное господство Крестовых рыцарей, очистило Восток от политической болезни — от удельных междоусобий, и приготовило обновление России самодержавием, как Реформация, вследствие успехов внешнего просвещения после Крестовых походов, была обновлением для Запада. По мере уничтожения уделов, – этого единственного заблуждения русской жизни, – народы и государства, составляющие черту разъединения между Востоком и Западом (неясно, имеются ли в виду и мусульманские земли. – М.Б.), входят в пределы России, которая через то сближается географически с западными государствами, в знак того, что для нее наступает время усвоить внешнее просвещение». Высоко оценив Петра I и доказывая, что «только под гнетом Наполеона могли и принуждены были сознать тщету своих заблуждений», Бурачок далее пишет: «…Запад, по воле Наполеона, устремился на Восток… и Москва… запылала. Пламя Московского пожара долженствовало сплавить воедино Восток и Запад Европы (т. е. опять-таки не «мусульманский Восток»! – М.Б.), тысячу лет разъединенные. Царь Русский воззвал к народам своим и весь Север земли поднялся за Восток Европы. Полчища Запада легли в России костьми. Идет Царь Востока (термин, как кажется, совсем позабытый со времен Петра Великого. – М.Б.) с народами своими в недра Запада; наступает на исполинское царство Наполеона, и оно, дрогнув, распадается; из развалин его восстающие цари и народы римские спешат под державную руку царя русского, и благословенный потомок Святого Владимира ведет их… в столицу Запада, в Париж, где… воссоединяет во имя любви христианской русских с римлянами ровно через тысячу лет по отшествии в вечность Карла Великого, виновника, попущением судеб Вышних, десятивекового разъединения народов нашей части света». Таким образом, антиномия «католическо-протестанский Запад» и «православный Восток» вовсе не является вечной, ибо может быть снята русской монархией.
13 Таким образом, снимались универсализм и диалектичность христианства, его готовность к «согласию противоположностей» (concordia discors), к единству видения. Оно же определяется единством «высшей истины», которая в состоянии включать в себя метафизические противоположности.
14 Согласно славянофильству (см. в частности, о И. Киреевском – Christoff Р.К. The Third Heart: Some Intellectual and Ideological Currents and Cross Currents in Russia. 1800–1130. The Hague – Paris, 1970; Китаев В.А. Славянофилы накануне отмены крепостного права. Горький, 1981; Литературные взгляды и творчество славянофилов. М., 1978), принципиальное отличие русского общества от западных заключается в том, что ему присуща ориентация на межличностную солидарность. Она зиждется не на вещно-экономических факторах или правовой регуляции общества, а на непосредственном – этическом и духовном – общении носителей единых культурных ценностей. Содержание русской культуры определялось как дух солидарности, чувство братства, сердечность, терпимость, способность к взаимопониманию, уважение, любовь к людям, стремление к добру и тому подобные этические характеристики. Ориентация на человеческое начало принималась за ценностную основу культуры общества. Это, в свою очередь, давало повод для утверждения о присущем ей гуманизме, противостоящем отчужденному рационализму западного «мира машин и расчетов». Все более интенсивное расширение зоны поисков для противопоставления атомизирующему миру Запада некой позитивной альтернативы – мира абсолютных ценностей, мира целостного мироощущения, первоначального синтеза человека и космоса – как раз и привело (хотя были, конечно, и иные причины) к евразийству.
15 В России в XIX в. очень мало кому пришло бы в голову так умиляться мировоззрению нехристианского Востока и так преувеличивать его роль в истории европейской цивилизации, как это сделал, например, английский писатель Жорж Эллиот: Marie Е. de Meester. Oriental influences in the English Literature of the Nineteenth Century // Anglistische Forschungen, Hrs. Y. Hovps. Heft 46. Heidelberg, 1913. S. 1).
16 В этой связи кажется интересным вопрос о генезисе и природе русского абсолютизма. Еще в конце XIX – начале XX в. шли острые споры о том, была ли Россия европейской страной или же ее прошлое оказалось глубоко отличным от исторического развития большинства государств Западной Европы (см. подробно: Павлова-Сильванская М.П. К вопросу об особенностях абсолютизма в России // История СССР. 1968, № 4. С. 71–73), вследствие чего русская история нередко подпадала под рубрику «восточный деспотизм» (см. подробно: Троицкий С.М. Россия в XVIII в. М., 1982. С. 35, 44–45). В связи с попытками определить особенности абсолютизма в России не раз обращалось внимание на то, что в трудах В.И. Ленина часто отмечается «деспотический», «азиатский», «варварский» характер абсолютной монархии (Там же. С. 45). Так, Ленин писал, что «азиатски-дикое» самодержавие (Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т. 12. С. 10) и в то же время этот «деспотизм азиатски действителен» (Т. 9. С. 381). Как полагает Троицкий, усиление черт деспотизма, «азиатчины» во внутренней и внешней политике российского абсолютизма происходило с конца XVIII – начала ХIХв. (см.: Троицкий С.М. Россия в XVIII в. С. 46). Нам, однако, всего важнее отметить, что сам-то российский абсолютизм никогда не считал себя «деспотизмом», а тем более – «азиатским деспотизмом» и, напротив, всегда смотрел на себя как на олицетворение и оплот Цивилизации.
17 Будь то обычай не прощаться через порог и качать кого-либо в торжественных случаях (см.: Веселовский Н.И. Пережитки некоторых татарских обычаев у русских // Живая старина, 1912. С. 27–28) или то обстоятельство, что посольский церемониал у русских князей и царей вплоть до Петра I «носил в полном, можно сказать, объеме татарский или – вернее – азиатский характер» (Веселовский Н.И. Татарское влияние на русский посольский церемониал в Московский период русской истории. СПб., 1911. С. 1). Я многократно акцентирую этот европобежный (= антиазиатский) порыв русской культуры не только первой половины XIX в., но и XVIII в. и для того, чтобы еще и еще раз показать неправомочность усилий Лотмана и Успенского представить допетровскую и послепетровскую культуры в качестве одного и того же интеллектуально-гомогенного феномена. Последний же по самой природе своей исключает возможность скачкообразной смены метафизических парадигм, концептуальных мутаций, генезис, мультипликацию и, наконец, укоренение качественно новых эпистимологических полей, мыслительных схем, методологических принципов, рискующего конструктивного мышления, альтернативных символических рядов и т. д. Ведь, согласно Лотману и Успенскому, «именно вызванный “европеизацией” (т. е. тем, что субъективно воспринималось как европеизация) сдвиг усилил архаические черты в русской культуре (XVIII в. – М.Б.)… В этом отношении, вопреки бытующему поверхностному представлению XVIII век был глубоко органичен русской культуре как таковой» (Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века) // Труды по русской и славянской филологии XVIII. Тарту, 1977. Ученые записки ТГУ. Вып. 414. С. 32); «Вторая половина XVIII в. развивалась под знаком идей, обнаруживающих параллелизм с культурными моделями позднего средневековья» (Там же. С. 33) и т. д. и т. п. Оговорившись, что отнюдь не следует отожествлять средневековый цикл русской культуры с ее же историей в XVIII в. – ибо тогда «имела место и реальная европеизация» (Там же. С. 35), – что прошлое, фиксируясь в памяти культуры, получает в ней «постоянное, хотя и потенциальное бытие» (Там же. С. 36. Курсив мой. – М.Б.), авторы, однако, именно Прошлое (или, как они говорят, – «архаические семиотические модели») делают единственным, по сути дела, детерминатором процесса функционирования культуры. Но в таком случае она не в состоянии преодолеть «перцептуальные барьеры» (см. о них: Boehme G. On the Possibility «Closed Theories». – In: Studies in History and Philosophy of Sciene. 1980. vol. 11, № 2), ибо творчество требует переструктуирования и преодоления сдерживающего воздействия ранее сформированных систем образов.
18 Этот секулярныи прагматизм мог – теоретически, по крайней мере, – у бюрократической элиты достигнуть стадии полной индифферентности по отношению к конфессиональной (или даже расовой) принадлежности тех, кто оказывался ее хозяевами. Во всяком случае, Лев Тихомиров – бывший революционер, а затем ярый приверженец самодержавия – имел кой-какие основания с гневом говорить в 1905 г. о «нынешних начальниках»: «…и глупы, и подло трусливы, и ни искры чувства долга. Я уверен, что большинство этой сволочи раболепно служило бы и туркам и японцам, если бы они завоевали Россию» (Цит. по: Соловьев Ю.Б. Самодержавие и дворянство в 1902–1907 гг. Л., 1981. С. 142. Курсив мой. – М.Б.).
19 Landmann М. Pluralitât und Antinormal. München-Basel, 1963. S. 205.
20 Политика – феномен, сама логика развития которого заставляла не считаться ни с какими иными интересами, кроме узконациональных, – давала всего больше оснований именно для такого взгляда и на христианский Запад и на мусульманский Восток. Вот лишь один факт из множества ему подобных: в конце 20-х годов XIX в. Россия не без оснований опасалась направленного против нее англо-ирано-турецкого союза (см.: Базиянц А.П. Над архивом Лазаревых. М., 1982. С. 128, 137).
21 Так, русский юрист и публицист, искусный апологет царской дипломатии Ф.Ф. Мартенс не раз в изобилии и с сочувствием цитируя J.St. Mill, утверждал, что европейское международное право применимо только к тем народам, которые «находятся, по крайней мере приблизительно, на одинаковой степени культуры и прогресса». А у «дикарей», «варваров» (т. е. у подавляющего большинства азиатских народов, в частности среднеазиатских) нет «согласия и совместной деятельности для достижения общей цели»; в их среде «каждое отдельное лицо есть свой собственный охранитель, имеет в виду только свои интересы» (Мартенс Ф.Ф. Россия и Англия в Средней Азии. Пер. с нем. СПб., 1880. С. 9, 13. Есть переводы этой книги на английский и французский языки). Доказывая, что более или менее полноценные международные отношения могут быть устанавливаемы – да и то с немалыми коррективами – лишь с Турцией, Персией, Китаем и Японией, Мартенс призывал ко «вседозволенности» в отношении к остальным азиатам (Там же. С. 19).
22 Но – только «сближать», а не «отожествлять». Ведь, в отличие от тождества, метафора субъективна (интуитивна). Она не имеет под собой фактических оснований (хотя констатируется, как если бы она была фактом). Истинность метафорически выраженного суждения «не может быть логически установлена… Но наиболее резко метафора противостоит тождеству своей образностью. Поскольку образность… рождается из сопоставления объектов, принадлежащих разным классам, предикатная метафора не может быть кореферентна своему субъекту. Это сближает метафорический предикат с предикатом подобия… Метафорическое имя обычно имеет референцию не к индивидному объекту, а к типичному представителю того класса предметов, в который субъект метафоры не может быть включен на рациональном основании. Поэтому метафорическое предложение асимметрично и в отличие от предложений тождества не допускает инверсии… метафора синтезирует в себе черты двух достаточно четко противопоставленных друг другу концептов – тождества и подобия. Ее логическое основание тем самым содержит в себе исконное противоречие: в нем совмещено несовместимое» (Арутюнова Н.Д. Тождество и подобие? // Проблемы структурной лингвистики. 1981. М., 1983. С. 8, 10).
23 Angenot М. Fonctions narratives et maximes ideologiquis // Orbis litterarum. Copenhagen, 1978. Vol. 39, № 2 P. 95.
24 Эта непрофессиональная литература о Востоке – «комбинаторский жанр», поскольку представляющие его авторы заимствуют мотивы и определения, изначально им не принадлежащие (см. подробно: Schrolder H. Science Fiction in den USA: vorstudien für eine materialistische Paraliteraturwis-senschaft. Giessen, 1978).
25 При этом все же будем помнить, что поскольку любой литературный текст является сложным композиционным и концептуальным единством образной и эстетической интуиции, образного и абстрактно-понятийного, постольку ни одна из интерпретаций не может претендовать на то, чтобы быть окончательной (Eykman Ch. Phenomenologie der Interpretation. Bern, 1977. S. 71).
26 Речь президента Императорской академии наук, попечителя Санкт-Петербургского учебного округа в торжественном собрании Главного педагогического института 22 марта 1818. СПб., 1818. С. 3.
27 Там же. С. 21.
28 Там же.
29 Цит. по: Лобикова Н.М. Пушкин и Восток. М., 1974. С. 7.
30 В первую очередь Уваров был страстным любителем и знатоком античности, и в качестве президента Академии наук он способствовал расширению соответствующих исследований. Но оказывавшееся Уваровым «покровительство академическим занятиям античностью определялось столько же заботою о науке, сколько и расчетом – разрушительному натиску либеральных идей противопоставить отвлеченные занятия древностями, за счет античности укрепить позиции официальной идеологии» (Историография античной истории. М., 1980. С. 73). Впрочем, эта идеология (по формуле Уварова – «самодержавие, православие, народность») начисто исключала какие-либо ориентофильские оттенки и ориентобежные потенции.
31 Как и его же словам (из уже упомянутой речи при представлении ориенталистов Деманжа и Шармуа в Главном педагогическом институте): «…Должна ли Россия, опирающаяся на Азию… Россия в непрерывных сношениях с Турцией, Китаем и Персией, овладеть, наконец, великим орудием восточных языков? Сей вопрос кажется излишним…» (Речь президента Императорской академии наук, попечителя Санкт-Петербургского учебного округа в торждественном заседании Главного педагогического института 22 марта 1818. СПб., 1818. С. 21).
32 О том, как весьма курьезно порой, что и в XVIII в., например, мусульманская Азия – в первую очередь Османская империя – воспринималась в качестве Генератора самого различного Зла, свидетельствуют стихи В. Пертова («На войну с турками»):
Чтоб их была верней победа,
Оттоль поклонник Магомеда
Шлет нову в Север саранчу.
(Цит. по: История лексики русского литературного языка конца XVIII – начала XIX века. С. 277.)
33 Цит. по: Журнал Департамента народного просвещения. 1821, П. С. 38.
34 Там же. С. 56–58. (Всюду курсив мой. – М.Б.)
35 8.XI.1826 г. Магницкий доносил министру духовных дел и народного просвещения Голицыну, что «христианский университет» (имелся в виду Казанский. – М.Б.) служит «орудием к распространению лжеучения магометанства» (Цит. по: Мазитова Н.А. Изучение Ближнего и Среднего Востока в Казанском университете (первая половина XIX века). Изд-во Казанского университета, 1972. С. 103).
36 См.: Татищев С.С. Внешняя политика императора Николая Первого. СПб., 1887. С. 3, 225.
37 Так, декабрист Михаил (Александрович) Фонвизин писал: «…напрасно иные порицают христианскую религию, будто она поддерживает самовластие и потакает этому…» (Избранные социально-политические и философские произведения декабристов. М., 1951. Т. 1. С. 383).
38 Николай (Иванович) Тургенев писал: «…русские хотят ныне участвовать в судьбе просвещенной Европы… Петр Великий заставил нас идти вместе с Европою. Мы следовали данному движению; шли по открытому пути, но не знали куда и не имели никакой цели. Происшествия 1812, 13, 14 и 15 годов сблизили нас с Европою; мы, по крайней мере, многие из нас, увидели цель жизни народов, цель существования государств; и никакая человеческая сила не может уже обратить нас вспять» (Там же. T. I. С. 222). Но в то же время Александр (Дмитриевич) Улыбышев выступает (как, впрочем, и множество иных тогдашних русских интеллектуалов) против слепого копирования всего западного (Там же. С. 284–285, 290).
39 Там же. С. 211.
40 Там же. С. 246, 266.
41 Там же. С. 300, 303, 323.
42 Там же. с. 331.
43 Там же. с. 332. (Курсив мой. – М.Б.)
44 Там же. с. 450.
45 Там же. с. 488–489. (Курсив мой. – М.Б.) Впрочем, видный декабрист, генерал Михаил (Федорович) Орлов, признавал «военный гений Чингиса и Тамерлана» (Там же. С. 303). Он полагал, что еще при отце Петра I – Алексее Михайловиче – «хотя Россия и не вступила еще в состав европейский, но уже много способствовала войнами против турок и отвлечением сил сих к установлению так называемого равновесия Европы…» (Там же. С. 304).
46 Там же. С. 505. (Курсив мой. – М.Б.)
47 См. подробно: Нарочницкий АЛ. Греческое национально-освободительное движение и Россия (1801–1831 гг.) // Балканские исследования. Выпуск 7. Исторические и историко-культурные процессы на Балканах. М., 1982. С. 126.
48 Фонвизин М.А. Обозрение проявлений политической жизни в России. М., 1907. С. 85; Избранные соиально-политические и философские произведения декабристов. T. I. С. 380–381. См. также: Достян И.С. 1) Россия и Балканский вопрос. Из истории русско-балканских политических связей в первой трети XIX в. М., 1972; 2) Балканский вопрос во внешнеполитических планах П.И. Пестеля // Исторические записки. 1975. Т. 96; Сыроечковский Б.Е. Балканская проблема в политических планах декабристов // Из истории движения декабристов. М., 1969; Фадеев А.В.: 1) Россия и восточный кризис 20-х годов XIX в. М., 1958; 2) Греция и русское общество первых десятилетий XIX в.//Новая и новейшая история. 1964, № 3; Шапиро А.Л. Среднеземноморские проблемы внешней политики России в начале XIX в. // Исторические записки. 1956. Т. 55; Шеремет В.И. Турция и Адрианопольский мир 1829 г. Из истории Восточного вопроса. М., 1975; Шпаро О.В. Освобождение Греции и Россия (1821–1829 гг.). М., 1965; Арш Г.Л. 1) Этеристское движение в России. М., 1970; 2) Каподистрия и греческое национально-освободительное движение. М., 1976; Станиславская А.Н. Россия и Греция в конце XVIII – начале XIX вв. М., 1976; Арш Г.Л. Материалы к истории русско-греческих связей начала XIX в. // Балканские исследования. Вып. 8. Балканские народы и европейские правительства в XVIII – начале XX в. (Документы и исследования). М., 1982.
49 Избранные социально-политические и философские произведения декабристов. С. 70.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.