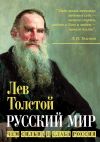Текст книги "Россия и ислам. Том 2"

Автор книги: Марк Батунский
Жанр: Религиоведение, Религия
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 39 (всего у книги 50 страниц)
115 Фомичев А.С. «Подражания Корану»… С. 29.
116 Так, 55-я сура Корана, послужившая, по-видимому, первоисточником стихотворения «Земля неподвижна – неба своды», традиционно сопоставляется арабистами с 135-м псалмом Давида (см.: Коран. Перевод И.Ю. Крачковского. М., 1963. С. 602). И если образность данного пушкинского «Подражания» обогащается вследствие включения в него стихов из других сур (см.: Томашевский Б.В. Пушкин. М.-Л., 1961. Кн. 2. С. 23–25), то сходные параллельные места нетрудно найти и в Библии. Сходство это было обусловлено как обильным заимствованием самим Кораном библейских мотивов (например, спора Авраама и Нимврода – ср. у Пушкина «С тобою древле, о всесильный…»), так и стилистикой перевода М. Веревкина, которым пользовался в данном случае Пушкин (Фомичева С.А. «Подражания Корану». С. 29–30). По мнению Н.М. Лобиковой (Пушкин и Восток. С. 74), «в хвале Аллаху, творцу Вселенной, Пушкина привлекает не мусульманская космогония, а яркая художественная фантазия Мухаммеда». В примечаниях к «Подражаниям» такой взгляд на природу Пушкин называл «плохой физикой», однако, восхищался его поэтичностью: «Но зато какая смелая поэзия!» (Пушкин А.С. T. II. С. 358).
117 Фомичев С.А. «Подражания Корану». С. 31.
118 Вероятно, в издании 1822 г.: Le Coran traduit de l’arabe, accompagné de notes, et précédé d’un abrège de la vie de Mahomet par M. Savary. L’an de l’Hégire 1165. Другое издание этой книги (Париж, 1828) сохранилось неразрезанным в библиотеке Пушкина (см.: Модзалевский Б.Л. Библиотека А.С. Пушкина. Библиографическое описание // Пушкин и его современники. СПб., 1910. Вып. IX–X. С. 212).
119 Фомичев С.А. «Подражания Корану». С. 40.
120 Лобикова Н.М. Пушкин и Восток. С. 68.
121 Там же. С. 77.
122 Тут надо будет вспомнить и о том, что уже переведена на русский язык в начале XVIII в. книга Дмитрия Кантемира об исламе (первоначально она была написана на латыни под названием Historia inirementorum atque decre-mentorum Aubae Othomanical; латинский текст никогда не публиковался) обогатила тогдашнюю русскую лексику значительным числом абстрактных, философских и научных терминов. Румынский исследователь А.И. Ионеску в своей статье «La contribution de Démétri Cantemié a la modernisation du lexique de la langue russe (Bucurejti Limbi ji lit strâine, Bue. 1978, a 26, № 2. P. 53–67) описывает, в ряду прочих типов введенных Кантемиром неологизмов (их более 300), термины, заимствованные из турецкого, арабского и персидского языков и обозначающие понятия мусульманской религии (азами – «ступень в изучении Корана»; джин – «ум, рассудок»; биргими – «магометанская книга»; фыкача – «священник»; годжа, геджра, или время, от которого мусульмане ведут свое летосчисление и др.). Не менее важно и то обстоятельство, что «система мусульманской религии» – это, согласно Кантемиру, не только религия, но весь порожденный исламом культурный комплекс. Для этой эпохи это было в высшей степени прогрессивное понимание исламского феномена. В наши дни такой подход к исламу общепризнан.
123 Который писал (в «Письме королю Прусскому о трагедии «Магомет») о мусульманском пророке: «Перед нами – всего лишь погонщик верблюдов, который взбунтовал народ в своем городишке, навербовал себе последователей среди несчастных корейшитов, внушив им, будто его удостаивает беседы архангел Гавриил, и хвалился, что бог уносил его на небо и там вручил ему сию непонятную книгу, каждой строкой своей приводящую в содрогание здравый смысл. И если, чтобы заставить людей уважать эту книгу, он предает свою родину огню и мечу; если он перерезает горло отцам и похищает дочерей; если он не оставляет побежденным иного выбора, как принять его веру или умереть, – то его, безусловно, не может извинить ни один человек, если только это не дикарь и не азиат, в котором фанатизм окончательно заглушил природный разум (Вольтер. Орлеанская девственница. Магомет. Философские повести. М., 1971. С. 644. Курсив мой. – М.Б.). Вольтеровская пьеса была давно известна в России (см.: «Магомет». Трагедия в пяти действиях из театра Вольтера. 2-е изд. Перевод П.С. Потемкина. СПб., 1810).
124 Фомичев С.А. «Подражания Корану». С. 41, 42.
125 О том, что Пушкин брал сведения о его культуре из различных западных трудов, см.: Зубков Н.Н. О возможных источниках эпиграфа к «Бахчисарайскому фонтану» // Временник пушкинской комиссии. 1978.
126 Roy С. (Les soleils du romantisme. Descriptions critiquies. XIX siecle. Paris, 1974. R 151) склонен видеть в романтизме прежде всего «гигантскую операцию по открытию новой религии», иногда имеющей много аналогий с христианством, иногда далекой от него, но в основе своей являющейся именно религией, более универсальной и общечеловеческой, чем предыдущие (Там же. С. 9).
127 Krasuski J. Wielkie grzechy Rmantyzma Provokacja do dyskusji // «Kultura», Wars. 1974, 19 maja. S. 1–5.
128 С момента выхода в свет крупнейшей историографической работы эпохи Просвещения (Gibbon Е. History of the Decline and Fall of the Roman Empire. T. 1–5. L., 1776–1788) и высказываний Руссо на эту же тему, принято связывать упадок античной рационалистической философии с развитием христианства. Это, утверждает Красуски, неверно. Еще в XIII в. Фома Аквинский сконструировал внушительное здание схоластических предпосылок и выводов, призванных доказать рациональную познаваемость Бога. Поэтому, когда в XVI в. вспыхнула Реформация, то возникло поразительное противоречие: католическая церковь осталась на рационалистических позициях, а Лютер перешел на платформу абсолютного фидеизма.
129 Ibid, S. 4.
130 Там же.
131 Представляется, что именно в таком ключе надо понимать слова Пушкина о том, что «климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию, которая более или менее отражается в зеркале поэзии. Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу» (Пушкин А.С. T. XI. С. 40. Курсив мой. – М.Б.). Эти взгляды нашли свое отражение и в «Бахчисарайском фонтане». Поэта-романтика увлекло сопоставление мусульманского Востока и христианского Запада, с их разными историческими судьбами, религиозными верованиями и массовой психологией (Лобикова Н.М. Пушкин и Восток. С. 51). Но Лобикова видит пафос поэмы «Бахчисарайский фонтан» лишь в «выражении романтической любви» (Там же). Между тем кажется более верным тезис Н. Свирина о том, что в этом произведении Пушкин «довольно отчетливо утверждает идею превосходства европейской цивилизации и христианства над мусульманским Востоком, – с его бытом, религией, миросозерцанием» (Свирин Н. Пушкин и Восток // Знамя. 1935, № 4. С. 208). Учтем здесь и неослабевающий интерес Пушкина к Ветхому и особенно к Новому Завету (он даже собирался писать драматическое произведение об Иисусе) и, наконец, то, что тему Поэта он всего глубже и последовательней разрабатывал на европейском (Овидий, Гораций, Шенье и т. д.), но не на восточном материале.
132 Первым русским теоретическим трактатом о романтизме была книга Ореста Сомова «О романтической поэзии» (СПб., 1823), где, в частности, очень высоко была оценена арабоязычная поэзия (как первая из «поэзий романтических». С. 23). Заслугу Гете, Байрона, Томаса Мура Сомов видел в том, что они «умели перенести воображение европейцев в страны мавров, индейцев, персов, османов и через то распространили область поэзии романтической» (Там же). Но для целей нашей работы интересней то, что Сомов, оспаривая мнение, что в России не может быть поэзии народной, т. е. воплощающей этническое своеобразие русского и других народов, указывал на многонациональный состав страны: «Сколько разных обликов, нравов и обычаев представляется испытующему взору в одном объеме России совокупной! Все они (народы. – М.Б.)… носят черты отличия в нравах и наружности» (Там же. С. 86). Среди упомянутых автором народов фигурируют и представители русского Востока, «остатки некогда грозных России татар» и «буйные жители Кавказа… Сколько в России племен, верующих в Магомета и служащих в области воображения узлом, связующим нас с Востоком. Итак, поэты русские, не выходя за пределы своей родины, могут перелетать от суровых и мрачных преданий Севера к роскошным и блестящим вымыслам Востока» (Там же. С. 87, 88). Обращая внимание на географическое разнообразие России (Там же. С. 89), Сомов акцентирует проблему местного колорита. Это, повторяю, характерно для романтизма, который не примирялся «с отвлеченным идеалом прекрасного, с изображением человека по условным канонам классицизма, с нивелированием национальных особенностей персонажей» (Лобикова Н.М. Пушкин и Восток. С. 36).
133 Лобикова Н.М. (Пушкин и Восток. С. 64, 66, 67) считает, что в своих «Подражаниях Корану», который он именовал «сладостный Коран» (Пушкин А.С. T. II. С 457), Пушкин использовал не только перевод М.И. Веревкина («1/5 текста «Подражаний» – буквальная передача текста Веревкина», – утверждает К.С. Кашталева в статье «Подражания Корану» Пушкина и их первоисточник» // Записки коллегии востоковедов. T. V. С. 256) и приложенную к нему статью Ладвоката. Об исламе и Коране юноша Пушкин слышал на лекциях профессора истории И.К Кайданова; о деятельности Мухаммеда, «пророка, завоевателя и поэта», он мог читать и в статье С.С. Уварова «Проект Академии Азиатской» (1818 г.). Из книги того же Кайданова «Руководство к познанию всеобщей политической истории» (ч. II. СПб., 1821. С. 20–21) он мог узнать, как Мухаммед из «кроткого проповедника» (в Мекке) превратился (в Медине) в «страшного завоевателя»; он знал вольтеровскую оценку Мухаммеда как «Тартюфа с оружием в руках». Равным образом и Веревкин полагал, что за проповедью новой веры скрывались узурпаторские намерения проповедника – стремление к тому, чтобы «все народы повиновались Магомету, яко пророку, посланнику божьему, который со временем возможет распространит учение свое силою оружия по всему лицу земному, а будет признан от всех же онаго концев единым верховнейшим первосвященником и единым же верховнейшим обладателем рода человеческого» (Книга Аль-Коран, аравлянина Магомета… С. XXVI). Попутно отметим, что Вольтер пользовался в России XVIII в. громадной популярностью еще и потому, что с сочувствием относился к бесчисленным идеям борьбы с Османской империей. Поэтому-то в 1787 г. Москве вышла (притом даже вторым изданием) «Поэма о нынешних делах, или Увещевание о восприятии против турок оружия. Соч. г. В/ольтера/. – В кн.: Переписка г. Вольтера с епископом А.
134 Для Гёте исламская культура была (как полагает Annemarie Schimmel) «единственной неевропейской культурой, которой он действительно глубоко интересовался. Никогда он не чувствовал себя легко и свободно среди многочисленных странных божеств индийского пантеона, хотя ему и очень нравилась «Шакунтала» Калидасы. Именно поэтому немецкие поэты-роман – тики и основатель санскритской филологии А.В Шлегель обвиняли его в том, что он был «новым фанатическим приверженцем Аллаха», что он игнорировал Индию – «колыбель всего прекрасного» (Шиммель А. Икбал и Гёте // Переведена на русский язык и опубликована в сб-ке «Творчество Мухаммеда Икбала». М., 1982. С. 228). Пушкин же – да и никто другой из сколько-нибудь видных представителей русской культуры XIX в. – не был ни исламо-, ни индофилом. Ему вполне хватало его, русской, культуры, культур других славянских народов, а также античной и западноевропейских. В пушкинских произведениях, выписанных четкими и лаконичными штрихами, и ислам, и все вообще восточное, остается только фоном, плацдармом, на котором развивается Действие, всего более важное и понятное русской в первую очередь культуре. Замечу также, что и проблема «Гёте и ислам» оказывается не столь простой, как это кажется Шиммелю. Гёте, для которого наивысшими и эстетическими, и нравственными, и философскими образцами были Ветхий Завет (или некоторые его компоненты) и древнегреческое искусство (Аветисян В.А И.В. Гёте и культура древнего Востока // Народы Азии и Африки. 1982, № 3. С. 118), писал, что Мухаммед «накинул на /корейшитов/ мрачное покрывало религии и сумел подавить всякую надежду на свободное развитие» (Цит. по: Восточная филология. Вып. I. Душанбе, 1978. С. 151. Курсив мой. – М.Б.). Как видим, Гёте «дает негативную оценку религиозной деятельности Магомета… В оценке деятельности основателя ислама у Гёте произошли принципиальные изменения, ибо Магомет был одним из кумиров молодого поэта и выступал рупором его бунтарских настроений в 70-х годах» (Там же. С. 119–120).
135 Combs В. Vision of the Voyage: Hart Crane and Psychology of Romanticism. Memphis, 1978. P. 1–3.
136 Bratu H., Marculescu I. Aesthetics and Phenomenology // Journal of Aesthetics and Art Criticism. Baltimore, 1979. Vol. 37, № 3. P. 337.
137 Независимо от того, что «Подражания…» могут быть «отнесены к героической лирике Пушкина, воплотившей резкие, волевые черты индивидуальности поэта. Это не пестрые узоры, расшитые по канве Корана или Библии, но значительные признания, раскрывающие пушкинскую трактовку задач независимого писателя» (Фридман Н.А. Образ поэта-пророка в лирике Пушкина // Ученые записки МГУ. Вып. 118. Кн. 2. М., 1946. С. 84).
138 Пушкин А.С. T. II. С. 358. В год создания «Подражаний Корану» Пушкин был, как отмечает его первый биограф Анненков, «до того увлечен гиперболической поэзией произведения (Корана. – М.Б.), что почел за долг распространять имя Магомета, как гениального художника, в литературных кругах, и К.Ф. Рылеев недаром, умоляя Пушкина покинуть рабское служение Байрону… употребил в письме своем фразу: «хоть ради твоего любезного Магомета» (Анненков П.В. Пушкин в александровскую эпоху 1799–1826 гг. СПб., 1874. С. 303–304).
139 Combs R. Vision of the Voyage… P. 22.
140 Фомичев C.A. «Подражания Корану». С. 42–43, 44, 45.
141 А пожалуй, именно они, благодаря воздействию западных языков, особенно французского, сумели осложнить и обогатить сферу выражения качественных оценок внутреннего и внешнего мира и привить русскому языку «изощренные приемы отвлеченно-оценочного и пластического изображения свойства признаков предметов» (Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). М., 1972. С. 153) – в том числе и «ориентальных».
142 Тут приходит на ум параллель с Эмерсоном. В «восточном миросозерцании» он увидел прежде всего пассивность, стремление к достижению нирваны путем отказа от желаний и страстей, отрицание прогресса. Благосклонно приемля их, Эмерсон пришел к осуждению романтической экзальтации; экстатическому вдохновению романтиков он противопоставил идеал умеренности, спокойствия и уравновешенности. Начиная с 1840-х годов в его дневниках появляется герой под именем Османа или Саади: простой, добрый, скромный, полный готовности к самоотречению, бедности и безвестности. Оставаясь пророком, «кроткий Саади» избегает битв, конфликтов и столкновений (Yoder R.A. Emerson and the Orphic Poetry in America. Berkeley etc., 1978. P. 2). Но Эмерсон, я бы сказал, «даже Эмерсон», отнюдь не был последовательным «востоко-центристом». Он явно связывал себя с Платоном (Emerson R.W. Plato or the Philosopher), который объединил в себе «все лучшее Европы и Азии» – цельность и «бесконечность» азиатской души со склонной к определению деталей, «жаждущей результатов» Европой – и этим синтезом усилил каждую из них.
143 Yoder R.A. Emerson… P. 51, 205.
144 В определенной мере Пушкин был близок к Гердеру – в частности, в своем понимании народности как «образа мыслей и чувствований», присущих носителям определенной национальной культуры определенной эпохи (см.: Пушкин А.С. О народности в литературе. 1825–1826 // T. II. С. 40). С Гердером же связывали современники распространение восточной тематики в произведениях русского романтизма (см.: Данилевский Н.Я. Н.Г. Гердер и сравнительное изучение литератур в России // Русская культура XVIII века и западноевропейские литературы. С. 205–206).
145 Надо иметь в виду и более глубокую, чем это кажется на первый взгляд, причину культа «пророка» у многих романтиков – в том числе и у русских. Их собратья-историки (и прежде всегоЖ. Мишле) акцентировали необходимость перейти от «прерывной» истории отдельных человеческих индивидуальностей к истории родной стороны как целого, неделимого организма. Они выдвигали понятие «народа», коллективного существа, которое делалось предметом почти религиозного поклонения. Индивид, по мнению Мишле (или Леру), способен обрести себя, познать свое предназначение, лишь осознав себя частью народного целого, слившись с тотальностью (нацией, человечеством). И только пророку дано право на отдельное, обособленное существование. Но такое решение вопроса о «спасении» отдельной личности устраивало далеко не всех. Несомненно, и Пушкин, как и, скажем, Жерар де Нерваль (см. подробно: Dann S. М. Nerval et le roman historique. Paris, 1981), основное внимание уделяли поиску своих собственных духовных «архетипов» в истории человечества; он искал в ней не столько «душу народа», сколько предшествовавшие воплощения своей собственной души. Религия сакрализованного народа не удовлетворяла Пушкина: он хотел увидеть в истории залог собственного индивидуального бессмертия. Поэт стремился не просто найти в прошлом священные мифы, но и соотнести их со своей собственной духовной сущностью, и потому в его произведениях история и биография сливались в единое целое. Описывая давно минувшие события, Пушкин отожествлял себя с одним из тогдашних деятелей и наделял его собственной душевной структурой. Добившись большей экспрессии, Пушкин все чаще использовал прием «маски», позволявшей множить авторское «Я» в галерее персонажей, в том числе и основателя ислама.
146 Warning W. Thomas Carlyle. N.Y. 1978. S. 94.
147 В романтическом понятии «гения» отразилась и ностальгия по утраченному единству с природой, и тяга к грядущей универсальности. Природа гения, по мнению романтиков, представляет собой синтез разума и чувственности. Именно гений является носителем особого «критического отношения», делающим возможным проверку рефлексии созерцанием и созерцания – рефлексией.
148 И в этом плане его оригинальность заключалась не столько в отходе от идей современников и предшественников, сколько в глубине познавательного опыта, в той силе, с которой он трактовал общеизвестные цели и стремления.
149 И американские трансценденталисты (Эмерсон, Торо, Теодор Паркер и др.) превратили поэта во вдохновенного демиурга, который в своем творчестве уподобляется Богу (см. подробно: Buell i.Literary Transcendalism. Style and Vision in the American Renaissance. Ithaca – London, 1973. P. 30). Вместе с тем, Христос и пророки (а «тем более» Мухаммед!) – это, в представлении трансценденталистов, всего лишь поэты. Их слова следует воспринимать не буквально, как сумму религиозной премудрости, а метафорически – как творение, исполненное поэтического вдохновения.
150 Но Пушкин неоднократно подчеркивал, что не только среда определяет человека, поэта, но и великий поэт «очеловечивает», преобразует историю (см. подробно: Лотман Ю.М. Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя. Л., 1981).
151 Вот русский образованный офицер, тщательно каждый раз подчеркивающий свою принадлежность к Европе, Цивилизации, Образованности, описывает посещение им лагеря персидского шаха: «Я привык к нашим стройным рядам однообразных палаток; к нашему классическому порядку в лагере, где на каждый шаг есть свой закон, на каждый клочок земли – своя форма; словом, я привык к нашей военной дисциплине, доведенной до совершенства, исполняемой с точностью и говорящей сама за свою пользу! Вообрази же себе мое удивление (книга написана в форме писем к оставшемуся в России другу. – М.Б.), когда я въехал в так называемый шахский лагерь: сперва меня поразил ужасный шум; солдаты в разноцветных, изодранных куртках и широких шальварах толпились перед палатками своих товарищей, обратившихся в маркитанов и обративших палатки свои в мелочные лавки! На ружьях висело мясо, на шамполах жарился шашлык» и т. п. (Н.М. Письма Русского из Персии, часть первая. СПб., 1844. С. 121–122. Курсив мой. – М.Б. Н.М. – псевдоним Н. Масальского).
152 И как раз восточномусульманскии менталитет, всего ярче и последовательней запечатленный в литературе, казался наиболее явственным подтверждением этой дискретности и индетерминированности. И Пушкину и другим представителям русской интеллектуальной элиты были хорошо знакомы такие, скажем, доминирующие оценки арабо– и персоязычной поэзии со стороны и западных, и русских ориенталистов. В опубликованной в видном журнале «Вестник Европы» за 1815 г. (ч. XXXI, № 9. С. 37) статье французского ученого А. Журдена «О языке персидском и словесности» говорилось: «Заслуги персидской поэзии состоят почти в одних мыслях, в подробностях, но не в составлении целого, и притом такого, которого бы части были искусно расположены и зависели бы одна от другой. Но сей недостаток есть общий всем восточным стихотворцам». J. Simondr de Simond в книге об арабской литературе, которую читал и Пушкин и отрывки из которой были помещены во все том же «Вестнике Европы» (1818, ч. CII, № 23), писал о Коране (как об образце арабской поэзии): «Коран написан был не по правилам риторики; беспорядок в мыслях, натурально происшедший от излишнего исступления, темнота, противоречия делают, что книга сия не имеет единства…» (Цит. по: Лобикова Н.М. Пушкин и Восток. С. 56. Курсив мой. – М.Б.). Известный русский востоковед, современник Пушкина, О.И. Сенковский видел прелесть и оригинальность древнеарабской поэзии «в непостижимой быстроте поэтической речи, стремящейся с силой горного потока, пропускающей все, что может быть дополнено воображением, набрасывающей одне только краски, широко, резко, как в театральной декорационной живописи, где художник старается единственно произвести эффект в целом, посредством искусного освещения…» (Сенковский О.И. Поэзия пустыни // Собрание сочинений. Т. 7. СПб., 1859. С. 175. Курсив мой. – М.Б.). Спустя почти сто лет другой исследователь укажет, что поэту – подражателю арабским стихам, приходится проделать трудную работу: «он должен служить одновременно двум господам… В подражании арабскому поэту приходится заботиться о сохранении европейской законченности композиции, очень редко встречающейся в арабских стихах… Кроме того, для близости к подлиннику поэт-подражатель должен так построить каждый отдельный стих, чтобы он был законченным целым и мог рассматриваться независимо от предыдущих и последующих стихов…». В восточной литературе строки нанизаны «как бы независимо друг от друга» и т. д. (Эберман В. Арабы и персы в русской поэзии // Восток. Кн. 3. М.-Пг., 1923. С. 116, 121. Курсив мой. – М.Б.). А в 1973 г. особенностью газелей Хафиза объявлена «нарочитая дезинтеграция стиха…» (Кессель Л.М. Гёте и «Западно-восточный диван». М., 1973. С. 48). Что такое «порядок» в европейском понимании этого термина, хорошо сказал некогда известный славянофил Иван Киреевский в своем отзыве о прослушанных им (в 1830 г.) лекциях Гегеля, Шеллинга и ряда других немецких философов: «Все факты, все частности, но в таком порядке, в такой связи, что каждая частность кажется общею мыслив» (Киреевский И.В. Полное собрание сочинений в 2 т. М., 1911. T. I. С. 25).
153 Обычно романтикам (в первую очередь немецким) приписывается (и это идет еще со времен Д. Лукача) прославление хаоса в противовес рациональному началу. Однако не стоит (см. подробно: Menhennet A. The Romantic Movement. L., 1981) трактовать это прославление однозначно, как безусловный разрыв с традицией Просвещения. Как достаточно убедительно показано в только что упомянутой книге, романтический «рационализм» вовсе не вредит «фантазии и любви», а прославление хаоса сочеталось в немецком (да и не только в нем) романтизме с культом Разума (vernunft), перешедшем к нему от того же Просвещения, а от него – к Гегелю и XIX веку. Послушаем А. Гелена: «Реальными предпосылками нашего духовного облика, – пишет он, – являются два века Просвещения. Даже все иррационалистические контртечения… развиваются в пространстве, завоеванном Просвещением» (Gehlen A. Die Seele imtechnisenen Zeitalter. Hamburg, 1975. S. 75). Впрочем, не будем ограничиваться лишь этими выводами о романтизме, самая суть которого состоит в непрерывном «выхождении за пределы», в развоплощении объектов познания, в развеществлении исторических эпох. Вопрос о подлинной сущности романтизма – и в частности, его ориентофильства, – настолько сложен, что требует серии исследований его конкретно-исторических особенностей и типологических признаков. Но хотелось бы здесь же подчеркнуть целесообразность рассмотрения романтизма вообще как самодостраивающейся системы, в качестве таковой стремившейся подчинить себе все остальные элементы культуры, или, как выразился по иному поводу К. Маркс, «создать из них еще недостающие ей (системе. – М.Б.) органы» (К. Маркс u Ф. Энгельс. Соч. Т. 46. Ч. I. С. 229). Было бы наиболее важным обрисовать структуру романтизма, которая на высших ступенях развития этого движения выступала не только системообразующим, но и системосохраняющим фактором.
154 Таким образом, оно, это мышление, не было монополией одних лишь либералов и прочих «западников», только на Западе искавших модели прогресса и будущего (см. подробно: Leontovitsch V. Geschichte des Liberalismus in Russland. Frankfurt-a-M., 1957).
155 И все-таки существовала глубинная связь идеи романтизма с «рационалистической метафизикой» конца XVIII – начала XIX в., с проблематикой натурфилософии, философии истории и теории познания того времени. Так, столь видного представителя раннего немецкого романтизма, как Novalis, нельзя считать сторонником и апологетом идей «творческой спонтанности», «творческого озарения», «интуиции гения» и т. п. В своей эстетической теории он выдвигает культурно-созидательную функцию искусства. Да и вообще романтизм – «движение к новой рациональности, которая не только не исключает чувственность, но для которой освобождение чувств становится высшей потребностью» (HaslingerJ. Die Astetik des Novalis. Kônigstein, 1981. S. 24). Именно этим аспектом эстетической программы романтизм отличается от всех других концепций рефлексии в искусстве, логическим завершением которых стал натурализм. С точки зрения Новалиса, история, например, является процессом взаимного развития разума и нравственности, процессом становления человека, целью которого является единство чувственности и рассудка (Там же. С. 28).
156 Перед нами, очевидно, еще одно проявление, как выражается Jaeques Derrida, «Трансцендентального Означаемого» плода «западной логоцентрической традиции», стремящейся во всем найти порядок и смысл, во всем отыскать первопричину (или, как чаще выражается Деррида, навязать смысл или упорядоченность всему, на что направлена мысль человека). Для Дерриды – как и для Ницше, на которого он часто ссыпается, – это стремление обнаруживает присущую западному сознанию «силу желания» и «волю к власти». В частности, вся восходящая к гуманистам традиция работы с текстом выглядит в глазах Дерриды как порочная практика насильственного «овладения» текстом, вызванного ностальгией по утерянным первоисточникам и жаждой обретения истинного смысла. Понять текст для них означало «овладеть им», «присвоить» его, подчинив его смысловым стереотипам, господствовавшим в их сознании. Наш фактический материал показывает, что чтение в России XIX в. восточных произведений – или произведений о Востоке, созданных европейскими авторами, – действительно влекло за собой активную их интерпретацию читателями. Каждый читатель овладевал данным произведением по той или иной причине и налагал на него определенную схему смысла. Миллер замечает, – вслед за Ницше, что самосуществование бесчисленных интерпретаций любого текста свидетельствует о том, что чтение никогда не является объективным процессом обнаружения смысла, но вкладыванием его в текст, который «сам по себе» не имеет смысла (HJ. Miller. Tradition and Difference // Diacritiesm. Baltimore, 1966. V. 2, № 4. P. 6, 12).
157 Опять-таки и в этом плане очень показателен Иван Киреевский. Вот как энтузиастически он говорил о роли «просвещения» (т. е. западогенного феномена) в истории России: «Начало девятнадцатого столетия в литературном отношении представляет резкую противоположность с концом восемнадцатого. В течение немногих лет просвещение сделало столь быстрые успехи, что с первого взгляда они кажутся неимоверными. Кажется, кто-то разбудил полусонную Россию» (Киреевский И.В. T. II. С. 15). Борясь с «иностранными влияниями», страстно ратуя за самобытное развитие русской национальной литературы (см. подробно: Сахаров В.И. От «движущейся эстетики» к литературной теории // Контекст. 1980. М., 1981. С. 171 и след.), Киреевский понимал «мировую литературу» (она же – «заграничная» и «европейская») как естественное соединение национальных литератур, имеющих одну основу. Как бы он ни относился ко многим явлениям «заграничной литературы», этот ярчайший теоретик славянофильства тем не менее не видел ничего принципиально чуждого в ней русской литературе, которая также есть порождение общеевропейских культурных ценностей. Для Киреевского вершиной и абсолютным мерилом стиля являются «классические творения Гомера, Гёте, Пушкина – гармоничных творцов, добившихся равновесия, соответствия стиля и образа…» (Сахаров В.И. От движущейся эстетики… С. 187. Курсив мой. – М.Б.), т. е. все то, что подходит под понятия «Порядок», «Симметрия», «Равновесие», «Завершенность» и прочие атрибуты Европейской Цивилизации.
158 Ойзермаи Т.И. Понятие торжества и проблема личности в философии Гегеля // Философские науки. 1981, № 6. С. 77.
159 Соответственно затруднялась задача установления большего взаимопонимания между региональными культурами, несмотря на – искренние, быть может, – попытки создания того, что можно, говоря современным языком, назвать информационными и коммуникационными полиэпистемологическими системами. Анализ и дипломатических документов, и специальной литературы о Востоке показывает, что нередко информация, изъятая из культурологического контекста, теряла свое значение. Партнеры (т. е. в нашем примере – Европа и мусульманский Восток), встретившиеся в процессе коммуникации, далеко не всегда отдавали себе отчет в том, что они руководствуются различными эпистемологическими установками, и стремились представить противоположную сторону неразумной, алогичной, намеренно вводящей в заблуждение, неискренне, неэтичной (Оценку этих ситуаций см.: Woodward (ed). The Mythos of Information // Technology and Postindustrial Society. London and Menley, 1980. P. 40).
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.