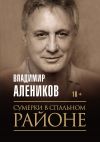Текст книги "Демоны Хазарии и девушка Деби"
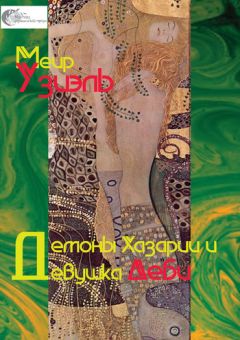
Автор книги: Меир Узиэль
Жанр: Боевое фэнтези, Фэнтези
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 28 страниц)
Глава восемьдесят первая
Какого наказания они заслуживают? – думал про себя царь Хазарии, ощущая себя подобно усику растения, который не нашел, за что зацепиться, и обвился вокруг самого себя. Что, в сущности, можно сделать? Понятно, что парни должны были исполнить свой долг, но что они смогли бы сделать против этого всесильного беса? Молоды. Не подготовлены. Без достаточных знаний. В этом отношении вина графа весьма тяжка. И даже если бы они были подготовлены, все равно были бы бессильны против этого дьявола.
Постановление суда и мера наказания, в общем-то, оформились у царя в тот же вечер. Но даже после того, как они забылись, в тот вечер настроение его было отвратительным. Он не спал всю ночь из-за истории с воронами. Он знал, что никто в мире не может противостоять бесовскому колдовству. Господи, сколько трудностей возникает в этом простом деле управления империей. Откуда они возникает, бесконечные эти трудности, и невозможно остановить их злокачественный рост?
Против большинства колдовских затей есть достаточно быстрые противоядия. К примеру, против потери имени, или колдовства старухи. Благословенной свадьбой или рождением ребенка отменяют проклятия такого рода. Но кто спасет ворон и вернет этим чудесным существам человеческое обличье. Царь вздыхал, так, что позванивал колокольчик, и евнухи вскакивали в тревоге, думая, что это царь зовет к себе женщину. Но уже не одно поколение прошло с тех пор, как звонки и их смысл были забыты, но их слабый отзвук остался в сознании евнухов, и они пытались истолковать неуловимые исчезающие звуки, и тоже не спали в ту ночь.
Утром царь встал с ощущением, какое бывает после того, как съешь капусту, политую испорченным уксусом. Одеваясь, он передал указание прислуге.
Он не вернется в судебный зал. Только один из царедворцев, молодой человек с гладким лицом, прочел с листа решение и наказание.
Виновата вся группа. Все будут наказаны. Трудиться им конюхами в общественных конюшнях всю их оставшуюся жизнь.
Ханан, у которого парализованы ноги, освобожден от наказания. Но если он чудом выздоровеет, понесет то же наказание. А пока пусть остается в ешиве и продолжает занятия.
Давид, выращивающий пчел, создающих клетки в виде шестиконечных звезд, получает отсрочку на шесть лет. И если он преуспеет и вырастит пчелиный рой, который сотворит калачи, полностью покрытые такими клетками, этим будет помилован.
Остальные, имена которых были преданы проклятию, получат новые имена: Пасал, Каплан и лысый Каплан. Они будут выполнять в конюшнях самые тяжкие работы до их последнего дня. Ахава следует поймать и совершить над ним правосудие.
Каждый из осужденных понимает, что наказание его будет отменено, если он отыщет детей, и будет бороться с бесом.
Речь властителя, с Божьей помощью, за исключением формулировок и подписи под судебным решением и мерой наказания, не были написаны на языке, который мы сегодня понимаем, а на языке хазарского правосудия, сложном с оборотами древнего хазарского языка. В таком документе каждая вторая строка должна была быть цитатой из Священного Писания. Цитаты эти должны соединяться в цепочку и быть связанными с разбираемым делом, ибо без такой связи цитаты эти тотчас же выделяются из текста, как подозрительный взгляд. Всю ночь работали специалисты по формулировкам и знатоки священного текста, чтобы выстроить судебное решение, и потому обвиняемые многого не поняли, только – главную суть. Наказание – это общественные работы на конюшнях. Но тем, которые продолжат борьбу с бесом и освободят детей, наказание будет отменено.
Тита этого не поняла, и вообще не поняла ничего. Она лишь потрясенно оглядывала окружающее ее великолепие. Влюбилась в царя и оставила прежнюю любовь к графу. Но не понимайте это превратно: она по-прежнему очень любила Пасала. Она удивлялась рассеянной его улыбке, обращенной к ней, и тому, как он прячет взгляд при произнесении приговора. На осужденных лились потоки милосердия членов семьи Каплан, размышляющих над тем, как найти для двух Капланов конюшню полегче. Можно при помощи связей сделать наказание более терпимым.
Всё это слышал Пасал, видя, как родственники обнимают Каплана и лысого Каплана, сострадают им и пожимают им руки.
Он обошел всю эту компанию, вообще не обращающую на него никакого внимания и подошел к Тите.
«Ну», – спросила Тита, и голос ее дрожал. Он была убеждена, что потеряла своего Песаха.
«Наказали нас работами в общественных конюшнях», – объяснил он ей.
Она все еще не поняла, но ясно было, что это не смертный приговор. Она уже знала, что у евреев нет смертной казни, но облегчение было огромным. Это чувство подобно тому, которое испытываешь, держа в руках визу в Соединенные Штаты, но уже после проверки паспортов, таможни, и негра, который спрашивает тебя, везешь ли ты какие-либо продукты.
«Ты едешь со мной? – спросил Титу Пасал, – мы сможем жить вместе. Теперь я возьму тебя в жены». Этим он дал ответ на давно мучающий ее вопрос и добавил: «Это не будет особенно прекрасная жизнь, будет недоставать многого, но мы управимся»
Будет недоставать, рассмешил он ее. Эти хазары не знают, как им хорошо, но Тита, вся Тита, знает насколько хорошо ей. И она крепко-крепко обняла Песаха, внезапно вспомнив его имя. Кошмар кончился.
Глава восемьдесят вторая
Ахав пробыл всю зиму в Болгарии. Добирался по снегу из села в село, и конь его иногда погружалась в сугробы по колено. Он проезжал между темными елями, слыша завывание волков, беспокоясь, что явно преувеличил это преодоление в одиночку таких расстояний. Однажды даже взобрался на громадный дуб, половина ствола которого и ветви были покрыты толстым зеленым слоем мха. Но волчья стая к нему не приблизилась, и он успел добраться до очередного села.
Пил Ахав горькие, щиплющие горло, напитки болгар и сходил с ума по Деби. Не переставал о ней думать даже на миг в бодрствовании. Удивлялся тому, как можно столько времени думать о ней. И особенно его сердило то, что он пытался отогнать мысли о ней попытками вспомнить мгновения, когда он целовал губы и ласкал грудь очередной женщины, отдававшейся ему, и ничего припомнить не мог. Так, собственно, чем он обладал, если даже не владел собственной памятью? Медленно-медленно он даже стал забывать лицо Деби, но тоска по ней его не оставляла.
Он ничего не знал о том, что происходило в Итиле. Ни о суде, ни о приговоре. Оба Каплана стараниями их двоюродных братьев были направлены в конюшни Крымского полуострова, около моря, между пальмами, которые произрастают там, в теплом климате. Это была обособленная, вблизи порта и города, маленькая конюшня, в которой было небольшое число лошадей, ослов и мулов. Ее построили на глинистом основании, и в ее фундаменте на счастье была заложен перевод одной из книг Священного Писания. Работа не была трудной – выгрести навоз и дать животным сена. Там оба Каплана познакомились с женщиной, традицией которой было прибирать к рукам всё, что вокруг есть, и она получала деньги от тех, которые платили, и разнообразила их еду не только жареными блюдами, но и изделиями из теста. Песах женился на Тите еще в Итиле, до отъезда. Отец главы ешивы в Мурме сам провел церемонию женитьбы. Ворон пока не спасли, и они остались во дворце по указанию царя, чтобы еще и еще делать попытки снять с них колдовство силами раввинов при царском дворе. Были привезены во дворец колдуны из дворца Багдадского халифа.
«Трудитесь неустанно», – сказал царь колдунам, раввинам, звездочетам, которые слетелись мгновение ока во дворец, услышав о том, какие деньги выделены царем на это дело. «Прислушивайтесь к вашим снам и все время ищите способ вернуть этих ворон на места их проживания, и в человеческом облике». Царь тяжело вздохнул и ушел в глубокой скорби, запахиваясь в свою мантию.
Песаха послали в небольшой город-порт на берегу Азовского моря. Это была огромная конюшня, в которой содержались битюги-тяжеловесы, и работа с ними забирала все силы. Недалеко от конюшни он построил из обрезков кожи и потрескавшихся досок шатер, где они жили с Титой, и к вечеру, после тяжкого рабочего дня, Песах возвращался в бессилии.
«Лучше иди искать детей», – сказала ему Тита в один из дней.
Он посмотрел на нее с большим удивлением. Что с тобой? Ведь ясно: если я пойду, то уж не вернусь. Ты останешься одна, дура. О чем ты говоришь? Что ты понимаешь? Все вокруг большие умники и великие герои. Для того ли я взял себе жену, бывшую служанкой и проституткой, извлек из груды дерьма и отчаяния, чтобы она начала меня учить – что делать и что не делать? Рука его так и чесалась дать ей затрещину. Она ожидала этого, но удар не последовал.
В конце концов, они обнялись в ту ночь, и он получил наслаждение и попытался забыть сказанное ею. Порции еды в ту неделю были совсем небольшими, ибо Песах был наказан за неряшливую чистку коней. Вдобавок он получил сильный ожог на левой руке от раскаленной подковы в кузнице. Ожог превратился в гнойную рану.
И Песах пытался найти успокоение в воспоминаниях о далеких чудных днях детства на песчаном берегу Хазарского моря, в припоминании рассказов на сон грядущий матери, особенно одного – о трех сестрах. В окошко их дома тайком подглядывал царь и услышал их беседу, сопровождаемую смехом. Каждая делилась своей мечтой. Одна сказала, что хотела бы выйти замуж за военачальника и странствовать с ним по крепостям, где много красивых всадников. Вторая сказала, что хотела бы выйти замуж за министра финансов и разъезжать с ним, занимаясь сбором налогов, и так удостоится большого богатства. Самая же молодая сказала:
«Зачем мне военачальник или министр финансов, почему бы мне не выбрать в мужья самого царя?»
И тогда все три сестры были препровождены во дворец. Старшую сестру царь отдал в жены военачальнику, среднюю – министру финансов, а младшей, красавице, сказал: «А ты, очаровывающая всех красавица, просила себе в мужья царя, вот я и прошу тебя стать моей женой и соучастницей в управлении страной».
С каким наслаждением вспоминал Песах голос матери, рассказывающей ему эту историю по вечерам.
Иди, иди на поиск детей, – говорила Тита про себя, – иди, иди, это твой шанс – жить. Даже если ты умрешь, ты останешься в моей памяти, и я буду ее хранить. Если останешься в этой конюшне, так или иначе умрешь через еще пару лет, ибо сердце твое окаменеет или разорвется. Мало еды, бессонница, лягание лошадей, солнце и колючки, зубная боль вконец изведут тебя. Особенно, укусы злого мула, которого как ни корми и не пои, и проявляй к нему доброту, он тебя все равно укусит в тот момент, когда ты зазеваешься, мстя тебе за свою мерзкую судьбу и за невозможность наслаждаться тем минимумом, который дал Бог каждой твари за её труд.
Но Песах уже не слышал этого. Сколько раз мы проигрываем, не слыша того, что произносится про себя. Сколько раз хочется биться головой о стену из-за того, что не слышал сказанного про себя. Жаль, что Песах не слышал того, что думала про себя Тита, какую тягу она испытывала к жизни общины, что удивляло ее саму, быть активной в еврейской жизни, совершать нечто великое, проявить мужество, и все это указывало ей направление пути в ее жизни.
Склоняется Тита в своем доме над бумагами, и ткет в своем воображении грандиозные планы. Сладким голосом приказывает несметным воинствам «Вперед и да осенит вас успех!». И они, лишь услышав ее голос, откликаются эхом и пускаются вскачь, несут грабеж и смерть всем врагам, и возвращаются к ней с головами врагов на остриях копий И она распределяет урожай каштанов с каждого дерева – по тридцать пять килограмм – с плантаций в сорок, нет, четыреста дунамов – героям и рыцарям.
А пока она выползла из-под Песаха, смыла с себя все, что надо было смыть, и попыталась накрыться ветхим рваным одеялом. Клопы и кончики соломы из ветхого матраца кололи и кусали ее. Свернувшись в калачик, она бормотала заученный ею наизусть сто десятый Псалом Давида, состоявший всего из семи строк, ставший самым ее любимым. Строки вливали в нее непонятную силу:
«…господствуй среди врагов Твоих…» И еще: «Совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной».
Но особенно гипнотизировали ее непонятные ей слова: «Из чрева прежде денницы подобно росе рождение Твое».
И когда Тита произнесла эти слова «Из чрева прежде денницы подобно росе рождение Твое», сердце охватила тоска и словно бы оборвалось что-то в животе, ибо до сих пор Тита не понесла, хотя ей было уже почти семнадцать лет.
Глава восемьдесят третья
Обращаюсь к своим читателям.
Эта книга вовсе не о вечных неудачниках и пустозвонах.
Эта книга о гигантской Хазарской империи, самой большой империи, которая когда-либо была у евреев. И в центре – ее столица Итиль, цветущая и полная изобилия, вечная столица имперского иудаизма, которая исчезла вчистую в урагане забвения. Эта книга о деяниях и событиях, свалившихся на шестеро юношей, которые должны совершить большие дела, но еще до сих пор не совершают их, замыкаются, падают и проигрывают. Но не об этом я намеревался писать, и не так будет продолжаться книга. Этого просто не будет.
Итак, год 863 год новой эры по исчислению Римской империи. Рим погружен в грязь и гниль застоявшихся вод и отбросов. Влажные скользкие проселочные дороги тянутся между огромными зданиями.
Хазарская империя – в апогее своей силы – обширна, богата, уважаема. Сто лет, примерно прошло со времени обращения ее жителей в иудаизм. Она зиждется на евреях, родившихся евреями от родителей евреев. И они, как младенец, знают, к груди какого мрака припасть и питаться. От всех окружающих стран они отняли территорию и присоединили к своей империи, дающей жителям широкие возможности процветания и изобилия.
Одиннадцать миллионов евреев было в Хазарии, колоссальное число для империи тех лет, тысячу сто лет назад, когда мир, в общем-то, был мало заселен. В Константинополе тогда было всего полмиллиона жителей, а речь идет о столице Византийской империи, наследнице Рима и продолжательнице его неохватной и необъяснимой мощи.
Благодаря Хазарской империи, безопасность и уверенность в своем будущем евреев была безграничной. Даже в далекой Испании евреи были в безопасности, идущей от Хазарии. Когда спрашивали их: «Ничтожные евреи, есть у вас царство?» – Они пересказывали слухи, идущие из Хазарии.
Песах был сильным и мужественным мужчиной. Не был большим интеллектуалом. Всегда предпочитал игру в футбол чтению книг Разговор его был прост и наивен. Но он был нормальным человеком. И вовсе не был виновен в том, что внезапно свалились на него силы ада и встали на его пути. И не надо его обвинять в том, что у него опустились руки, что ужасное бессилие овладело его душой, что он считает минуты каждый день, а они не проходят. Он работает от зари до ночной тьмы, и работа не кончается и не закончится, и начальство набрасывается на него с криками.
В Хазарии запрещено бить, но есть другие наказания, наносящие боль телу и душе, уничтожая их, и такие наказания он вынужден выдерживать. И никогда он не преуспеет. Просто невозможно преуспеть, выполняя невыносимые требования управляющего конюшни. Он связывает руки Песаху, отбирает у него все самоуважение.
И ничего нельзя было изменить, ибо на управляющего тоже оказывали давление, и он с трудом их выдерживал.
Но следует сказать, что управляющий был негодяем. Это частично шло от его характера, а частично из прошлого опыта, который научил его, что послабление работникам конюшни может ему дорого обойтись.
Только по субботам Песах мог немного отдохнуть. И он мылся горячей водой, любезной предоставляемой ему врачом конюшни, получал немного вина и калач, и мог спокойно поужинать со своей молодой женой.
Но скотину надо кормить и в субботу, и он шел поздно в конюшню вместе с Титой, старающейся ему помочь. Они открывали склад с кормом, видели разбегающихся по норам мышей, брали ведра, наполняли их зерном из мешков, и высыпали в корыта для корма животным.
Дыхание Песаха становилось тяжелым от пыли и крох, забирающихся в легкие. Затем они приносили воду, чтобы напоить животных. И так до до пятнадцати вёдер сжирали битюги и крупных размеров мулы. Примерно, к полудню завершался корм и водопой, и они возвращались в свой шатер, обедали, отдыхали, молились Воздух и покой субботы облегчал дыхание. И если бы еще было немного больше еды, суббота могла бы быть чудным днем.
И тут, в один из дней, на конюшне появился Ахав.
Глава восемьдесят четвертая
Пришел не один.
И вовсе не с бессильной, поникшей головой.
Он пришел во главе воинства. Их было девяносто слепых воинов, ведомых полуслепыми.
Они шли за ним шестью змеящимися шеренгами. И в каждой шеренге – четырнадцать слепых, возглавляемых командиром, слепым на один глаз.
Они остановились в поле, напротив конюшни. Сбросили рюкзаки, и поставили небольшие палатки, и Ахав вошел в конюшню и обнял Песаха.
«Ай», – вскрикнул Песах, когда Ахав сжал его раненую руку.
«Господи, Боже мой, что с тобой случилось?» – сказал Ахав, увидев его опавшее лицо.
«Ерунда, я просто неважно себя чувствую, – сказал Песах, – это пройдет. Познакомься с моей женой Рут».
«Зовут тебя – Тита, верно? – сказал Ахав. – Слышал о тебе в Итиле, знаю обо всём».
Ввалился управляющий и сердце Песаха ушло в пятки. «Я должен закончить работу», – сказал он, оборвав разговор с Ахавом, схватил вилы и демонстративно стал разбрасывать сено. Тита обменялась многозначительным взглядом с Ахавом, мол, ты, конечно же, все понимаешь.
«Когда он кончает работу?» – спросил Ахав.
«С последним лучом заката, – ответила Тита. – Что же ты слышал о нас? Я тоже слышала о тебе, а теперь, в конце концов, вижу тебя. Как это случилось, что тебя не судили? Не смогли поймать?»
«Я иду освободить детей, – сказал Ахав негромко, но с убежденностью, от которой веяло силой. Чудные голубые глаза Титы засверкали. Ахав был потрясен. Это было мгновение, когда он забыл Деби.
«Я возвращаюсь к моим людям, к слепцам, – сказал Ахав, – вечером приду к вам. Ничего не готовые, я принесу ужин. Не поверишь, как эти слепцы умеют резать салат и делать тосты. Попробуешь кашкавал – это вкуснейшая болгарская брынза. Будут еще разные блюда».
Вечером он пришел с четырьмя слепцами, которые несли большие тут же на месте сработанные подносы с едой, и запах варёного риса и лука шел от салатов. На трех деревянных тарелках лежали морские рыбы трех сортов, зажаренные на углях, и в них были воткнуты жесткие листья приправ.
«Разрешите мне хотя бы подать хлеб», – сказала Тита и принесла сухие ломти, которые при пережевывании скрипели от песка.
Слепцы ушли. Тита и Песах ели, и казалось им, что вернулись давние чудесные дни. Ахав рассказывал о Деби, о том, как оставил хуторок пчеловодов, в общем, обо всём, что мы уже знаем.
Звуки, издаваемые музыкальными инструментами, ритм ударника и слова песни донеслись из лагеря слепцов.
Извозчики и грузчики, лоцманы из порта, таможенники, овощеводы и зеленщики, те, кто выращивал кормовые травы, художники-ремесленники, рисующие на фарфоровых чашках голых девиц, в общем, все, живущие вблизи конюшни, бежали на звуки музыки. Пришли ухоженные нарядные женщины, в облике которых было что-то такое, в чем нельзя ошибиться, и что связывало их с делом сбора пожертвований. И поле, освещаемое пламенем костров, собрало у каждого костра круг слушателей-хазар, изумленных тайной притягательностью болгарских голосов.
Не удивительно, что на следующий день слепцы в обед ели до отвала телятину. Ахав рассказывал о них.
Позвал к себе царь Хазарии царя болгарского, чьи владения простирались у большой реки, и приказал ему помочь хазарам в сражениях с варварами-печенегами, соседствующими с ними на востоке. Болгарский царь Узия послал своего брата Омри в бой. Князь Омри был испытанным в битвах бойцом и владел большой коллекцией кубков для вина. Вы, конечно, знаете, что я имею в виду, говоря о такой выставке кубков, напоминающих головы и говорящих о тех, кого князь победил.
Один из таких кубков византийского Кесаря находился в собрании кубков хазарского Кагана в Итиле. Это был подарок Омри, и оба из этого кубка напились до бесчувствия. Но тогда печенеги его одолели. Омри погиб. Царь печенегов велел ослепить двенадцать тысяч пленных болгар и под командой полуслепых отослал царю Узии.
Узия умер через три дня после возвращения пленных, которые тянулись через степь змеевидной шеренгой. Каждый последующий держался за предыдущего слепца, а первый – за командира, ослепленного на один глаз.
Много было сложено песен в Приволжской Болгарии о том мгновении, когда дети первых к границе сел увидели на полосах заснеженных полей, похожих на их пеленки, шеренги пленных слепцов, которые возвращались домой.
«Целую зиму я жил среди моих друзей-болгар, – рассказывал Ахав, – переходил из села в село. Давали мне небольшие должности в знак уважения ко мне, как хазару. Однажды попросили меня повести небольшое войско слепцов на лагерь взбунтовавшихся охотников, расположенный в лесах. Охотники начали варить самогон, отказывались платить дань лисьими и медвежьими шкурами и головами кукушек, ради чего они и были посланы в лес. Обо всем этом стало мне известно в ночь перед выступлением. Не все из них стали ночными бойцами, о которых потом слагали легенды. Только четыреста из них. Остальные рассеяны по сей день по селам, вяжут корзины, ткут ковры, которые очаровывают зрителя сочетанием красок. И если он всмотрится более внимательно в ковер, то увидит целые, встающие перед его взором, изумительные миры. Совсем немного слепцов было настроено воинственно, не сидело по кухням и не судачило о том, кто из женщин забеременел, а кто нет, кто гомосексуалист, а кто нет. И эти слепцы, не утратившие боевой дух, создали небольшие отряды воинов, которыми командовали полуслепые, которые тогда выводили их из плена. Я и по сей день не понимаю их умения ночного боя, но они обладают колоссальным преимуществом во тьме, в тумане, в буре, когда нормальный человек ничего не видит, а они видят мир, как и видели всегда. Они обладают умением пробраться в любое место, и никто этого даже не почувствует.
Вышел я с двумя отделениями слепцов в лес. Мне надо было четко и ясно объяснить, что я вижу и чего я хочу. Слепцы явно увиливали в ответах. Отвечали небрежно: «Да, да», и часто даже не оборачивались ко мне, когда я с ними разговаривал, словно бы не знали, где я нахожусь, хотя я уверен, что они это отлично знали. Днем они дремали. Ночью же проникли во все места, как летучие мыши, унюхавшие, где созрели финики на пальмах. Через неделю они попросили меня отдать последние приказания и дать благословение. По правде говоря, я не знал, какие еще дать им приказания. Они сами разработали планы, исходя из потрясающих возможностей. Но, все же, приказал им поймать и привести всех охотников. В общем, намеренно дал несколько туманный приказ и благословил их именем империи сынов Израиля, властвующей над степями, лесами, реками и морями».
Ахав не рассказал о чувстве ответственности командира, дающего приказы людям, окружающим его и беспрекословно выполняющим эти приказы, о том, как сделал умело и быстро всё то, что раньше терпело провалы, отступая перед катастрофами, бегством, болью, когда никто не знает, как этому воспрепятствовать.
Слепцы растворились в ту ночь, тьма которой была – хоть глаза выколи. Моросил дождь. Наутро Ахав нашел у своей палатки всех взбунтовавшихся охотников, связанных по рукам и ногам, и на лицах их было выражение внезапно свалившейся на них неизвестно откуда катастрофы.
«Командир!» – склонили перед ним голову слепцы, вытянувшиеся строем на утренней поверке, когда он вышел из своей палатки, и глядя прямо на него, меряющего перед ними шаги вдоль их рядов, выстроившихся в виде буквы «п» точно, как по линейке. А в середине буквы «п» лежали все связанные охотники. Ахав понимал, что от него ожидают хвалы, и произнес краткую речь, видя, как изливает, подобно бальзаму, масло и молоко в души слепцов. Их улыбки на кончиках губ, их выражение вслушивающихся в его голос, как в самих себя, придали ему еще больше сил. А ведь он уже думал, что внутренне мертв. Это были удивительные силы, возникшие от ощущения, что он может привести к душевному подъему этих людей. С того дня эти слепцы накрепко вошли ему душу. Он совершил с ними еще несколько операций по поимке заложников, и всегда возвращался победителем.
От разговору к разговору, постепенно, услышали слепцы от него о дьяволе Самбатионе и захваченных им детях, и начали намекать на то, что готовы участвовать в этой явно необычной операции. Предлагали планы, затем отметали их, но не давали ему прохода до того, что дело дошло до прямых требований. Это была ватага слепцов, жаждущая боя, и ничего в их жизни не виделось им более заманчивым, чем воинская слава, заранее обреченная на неудачу.
Но Ахаву не нужно это подталкивание его солдат. В течение той зимы созрело решение, превратившееся в некоторую реальную и весьма ощутимую мощную силу в его сознании. Он займется сбором необходимой информации, подготовит необходимое оружие, документы для перехода границы, достанет книги о бесе, карты дорог до самого Рима. Всё это даст ему еще большие силы. Кое-что из этого рассказал слепцам, и они сказали ему, чтобы он даже не мечтал выйти в путь без них.
«Но как я смогу сдержать вас на этом пути?» – задавал вопрос Ахав, свидетельствовавший о том, что он все же сомневался в твердости духа и силе веры.
Сто восемьдесят слепцов соревновались за право выйти в путь вместе с Ахавом. «Возьму только пятьдесят, и ни одним больше», – сказал Ахав.
Но ему не давали покоя раздирающие душу просьбы слепцов, мольбы их матерей, просящих дать их ослепленным сыновьям хотя бы еще шанс в их жизни выйти в бой. Болгарский царь оказывал давление, гарантируя Ахаву драгоценные камни лазурита и бирюзы в любом требуемом количестве для содержания воинства на дорогах и на долгое время. И Ахав согласился взять еще девяносто воинов.
«Мы вышли в путь в месяце Таммуз, – продолжал Ахав, – церемонии расставания были долгими, их окружали девушки в юбках из цветных лент, их кормили самыми изысканными блюдами и поили самым лучшим вином, не говоря уже о лучших девицах легкого поведения. Мы плыли на юг до Итиля. Удивителен путь к Итилю по Волге с севера. Внезапно река разделяется на целый ряд русел, многие из которых покрыты большими листьями ирисов. Сторожевые башни и военные гарнизоны охраняют этот путь к столице. И кроме того, это было прекрасно снова быть среди своих, евреев, после столь долгого отсутствия. Я уже не был неоперившимся и еще бескрылым птенцом, пытающимся взлететь.
Новости о войске слепцов были не из тех, которые можно скрыть, но я был удивлен, открыв для себя, что в Итиле никто не знал, кто я. Только здесь, из разговоров в харчевнях по берегам дальних каналов, в тех кварталах, где я проживал до отъезда в страну болгар, мне стало известно о суде, и сказано о том, что я нахожусь в поиске. Поверьте мне, у нас большой бардак, если я сумел войти в Итиль да еще с таким шумом, и никто не проверил, кто я, мое имя и удостоверение личности. Не знаю почему, но до сих пор я не тороплюсь в Судебную палату на Дворцовом острове. Вообще-то, я знаю почему. Хотел еще немного покоя перед тем, как отдать свой долг, хотел знать побольше о деле.
Рассказали мне о вашем наказании, о том куда послали Гдадияу и Тутияу. Черт возьми, невозможно запомнить их имена, не странно ли? И твое имя, Песах, забыл и лишь недавно вспомнил. Что бы не случилось, эти ловкачи из семьи Каплан, всегда умели устраиваться. Сказали мне, куда вас послали. И я решил перед тем, как принять окончательное решение, поговорить с тобой, Песах. Я хочу знать всё, что случилось с вами, перед тем, как я вернусь в Итиль, а затем возьму на себя операцию по освобождению детей. Воины мои хотели убить меня, «Что ты продолжаешь крутиться вокруг самого себя», – сердятся они на меня, – решай, выходи, хватит», но я не знаю, я еще не знаю».
Многого он еще не знал. Он не знал, что если бы задержался еще на три дня в Итиле, он бы ничего не услышал от Песаха, ибо Песах умер через три дня после их встречи от столбняка. Он случайно упал на вилы, которыми разбрасывал коням корм. Через некоторые время начались у него судороги, сгибавшие его в дугу. Такая вот жестокая бессмысленная смерть. Такой глупый, лишенный всякой логики и цели конец, завершивший жизнь, начавшуюся так прекрасно, чудным детством, удивительными играми на везение в подбрасывании монет, когда мальчиком Песах побеждал ребят, которые были намного старше его.
Похоронили Песаха как-то незаметно и тихо. Сопровождало его только несколько работников конюшни, управляющий, хорошо знающий свои полномочия, и Тита, оплакивающая навзрыд второго в ее жизни мужчину, который оставил ее и уплыл в дальние миры. Первый мужчина вознесся в небеса идолопоклонников, которых она никогда не видела, а второй возносится в иудейские миры, которые никто не видел и ничего о них не знает.
Она ушла в их осиротевший шатер, не зная, что делать, и глаза ее были сухи.
«Я, наверно, поеду искать родителей Песаха, – сказала она назавтра Ахаву, – у него есть брат. Надо решить, как быть с браком, когда брат замещает мужа. Да я и не знаю никого другого в Хазарии».
И Ахав, борющийся с самим собой, чтобы не показать чувство, усиливающееся при виде овдовевшей одинокой Титы, только сказал: «Отсижу с тобой семь дней траура, до того, как ты уедешь».
Еще до отхода ко сну, укрепилась в душе Титы уверенность, что Ахав ее не оставит. И потому, что мужчины выглядят потерянными в моменты опасностей для жизни, Ахав отныне будет делать то, что она скажет, и не будет больше питаться от сосцов горечи и яда неразделенной любви.
С этим твердым решением она заснула. Ее вскрикивания со сна всю ночь мешали паре ослов, и они с утра с красными от бессонницы глазами поволокли телегу с отбросами из детских яслей.
Ничего, ослы. Недолго еще будет Тита в этой конюшне. Она встанет и отправится с Ахавом в землю Израиля.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.