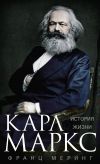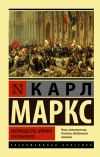Текст книги "Карл Маркс. Любовь и Капитал. Биография личной жизни"

Автор книги: Мэри Габриэл
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 47 (всего у книги 69 страниц)
У Тусси был большой опыт написания оправданий. Русскому переводчику «Капитала» она писала: «Дорогой сэр, Папа так перегружен работой… Он просил меня передать вам… он писал большую часть ночи и весь день не выходит из своей комнаты..» {58}
И она всегда искренне доброжелательна. Обращаясь к Либкнехту «моя старая добрая Библиотека», она описывает страдания беженцев (саркастически добавляя: «Хорошо бы, они все-таки украли часть миллионов, в присвоении которых их постоянно обвиняют») и свои собственные трудности:
«Я узнаю вас везде и всегда, хотя уверена, что вы не узнаете меня. Люди, видевшие меня 2 – 3 года назад, едва узнают меня… Поцелуйте всех домашних от меня… Я должна извиниться за ужасный почерк, но у меня отвратительное перо и почти нет чернил». {59}
Тусси писала письма революционерам всей Европы так, словно для девочки-подростка это обычное дело.
Ее лучшим другом был один из величайших умов в мире – ее отец {60}. Вряд ли ее мог удовлетворить любой другой человек. Она привлекала внимание многих поклонников из числа беженцев, и хотя внимание несчастных коммунаров было ей приятно, она ни в кого из них не влюблялась. Однако один из них стоял особняком: Ипполит-Проспер-Оливье Лиссагарэ.
Лиссагарэ был буквально создан для Тусси, он казался героем, сошедшим со страниц книг сэра Вальтера Скотта. Он родился в графской семье старинного баскского дворянского рода, и семья отреклась от него из-за его радикальных политических взглядов. Он сменил множество профессий, начав с карьеры лектора в альтернативном университете, созданном опальными профессорами, потерявшими работу по политическим причинам; затем стал журналистом, который писал то из заключения, то освободившись из него, поскольку сотрудничал в основном с радикальными газетами; наконец, он был солдатом в армии Гамбетты в 1870 г., когда она сражалась за новую Французскую республику против Пруссии. После заключения мира – который Лиссагарэ считал поражением – он отправился в Париж, чтобы издавать газету, а когда это стало невозможным, поменял перо на ружье и отправился на баррикады в Бельвилле {62}. Отличный стрелок, мастер сабельного боя, он никогда не уклонялся от дуэлей и был довольно серьезно ранен в двух из них {63}. В Лондоне он жил, зная про открытый ордер на его арест и опасаясь, что Франция сможет надавить на Англию и добиться его выдачи.
Лиссагарэ часто навещал Вилла Модена и был тепло принят в семье Маркс. Женнихен в письме Кугельманну упоминала об отзыве отца; книгу Лиссагарэ «Восемь дней в мае на баррикадах» он считал единственной книгой о Коммуне, которую стоит читать {64}. Однако семья упустила тот момент, когда между опальным аристократом-беженцем и младшей дочерью Маркса возникло взаимное притяжение. В марте 1872 года Тусси и Лиссагарэ тайно обменялись кольцами. Ему было 34, ей – 17.
Энгельс, хорошо знавший Тусси, возможно, заметил, что между ней и Лиссагарэ существует нечто большее, чем просто дружба. (Он рассказывал Лауре, как радовалась Тусси за Женнихен и «создалось впечатление, что она не замедлит последовать ее примеру».) {65} Однако Маркс и Женни никак не могли одобрить этот союз. Последнее, чего бы они хотели – это получить еще одного французского изгнанника себе в зятья, да еще и отдать обожаемое дитя человеку вдвое старше ее. В любом случае, семье было не до того. Все они более всего беспокоились за Лауру.
Лаура и Лафарг спокойно жили в портовом городке Сан-Себастьян, когда в сентябре 1871 года местные власти объявили им, что у Поля есть 6 часов на то, чтобы покинуть страну – или быть арестованным {66}. Политическая атмосфера в Испании вновь изменилась. Лафарг бежал, но Лаура и Шнапс не могли присоединиться к нему {67}. Ребенок так и не оправился от болезни, перенесенной этим летом, и теперь по всем признакам у него начиналась холера. Все дети Маркса были одаренными лингвистами, но неясно до конца, как хорошо говорила Лаура по-испански, и были ли у нее друзья среди местных жителей, которые могли бы ее поддержать.
Она нуждалась и в том, и в другом: она провела у постели Шнапса 9 месяцев, пытаясь выходить свое единственное оставшееся в живых дитя. К декабрю он был все еще болен, но немного окреп для того, чтобы перенести путешествие – и Лаура вместе со своей хрупкой ношей отправилась на юг страны, чтобы встретиться с Лафаргом в Мадриде {68}.
Маркс и Энгельс были очень рады тому, что Лафарг находится в испанской столице, там он мог контролировать влияние Бакунина, но Женни беспокоилась только за внука и все больше досадовала на письма Поля, полные оптимистических отчетов об успехе Интернационала в Испании и содержавшие все меньше новостей о Шнапсе. В феврале Маркс намекнул Полю, что детали жизни организации очень интересны, «но у нас большой пробел в отношении сведений о нашем милом страдальце». {69} В марте Маркс вновь спрашивал о внуке уже с тревогой {70}. К маю тревога оправдалась: Шнапс был болен, и ему становилось все хуже {71}.
Женнихен и Лонге назначили свадьбу на середину июля. Парижская пресса (вернее, пресса парижской полиции, как ее называла Женнихен), называвшая ее достойным отродьем знаменитого главаря бунтовщиков из Интернационала, заполняла колонки светской хроники россказнями о ее личной жизни безо всякой оглядки на факты. Журнал правых, «La Gauloise», по ее словам, выдал ее замуж не менее 20 раз.
«Когда я выйду замуж на самом деле, надеюсь, эти жалкие писаки оставят меня в покое», – написала она Кугельманну в июне {72}. Однако в июле свадьбы не было. Женнихен и Лонге отложили ее из уважения к горю Лауры и Поля {73}. 1 июля 1872 года Лафарг написал Энгельсу: «Наш бедный маленький Шнапс, после 11 месяцев физических и душевных страданий, умирает от истощения». {74} В конце июля мальчик умер. 4-летний Шнапс был третьим ребенком Лауры, которого она потеряла за эти годы.
Лаура всегда держалась несколько особняком, и эта черта была трагически усугублена смертью ее детей. Фотографии того периода говорят об этом красноречивее всего – когда-то жизнерадостная и чувственная молодая женщина смотрит в объектив безжизненным взглядом, черты лица заострились, она осунулась. Она и ее муж оказались в Испании случайно, благодаря политическим играм Лафарга, а потом Лафарг остался там «по воле партии» (читай – по воле ее отца и Энгельса), чтобы организовать испанское отделение Интернационала. Нетрудно понять, что Лаура винила в своих несчастьях всех троих. Их преданность политике и пролетариату стоила семье Маркс еще одной молодой жизни. Она не была вдовой, все было намного хуже. Год назад она приехала в Пиренеи матерью двоих детей, сейчас у нее не осталось ни одного. Горе усугублялось тем, что эти страшные потери казались бессмысленными.
Несмотря на радужные отчеты Лафарга о политических успехах в Испании, социалисты в этой стране были разобщены, и влияние Бакунина ничуть не ослабело (Лафарга Бакунин презрительно именовал «кучей мусора») {75}. Основываясь на информации Лафарга, Энгельс хвастался перед коллегами, что I Интернационал стал партией испанских рабочих {76}, но на самом деле Лафаргу не удалось достичь сколько-нибудь значимых успехов с рабочими. Это была не столько ошибка самого Лафарга, сколько особенность национального менталитета. Испанские социалисты с подозрением относились к тому, что Маркс делает особый акцент на организации пролетариата, его прусскому «авторитаризму» – и предпочитали ему идеи анархизма {77}.
Побежденные и политически, и лично, Лафарги покинули Испанию вскоре после похорон Шнапса и направились в Португалию – это был их первый шаг на долгом пути возвращения в Лондон. Поль так описывал путешествие: «Суета, долгая суета, жаркая суета, утомительная суета; 30 часов на поезде, по жаре, на которой мы изнемогали, точно на раскаленной сковороде. К счастью, у нас был огромный арбуз, весом в 18 фунтов, который утолял нашу жажду во время путешествия через пустыню Ла Манча». {78}
Неукротимый духом Лафарг быстро оправился от своих несчастий, но Лаура так никогда и не смогла этого сделать. В свои 26 лет она была еще совсем молода, могла иметь детей, но их больше не было. Казалось, она заживо похоронила себя по частям в трех маленьких могилах, оставшихся позади нее – в Париже, Люшоне и Мадриде. Была потеряна не только любовь, но и вера. Из всех детей Маркса Лаура была, пожалуй, единственной, сомневавшейся в том будущем, которое предрекал отец – из-за слишком высокой цены, которую заплатила за это будущее вся семья. В будущем она продолжит работать и помогать воплощать идеи своего отца, но, в отличие от матери и сестер, не будет делать это из соображений преданности делу. Лишенная своих детей, счастья, самой жизни, она утратила и свою религию. То, что осталось, было всего лишь семейным бизнесом.
39. Гаага, осень 1872
Нет, я не ухожу из Интернационала, и остаток моей жизни, как и моя прежняя деятельность, будет посвящен торжеству социальных идей, которые, как мы в этом глубоко убеждены, рано или поздно приведут к господству пролетариата во всем мире.
В мае Маркс начал намекать, что собирается отойти от своей лидирующей позиции в Интернационале этой осенью, после конгресса {2}. Он посвятил организации 8 лет – удивительно долгий срок, учитывая противоречия, кипящие в ее рядах. Множество членов Интернационала покидали группу, потому что были не согласны с Марксом. Англичан сильнее всего раздражала поддержка Марксом ирландцев, еще больше они отдалились, когда он от всего сердца поддержал воинствующих радикалов Парижской Коммуны.
Другие соглашались с ним в политических и философских вопросах, но их возмущал его «аристократический стиль» – они подозревали, что реальной целью Маркса было всего лишь самовосхваление.
Маркс вместе с членами Интернационала боролся против правительств за интересы рабочих, чтобы поддерживать и лелеять организацию, которая, как он был убежден, дала пролетариату чувство собственной значимости, а также то твердое основание, с которого он может бросить вызов капиталистическому правящему классу. Однако он был готов передать бразды правления другому лидеру – или даже нескольким лидерам. За месяцы, прошедшие после разгрома Коммуны, несмотря на грозные окрики правительств, новые отделения I Интернационала появились в Дании, Новой Зеландии, Португалии, Венгрии, Ирландии, Голландии, Австрии и Америке {3}. Организация зажила самостоятельной жизнью, и ее глава надеялся, что сможет потихоньку отойти от руководства, чтобы со стороны наблюдать, как Интернационал процветает. Одному бельгийскому делегату Маркс говорил: «Я не могу дождаться следующего конгресса. На нем будет положен конец моему рабству. После него я вновь стану свободным человеком. Никогда больше не возьму на себя административные функции». {4}
Хотя он был сильно измотан этой работой, желание отойти от активной политики основывалось не только на этом. Коммуна представила Маркса миру в качестве революционного стратега и, что очень важно, теоретика. Его труды неожиданно оказались востребованы – можно сказать, что из тьмы полного безразличия пробился вдруг луч интереса. Мейснер собирался переиздать первый том «Капитала», но Маркс настаивал на переработке и дополнении текста, и это заняло у него больше года {5}. В Париже Руа переводил первый том на французский, и хотя его перевод полностью устраивал Маркса, он обнаружил, что изначальный текст нуждается в тщательной доработке {6}.
Также Маркс и Энгельс подготовили Циркуляр для распространения среди членов Интернационала – он содержал обвинение Бакунина в подготовке раскола. Еще поступили предложения о переиздании в Германии «Коммунистического Манифеста» с новым предисловием и дальнейшим переводом на французский и английский {7}. Вдобавок Маркс читал – в меру своих возможностей – русский перевод «Капитала».
Маркс часто сомневался в приверженности его русских сверстников к социализму, потому что большинство из них были аристократами и принадлежали к социальной элите страны. Однако новое поколение революционеров, писавших ему из Санкт-Петербурга или из женевской ссылки, или появлявшихся на пороге его дома, было, как писал Энгельс, «из народа… Они обладали стоицизмом, силой характера и в то же время, таким глубоким пониманием теории, что это действительно было достойно восхищения». {8}
Друг Маркса, его коллега по Интернационалу, профессор математики Петр Лавров после высылки из Санкт-Петербурга жил в Париже. Он опубликовал серию писем-статей, в которых заявлял, что русская интеллигенция находится в огромном долгу у трудящихся масс, поскольку пользуется за их счет привилегиями, позволяющими свободно мыслить и творить {9}. Многие признавали наличие этого долга и шли к крестьянам, только что освобожденным от рабства, начиная пропаганду на фабриках и в деревнях по всей России – эту попытку они сами называли «пойти в народ» {10}. Эти молодые, образованные русские хотели жить в стране, которая обеспечивала бы им преимущества западного общества – но без внедрения капиталистической системы. Социализм, утверждали они, является естественным выбором, поскольку отражает традиционно русское тяготение к общинному образу жизни. Но даже там, где было достигнуто относительное согласие по поводу того, как должно выглядеть это общество, то и дело вспыхивали споры насчет того, как к нему прийти {11}. Последователи Бакунина – анархисты и нигилисты – проповедовали насильственный путь. Другие, в том числе поклонники и сторонники Маркса, полагали политическое просвещение единственным результативным шагом к изменениям в России {12}.
«Капитал» Маркса прошел российскую цензуру – было сказано, что все это настолько непонятно – если там вообще можно что-то понять – что и покупать это никто не будет, да и преследовать этот труд по суду было невозможно, ибо он содержал слишком много математических и иных научных сведений {13}. Единственное, что не пропустили цензоры – портрет Маркса (его биограф Дэвид Мак Леллан утверждает, что власти сделали это, «чтобы избежать излишнего поклонения личности Маркса» {14}). Этот незначительный запрет был принят, тираж составил 3 тысячи экземпляров и вышел в марте 1872 года {15}. Он разошелся очень быстро – менее чем за два месяца – но читателей приобрел гораздо больше. «Капитал» передавали из рук в руки, иногда скрывая его под обложкой «Нового Завета» {17}. В отличие от французского перевода, русский привел Маркса в восторг – он назвал его «виртуозным». Свой экземпляр он получил в мае и попросил Николая Даниельсона прислать ему еще один. Он хотел подарить его Британскому Музею {18}.
Как ни странно, такой напряженный ритм работы никак не сказался на здоровье Маркса. Зато Женни, кажется, вобрала в себя все его заботы. Теперь, когда ее муж был фактически в центре всеобщего внимания – то, о чем она мечтала всю жизнь, считая, что Маркс это заслужил – она почти тосковала по временам, когда Карл был никому не известным ученым. Она говорила Либкнехту, что пока Карла никто не знал, и он был неизвестен за пределами Интернационала, «весь этот сброд молчал. Но теперь они вытащили его на свет, полощут его имя, и толпа, при молчаливом сговоре полиции и демократов, скандирует без всякого смысла «Деспотизм! Авторитарность! Амбиции!» Насколько было бы лучше, если бы Карл мог спокойно работать, разрабатывая теорию и стратегию борьбы для тех, кто действительно идет в бой».
Либкнехт в Германии ждал приговора по обвинению в государственной измене, и Женни писала ему, что часто думает о его второй жене Натали:
«Во всех этих сражениях мы, женщины, страдаем больше вас. Мужчина черпает силы из борьбы с внешним миром, его воодушевляет сам вид неприятеля, даже если имя ему легион. А мы по-прежнему сидим дома и штопаем носки. Этим не изгнать тревогу и беспокойство, и ежедневные маленькие беды медленно, но верно грызут нас, наше мужество, нашу способность противостоять жизни. Я говорю на основании своего 30-летнего опыта – и могу сказать, что не так-то легко поддавалась унынию. Но теперь я стала слишком старой, чтобы надеяться на лучшее, а последние печальные события [Коммуна] потрясли меня до глубины души. Я боюсь, что нам не приходится ждать чего-то хорошего, и моя единственная надежда лишь на то, что дети наши будут жить лучше и в более легкое время». {19}
Большая часть работы Маркса той весной (и обострения, описанного Женни) была связана с подготовкой поистине титанического сражения с Бакуниным за будущее движения рабочего класса. Во время своего пребывания в Италии и Швейцарии Бакунин показал себя талантливым агитатором, связываясь с известными революционерами, сочиняя памфлеты и распространяя через своих аколитов миф о могучем русском богатыре, способном повести рабочих за собой. В 1869 году он познакомился в Женеве с 22-летним русским нигилистом Сергеем Нечаевым, который если и не являлся полным психопатом, то психически нестабильным был наверняка. Нечаев имел большой авторитет в среде революционеров, в том числе и за его предполагаемый побег из Петропавловской крепости, в которой когда-то сидел и Бакунин. Нечаев утверждал, что в России он является руководителем многотысячной подпольной группы {20}. Верил ли ему Бакунин – большой вопрос, но он явно попал под обаяние этого молодого человека, разделявшего его любовь к заговорам и заставлявшим его чувствовать связь с Россией, в которую он не мог вернуться.
Во время своего сотрудничества с Нечаевым Бакунин написал «Революционный Катехизис», в котором выдвинул два основных тезиса: «Цель оправдывает средства» и «Чем хуже, тем лучше». Как отмечал один из историков, Бакунин верил, что «допустимо все, идущее на пользу революции, а все, что мешает ей – преступно». Более того, по мысли Бакунина, недостаточно осветить город, зажигая лампы – нужно поджечь весь город. Он писал: «Для революционера существует лишь одна наука – наука разрушения». {21}
Бакунин был, возможно, наименее хорошим переводчиком для труда своего вечного противника Маркса, но в 1869 году он получил аванс от издателя (больше, чем Маркс когда-либо получал за свою книгу) на русский перевод «Капитала». Он осилил только 32 страницы к тому времени, как Нечаев убедил его, что у них есть более важные дела {22}. О переводе с Бакуниным договаривался молодой русский, Николай Любавин, работавший над проектом вместе с Даниельсоном, и именно против него Нечаев развернул целую кампанию, чтобы освободить своего старшего товарища от обязательств. Нечаев отправил Любавину письмо, якобы от имени его огромной нигилистической организации, обвинив студента в эксплуатации Бакунина и угрожая использовать «менее цивилизованные методы», чем письма, если он не освободит Бакунина от обязательств по контракту {23}. Это была не пустая угроза. Нечаев уже убил одного студента в Москве, предварительно избив и связав его – чтобы доказать всем существование своей подпольной организации {24}.
Маркс узнал об этом и проинформировал Генеральный Совет об этой грязной истории. Чтобы подготовиться к выступлению 2 сентября 1872 года на ежегодном конгрессе в Гааге, Маркс начал собирать доказательства связи Бакунина и Нечаева и того, что Бакунин продолжал возглавлять свою группу анархистов, вопреки уставу Интернационала. Он надеялся использовать эти сведения, чтобы добиться исключения Бакунина и его сторонников из Интернационала. На самом деле это было лишь формальным поводом – Маркс хотел исключения Бакунина из-за принципиальных идеологических расхождений {25}. Русский анархист не верил в то, что можно сражаться политическими методами – и что может существовать партия рабочего класса. Напротив, он свято верил в то, что рабочие должны открыто демонстрировать свою силу, чтобы защитить свои права {26}. Маркс спорил с ним по этому вопросу еще с 1849 года, но теперь, когда идеи Бакунина получили широкое распространение, он становился по-настоящему опасен. Маркс признавал, что революция всегда приводит к кровопролитию, однако не считал, что насилие является главным методом; он решительно возражал, чтобы Интернационал превращался в подобие повстанческой армии.
Маркс никогда не присутствовал на конгрессах Интернационала за пределами Лондона, но важность нынешнего конгресса была столь велика, что в Голландию отправилась вся семья – включая двоих французов, которые еще только готовились стать ее членами, Лонге и Лиссагарэ. Разумеется, с ними был и Энгельс. Этот публичный съезд должен был стать первым после событий в Париже, и в прессу немедленно просочились слухи, что на конгрессе будут спланированы новые акты террора. Журналисты со всего мира съехались в Гаагу, чтобы освещать шабаш жестоких радикалов. Маркса атаковали репортеры. Некоторые просто хотели увидеть его, другие устраивали между собой соревнование, кто первым возьмет интервью и узнает о его зловещих планах {27}. Истерия нарастала. Местные газеты предупреждали горожан, чтобы те не выпускали на улицу жен и дочерей, пока Интернационал в городе, а ювелирам рекомендовали закрыть свои магазины {28}. Однако пресса и полиция были разочарованы: делегаты вели себя пристойно, словно представители какого-нибудь съезда промышленников или коммерсантов – вплоть до того, что у каждого на лацкане была голубая ленточка, чтобы их легко было узнать {29}.
Около 65 делегатов из 15 стран приняли участие в конгрессе, и в течение первых трех дней все дискуссии велись вокруг вопроса, кого стоит наделить руководящими полномочиями {30}. Наконец, 5 сентября Пятый ежегодный конгресс I Интернационала в полном составе собрался в большом танцевальном зале рядом с городской тюрьмой в рабочем районе Гааги. Столы были расставлены подковой, а над залом был балкон, с которого зрители могли воочию наблюдать революционную бюрократию в действии {31}. Женщины Маркс присоединились к наблюдателям.
После несчастий, пережитых во Франции и Испании, Лаура приехала в Гаагу похудевшая и бледная – семью потрясли произошедшие с ней перемены. Несмотря на физическую и душевную боль, она нашла в себе силы приехать, чтобы мир не видел ее слабости – Лаура, наследница гордыни своего отца, не могла сдаться «мещанам» и позволить им видеть, как она страдает {32}. Кугельманн, никогда раньше ее не видевший, нашел ее очаровательной, элегантной и дружелюбной. Впервые увидел он и Женни. Они переписывались много лет, он знал о лишениях, пережитых семьей – и потому готов был увидеть перед собой пожилую матрону с лицом, испещренным морщинами. Вместо этого перед ним стояла стройная женщина, выглядящая значительно моложе своих 58 лет. Она была так поглощена происходящим, что Кугельманн исполнился уверенности: это именно она привела Маркса в радикальную политику, а не наоборот {33}.
Тусси со своим верным «Лисса» выглядела, как молодая дама {34}. Теперь она зачесывала свои густые локоны высоко вверх, и лишь на лоб падали отдельные завитки. На шее у нее была бархотка, а декольте выглядело «чуть-чуть слишком» смелым. Стиль был соблюден, однако тела напоказ было выставлено куда больше, чем обычно позволяли себе женщины семейства Маркс. Наконец, Женнихен: из всех сестер она изменилась менее всего, если не считать тихого внутреннего света счастья, которое она демонстрировала непривычно открыто, благодаря своей помолвке с Лонге.
Внизу за одним из столов сидели Маркс и Энгельс. Если Маркс и хотел остаться в тени, то у него ничего не получилось: взгляды всех присутствующих были направлены только на него – задумчивого гиганта с копной седых волос и такой же седой бородой, курящего сигару и что-то яростно строчащего в блокноте. Он был само воплощение их с Энгельсом бунта {35}. Хотя число самих делегатов, принимающих участие в заседании, было невелико, наблюдателей было намного больше – одна газета написала, что их число вдесятеро превышало количество, которое мог вместить зал {36} – и, кажется, у всех было, что сказать. Атмосфера была очень напряженная, шум стоял дикий. Призывы к порядку игнорировались, крик становился аргументом, споры грозили перерасти в потасовку.
С самого начала у сторонников Маркса было преимущество. Численностью они намного превосходили тех, кто поддерживал Бакунина, а сам Бакунин предпочел не явиться на заседание. Первым голосовали за предложение оставить Генеральный Совет в качестве мозгового центра всей организации, не урезая его полномочий – чего хотели Бакунин и его сторонники – против предложения оставить Совет лишь в качестве координационного центра с физическим почтовым адресом. Фракция Маркса выиграла это голосование, Совет сохранил свои полномочия. Следующим пунктом в повестке дня было то, что один из делегатов окрестил, ни много ни мало, «государственным переворотом». Маркс и Энгельс срежиссировали все заранее. Энгельс стоял с сигарой в руке и разговаривал своим обычным тоном, изредка отбрасывая прядь волос, падавшую ему на лоб; он предложил Генеральному Совету переехать из Лондона в Нью-Йорк. То, о чем он умолчал: такое перемещение могло бы помочь Марксу напрямую связываться с членами Совета, не опасаясь, что Бакунин перехватит контроль над группой. Хотя анархисты в Соединенных Штатах и имелись, число их было мизерным, а ужас Америки перед политикой жестокости и насилия был настолько велик, что стал бы естественным заслоном на пути возможных инициатив Бакунина.
Когда Энгельс закончил, зал взорвался. Критики возражали, что с тем же успехом Совет можно было бы перенести на луну. Маркс, как любой хороший политик, заранее рассчитал примерную расстановку голосов по предложению Энгельса, чтобы знать, с каким количеством оно пройдет – и оно прошло, причем с помощью, как ни странно, бакунинцев, которые считали, что перевод Совета в Нью-Йорк как раз и лишит его всякой власти, чего они, собственно, и добивались {37}.
В заключительный день работы конгресса настала очередь Маркса бросать бомбу в его затянувшейся схватке с Бакуниным. С момента приезда в Гаагу он так нервничал, что едва мог спать. В этом нервном, невыспавшемся состоянии, просидев все эти дни без единого слова, Маркс встал и отодвинул свой стул. Зал погрузился в молчание. Маркс описывал, как Бакунин и его последователи тайно работали над развалом Интернационала, а также то, как «личное дело» (угрозы Нечаева и убийство), обсуждавшееся в следственном комитете, но не выносившееся до этого на публичное обсуждение, доказывало безрассудный характер анархистов. На самом деле, Марксу не было нужды говорить об истории с Нечаевым – ее отголоски и так носились по залу. Все знали, что он имеет в виду {38}.
Маркс был прекрасным оратором в маленькой аудитории, но в большом зале его голос и манера говорить не производили такого впечатления. Он был уже в возрасте и напоминал скорее блестяще эрудированного и несколько эксцентричного профессора; во время речи монокль периодически выпадал из его правого глаза, и ему приходилось прерываться, чтобы вернуть его на место {39}. Однако даже без обычной драматичности и страсти его речь привлекла всеобщее внимание – присутствующие вслушивались в каждое слово. Что еще важнее – аудитория с ним согласилась: Бакунин с товарищами был исключен из Интернационала {40}.
После того, как результаты голосования были оглашены, один испанский анархист, последователь Бакунина, с красным флагом, повязанным вокруг талии, выхватил револьвер и, повернувшись к делегату, зачитавшему результаты голосования, воскликнул: «Этот человек должен быть застрелен!» {41} Его быстро скрутили и разоружили. Маркс не мог и мечтать о лучшей иллюстрации к своей речи против Бакунина.
На этом работа Маркса в Интернационале официально завершилась. Этим вечером он с семьей и несколькими близкими друзьями отправился в Гранд Отель близлежащего городка Шевенинген. Элегантная гостиница напомнила Женни и Карлу Трир. Свет газовых фонарей отражался в водах Северного моря, музыка струнного оркестра плыла по воздуху. Теперь, когда «рабство» в Интернационале закончилось, Маркс мог вернуться к частной мирной жизни – как отец, муж и ученый-теоретик. В эту ночь он вернулся к своим близким, друзьям и знакомым.
Компания обедала, танцевала, ходила купаться. Впрочем, поскольку это все-таки был Маркс – без драм не обошлось: один из группы заплыл слишком далеко, и Энгельс, как хороший солдат, смело бросился другу на помощь {42}.
На следующий день, 8 сентября 1872 года, Маркс произнес свою последнюю публичную речь – возможно, гораздо более важную, чем все, что он говорил на только что закончившемся конгрессе. Она породит бурные дискуссии в следующем веке, расколов последователей Маркса на тех, кто считал его пацифистом по убеждениям, и тех, кто называл его адвокатом революционного насилия. На самом деле, речь Маркса перед делегатами I Интернационала в Амстердаме демонстрировала и то, и другое. Марк подчеркивал, что исторические прецеденты будут диктовать, каким именно образом произойдет революция в той или иной стране, и иного ответа здесь быть не может.
«Рабочий должен со временем захватить в свои руки политическую власть, чтобы установить новую организацию труда; он должен будет ниспровергнуть старую политику, поддерживающую устаревшие институты, если не хочет, подобно первым христианам, пренебрегавшим и отвергавшим политику, лишиться навсегда своего царства на земле. Но мы никогда не утверждали, что добиваться этой цели надо повсюду одинаковыми средствами. Мы знаем, что надо считаться с учреждениями, нравами и традициями различных стран; и мы не отрицаем, что существуют такие страны, как Америка, Англия, и если бы я лучше знал ваши учреждения, то может быть прибавил бы к ним и Голландию, в которых рабочие могут добиться своей цели мирными средствами. Но даже если это так, то мы должны также признать, что в большинстве стран континента рычагом нашей революции должна послужить сила; именно к силе придется на время прибегнуть, для того чтобы окончательно установить господство труда».
Маркс заявляет о своей верности делу борьбы, несмотря на то, что его каждодневное участие в ней сократилось. Две газеты цитируют его слова:
«Нет, я не ухожу из Интернационала, и остаток моей жизни, как и моя прежняя деятельность, будет посвящен торжеству социальных идей, которые, как мы в этом глубоко убеждены, рано или поздно приведут к господству пролетариата во всем мире..» {43} [78]78
Русский перевод дан по: К. Маркс, Ф. Энгельс, Сочинения, Т. 18.
[Закрыть]
Выход Маркса из Интернационала и его битва с Бакуниным в итоге прошли достаточно легко. Маркс хорошо подготовился и убедился заранее, что счет будет в его пользу. Помогло ему и отсутствие Бакунина на заседании. Русский заявил, что не приехал на конгресс из-за отсутствия средств {44}, но вполне возможно, он просто понимал, что его соперник не может проиграть: Интернационал был детищем Маркса. В любом случае, этот год был для Бакунина годом неудач, и сил на борьбу у него не осталось {45}. Его друг Нечаев был арестован в Швейцарии и в конечном итоге будет отправлен в Петропавловскую крепость {46}. Его молодая жена Антония завела себе любовника-итальянца и прижила с ним двоих детей – этот союз был практически благословлен самим Бакуниным, потому что сам он не мог оказывать ей того внимания, которого она требовала и заслуживала {47}. Наконец, и без того громоздкий, Бакунин еще больше растолстел (друзья называли его слоноподобным). Он задыхался от малейшего движения и синел, как покойник, пытаясь надеть сапоги {48}. Через 2 года после Гаагского конгресса он заявил о своем уходе из политики и общественной жизни, сказав: «Отныне я не побеспокою ни одного человека – и прошу, чтобы никто не беспокоил меня». {49} Он полностью обновил гардероб и зажил тихой жизнью добропорядочного швейцарского буржуа. Сам себя он называл «последним из могикан» {50} и говорил, что если бы в живых на свете остались всего три человека, двое из них обязательно захотели бы подчинить себе третьего {51}. Как и его немецкий соперник, Бакунин понял, что пора отступить в сторону.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.