Текст книги "Шахта"
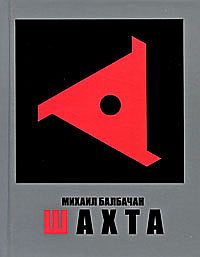
Автор книги: Михаил Балбачан
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 42 страниц)
Глава 16. Мышеловка
У Лешки Ермолаева отец погиб в шахте, а у Кольки Слежнева умер с перепою. Они жили по соседству и дружили сызмальства. Ермолаевская хата стояла в небольшом саду, с вишнями да грушами, а около слежневской даже плетня не было, так, росла на задах какая-то кривая береза. В семилетке они сидели за одной партой, «на Камчатке». Учились оба неважно, хотя Колька больше ленился, наука ему легко давалась, а у Лешки это дело шло туговато, несмотря на все его старания.
Колька был заводилой в их компании. Всегда торчал на виду, говорил и смеялся громче всех, вообще любил побалагурить, особенно похвастаться. Врал, конечно, напропалую, но если ему не верили, сразу обижался и лез в бутылку. В таких случаях Леха его выручал, поскольку был силачом. Обычно же он, по застенчивости характера, держался за Колькиной спиной. Впрочем, вранья его он тоже терпеть не мог, особенно разных срамных подробностей, касавшихся амурных побед над поселковыми красавицами. Тогда Леха начинал злиться, ужасно краснел и выдавливал из себя, что-то вроде: «Брешешь ты все, Коль, это самое, вот что я тебе скажу!» – «А вот не брешу!» – только и отвечал ему Колька. На Леху он не обижался. Они вообще никогда не ссорились. В армию их вместе провожали, и из армии оба в один день воротились. На шахту тоже вдвоем устраиваться пошли и попали в одну бригаду. Тогда только разделение у них пошло. Леха после смены в рабфак торопился, а Колька – на гулянки.
Девушки летели на него, как мухи на мед. Так что байки его вскоре сделались довольно правдоподобными, только сам Колька потерял к ним интерес и травил как бы по обязанности, после долгих уговоров. Особым красавцем он, может, и не был, зато вел себя чрезвычайно нахально, за словом в карман не лез, а танцевал – так просто загляденье. Еще он обожал всякие модные штучки и словечки. Что до Лехи, то, хотя все было при нем, из-за глупого своего характера он с девушками не водился. Танцевать не умел, а если какая из Колькиных подруг пыталась все же с ним заговаривать, глухо отмалчивался и глядел в сторону.
Но едва только Ермолаев, идя на смену, получал лампу и жетон, вся его застенчивость мигом улетучивалась. Очень старался парень превзойти все тонкости горного производства, ну и выдвинули его бригадиром. Вскорости проходческая бригада Ермолаева прочно закрепилась на «Доске почета». Рабочие, даже те, которые по возрасту в отцы ему годились, величали его теперь Алексеем Прокопьевичем. Опять же заработки у них неплохие выходили. Колька, хотя и позволял себе из самолюбия фамильярное с ним обращение, и сам тоже сделался неплохим крепильщиком. От других, короче, не отставал. Так вот они и жили. В шахте Леха смотрел орлом, а Колька – серым воробышком, на танцульках же наоборот, орлом был Колька, а Леха тушевался.
В мае тридцать девятого, кажется, произошел один незначительный на первый взгляд случай, изменивший всю их дальнейшую судьбу. В забой, где они тогда работали, завернул с обходом начальник участка Скрынников, а с ним – Левицкая, главный маркшейдер. Осмотрев проходку за предыдущие дни, она крикнула резким своим голосом, словно ворона каркнула:
– Кто тут бригадир?
– Ну я, – отозвался Леха.
– Что-то больно молод бригадир у тебя, – с усмешечкой бросила она Скрынникову.
– Уж какой есть, – ответил Леха.
– И как тебя звать, мальчик?
– Алексеем Прокопьевичем! Фамилия – Ермолаев.
– Что ж это вы, многоуважаемый Алексей Прокопьевич, штрек не по отвесам проходите? Влево он у вас, Алексей Прокопьевич, ушел до полнейшей невозможности.
– Всегда мы по отвесам работаем, напраслину возводите! – попытался отбрехаться Леха и очень ошибся.
– А где они у вас?
– Чего?
– Того самого. Отвесы где?
Бригадир пошел искать, искал долго, но никаких отвесов, само собой, не нашел. Скрынников, со скучающим видом водивший все это время фонарем из стороны в сторону, добавил:
– Крепь у тебя «пьяная», лунки мелкие, замки заделаны кое-как, рамы расклинены дерьмово…
– Вы их даже не прибиваете, ребятки, – опять встряла вредная маркшейдерша. – Вам, что ли, жить надоело?
Ермолаев, свесив повинную голову, начал переминаться с ноги на ногу и со всем соглашаться. Тут уж Колька не вытерпел:
– Дорогая гражданочка маркшейдерша! Опоздали вы со своими интересными замечаниями. Крепь у нас принята уже по месячному замеру, вот, товарищем начальником участка нашего, здесь присутствующим, и безо всяких, между прочим, замечаний! Нам уже за нее уплочено все до копеечки. Так что…
– Так что рамы вам придется перекрепить, «уплочено» за них или нет! Тем более глядите! Кровля тут никакая – сыпучий песок. Немедленно все перекрепить, и без разговоров!
– Небось дураков нет, за бесплатно вкалывать! Не будем, …, по новой перекреплять! Ходют тут грымзы всякие, ученые больно, хвостами крутят.
– Ну ты, это самое, полегче давай! Язык-то попридержи, – сделал замечание подчиненному Скрынников, а Леха вдруг как заорет:
– Замолчи, Слежнев, не пори ерунды! И перед товарищем главным маркшейдером извинись сейчас же!
– Левицкая моя фамилия, если кто не знает, – развязно вставила дамочка.
– Перед товарищем Левицкой. А крепь мы сейчас же переделаем, товарищ Левицкая, обещаю вам, – унижался бригадир.
– Можешь сам извиняться перед этой… товарищем Левицкой, – продолжал бузить Колька, – а рамы эти, …, тоже, кому охота, тот, …, пусть и перекрепляет!
– Нет, ты извинишься! – еще громче заорал Леха. – И сейчас же!
– Молчу, молчу, – поднял в шутовском ужасе руки Слежнев, – успокойся только, а то товарищ главный маркшейдер подумает, что ты оченно нервный у нас.
Как только начальство скрылось из виду, он начал беззлобно подтрунивать над другом:
– А бабенка-то чудо как хороша! Личико породистое, как у кобылки, ножки вот только кривоваты, но это ничего, зато ручки грабельками. А носик…
– Да заткнись же ты наконец! Правду она, …, сказала, перекреплять надо. А носик ее тут совершенно ни при чем.
– Для такой красотки и поработать лишку не жалко. Прям прынцесса Греза.
В ближайший выходной Слежнев заприметил Левицкую в клубе. Она стояла со злым лицом около буфета и разговаривала о чем-то все с тем же Скрынниковым. Дождавшись, пока занудный начальник не отвалил, Колька гоголем подлетел к ней с кулечком мятных карамелек, намереваясь завязать непринужденную светскую беседу. Но был резко отшит. Что ему особенно не понравилось, так это то, что маркшейдерша глядела на него так, словно был он каким-то насекомым типа таракана. Колька решил попробовать еще раз, уже по-серьезному, на улице. Увидев, как она стремительной походочкой выходит из клуба, он вынырнул из-за газетного стенда, где успел отсмолить уже четвертую папироску, и, широко улыбаясь, предложил себя в провожатые. Она только безразлично рукой махнула. Слежнев попробовал, как обычно, распустить руки и схлопотал звонкую оплеуху. Народ вокруг издевательски засмеялся – многие в это время расходились по домам. Колька ужасно обозлился.
– Граждане-товарищи, чего это она? Я еще ничего такого не делал! Ты чего творишь, а? Цаца гребаная! Чего об себе воображаешь? – на этой высокой ноте он попытался снова ее облапить. Левицкая влепила ему еще пару пощечин, да таких, что ухажер чушкой повалился в грязь. Публика зааплодировала.
– Так ему и надо, козлу поганому, наподдайте ему еще, товарищ маркшейдер, – завизжала девушка Нюрка, старая Колькина знакомая.
– Правильно! – поддержала ее рыжеволосая подруга. – Еще ему, гаду, наподдайте!
– Ишь ты! – закричал не своим голосом Колька. – Чего ж это творится? Ну, счас я тебя… вас… – и получил еще пару расчетливо отмеренных ударов. Вконец опешив, он забормотал что-то невнятное.
– И извиняться-то ты, Слежнев, толком не умеешь. Придется мне, видно, заняться твоим воспитанием, – победительно засмеялась Левицкая. – Ну, чего разлегся, словно купчиха на перине? Ты, кажется, провожать меня собирался? Так провожай!
Потерявший последнее соображение Колька поплелся за ней. Когда они подошли таким манером к ее крыльцу, она свистнула в два пальца прямо ему в лицо и, не попрощавшись, ушла, громко хлопнув дверью.
Вскоре Слежнев таскался за ней повсюду, превратившись не то в мальчика на побегушках, не то во что-то и вовсе непотребное. Но ничего «такого» между ними не было. Даже намека. Он теперь и помыслить не мог о том, чтобы без позволения дотронуться хотя бы до ее руки. А если это ненароком случалось – бледнел и терял дар речи. Боялся ее до чертиков, но какая-то неодолимая сила заставляла его все время о ней думать, искать с ней встречи или хотя бы быть от нее неподалеку. Она же относилась к нему скорее покровительственно, как к неразумной зверушке. Бывала с ним в кино и на танцах, а иногда под настроение и если погода была хорошая – они гуляли по парку. Танцевать она очень любила и высоко ценила Колькино мастерство, а он осторожно, едва прикасаясь, обнимал ее за талию, будто тончайшую стеклянную вазу, и был при этом на седьмом небе от счастья. Во время совместных прогулок Колька вовсю плел свои байки, она тоже рассказывала ему много всякого. Когда же он завирался окончательно, она делала строгое лицо, поднимала узкий указательный пальчик, и он умолкал.
– Ну и балаболка же ты, Слежнев, – укоризненно говорила Левицкая в таких случаях.
Несмотря на такое пренебрежительное к себе отношение, а может быть, именно благодаря ему, Колька втюрился не на шутку.
– Вот это так девушка, – расписывал он ее приятелям, – умная, красивая, сердце золотое просто. А характер какой!
– Ты ж говорил, лицо у ней лошадиное, – нарочно подтрунивал Леха.
– Так это когда было, мне теперь и самому это странно. Дурак был, – сокрушался Колька. – Эх, кабы я тогда не… Все равно никуда теперь не денется, моя будет!
– Я считаю: бабе ум ни к чему. И характер тоже. Мой тебе совет: бросай лучше ерундить. Мало ль девок вокруг? Ты у нас ходок известный, взять хоть эту, как ее?
– Ни … ты, Лешка, не соображаешь! Нашел с чем сравнивать. Не встречал я еще таких, как она. Это ж, …, совсем другое дело!
Как-то во время перерыва в кинокартине Левицкая попросила его:
– Ты бы, Слежнев, познакомил меня со своим бригадиром, что ли.
– Как хотите, Елизавета Сергеевна, а только он малокультурный персонаж, кроме как о производстве говорить ни об чем не может, к тому же…
– К тому же?
– Ну не способен он такую девушку, как вы, понимать. Еще, чего доброго, обидит вас, придется мне тогда… А мы ведь с ним приятели как-никак.
– Не беспокойся, Слежнев. Если не забыл, я вполне могу сама за себя постоять.
Колька эту ее просьбу так и не выполнил. Все время находились разные причины. Но через неделю он повстречал их, идущих вместе по улице и увлеченно беседующих. Более того, она держала его под ручку, словно буржуя какого. Колька сперва чуть не умер на месте, но потом взял себя в руки и нарочно пошел им навстречу, как бы случайно. Поравнявшись, поздоровался, а они ответили так безразлично, словно бы не узнали его. Разговор же у них, как ни странно, велся о чем-то жутко скучном, вроде того, что в газетах на первой странице печатали.
Весь тот вечер Слежнев прослонялся около ее дома. Если бы она только улыбнулась ему или проехалась ехидно насчет Ермолаева, как она умела, он бы все ей простил. Но она все никак не шла, а когда наконец появилась, вышло совсем по-другому, не так, как он надеялся:
– Чего ты тут отираешься, Слежнев?
– Да, так… Я думал… Завтра в клуб артисты из области приезжают, я уже билетики прикупил. Вот…
– Завтра не смогу. Ты бы лучше еще кого-нибудь пригласил. И вообще, нечего тебе все время за мной таскаться.
– Но как же так, Лиза? Почему?
– А все так же. Надоел ты мне. Пытаешься с вами как-то по-человечески… Так что давай, Слежнев, оставь меня в покое, сделай одолжение. У тебя что, других дел нету?
И ушла.
Всю свою недлинную жизнь Колька свято верил, что может заполучить все, чего бы ни захотел. К примеру, захотелось ему мотоцикл – и пожалуйста, купил. Подзанял только деньжат у того же Лехи, и вот он, в сарае стоит. Захотел на гармошке выучиться – мигом выучился! И очень даже просто. Опять же, захотел поиметь Нюрку Пиченюк, первую красавицу на шахте, и тоже никаких проблем, хотя многие не верили. А тут вдруг нашла коса на камень.
Между тем у Ермолаева с Левицкой завязались какие-то странные отношения. Ночи напролет они бродили по степи, болтая обо всякой ерунде, а то и просто молча. Бедный Колька высох от ревности. Он часами раздумывал, почему все так неудачно сложилось, перебирал всю свою жизнь, эпизод за эпизодом, и всякий раз приходил к выводу, что человек он необыкновенный, совершенно не такой, как другие-прочие, потому их любовь с Лизой обязательно должна была совершиться, не могла она никого другого встретить, кто смог бы ее понять и оценить. И всякие там Лехи были тут совершенно ни при чем. Он легко убедил себя, что общение у нее с Ермолаевым чисто товарищеское, какие-то там дела, но все равно одна мысль об этом была ему нестерпима. Он придумывал необыкновенно сложные причины, вследствие которых она временно отдалила его от себя. Бедный Колька даже не подозревал, какая глубокая пропасть лежала между ним и Левицкой. К тому же она была лет на пять старше них с Лехой.
На работе он теперь все больше волынил, чуть не спал на ходу, а в остальное время вел самое эфемерное существование. Устроил в бурьяне близ ее дома «наблюдательный пункт», форменное звериное логово. Забравшись туда, он вечерами подстерегал Левицкую, умудряясь как-то не попадаться на глаза. Для успокоения совести внушил себе, что таким манером охраняет ее от неких страшных опасностей. Во время ее прогулок с Ермолаевым Колька с горящими глазами крался за ними, напряженно вслушиваясь в негромкие, неразборчивые их разговоры. Иногда, чтобы лучше разобрать, он подбирался слишком близко, но они так ни разу и не заметили, словно был он до того незначительным, что его и разглядеть-то нельзя. Временами ему мерещилось, что головы их слишком близко склоняются друг к другу, и рука его безотчетно сжимала булыжник. Колька чувствовал, что все глубже погружается в бездонный колодец. Леху он теперь ненавидел. До судорог. «Чем он ее взял? Чего она в нем нашла, в байбаке этом безмозглом?» – беззвучно шептал он, уставясь в Лехину спину, когда они спускалось в клети или шли по извилистым темным выработкам. Все теперь было ему противно, прежние товарищи обернулись злейшими врагами, только и ждущими, чтобы исподтишка нагадить. Даже мать, женщина слабохарактерная и очень его любившая, представлялась ему какой-то мегерой.
Шли дни. Слежнев все дальше скатывался в пьяную муть. Выходя с шахтного двора, он, как на службу, отправлялся шпионить за Левицкой, а если та была на работе, то – в пивную. Там для поднятия настроения он подливал себе в кружку водки, и начиналась безумная карусель, кончавшаяся обычно черт знает где и чем. Просыпаясь теперь по утрам, он частенько обнаруживал, что морда разбита, все тело ломит, а сам он валяется в канаве под чужим забором. И в больной его голове всплывали жуткие картины. Вроде бы он пил где-то самогон, а потом бил кого-то жестоко. В другой раз, наоборот, какие-то со зверскими харями, хакая, топтали его самого. Он вспоминал, содрогаясь, что гнался за кем-то по темным закоулкам или нет – это сам он драпал во все лопатки от милиции. А вот как наяву: он дерет незнакомую ноющую бабу с распухшим кровоточащим носом. От таких воспоминаний его пробирал озноб, и он принимался доказывать себе, что все это не более чем похмельный бред. Слежнева начали регулярно прорабатывать за прогулы, получать он стал мало, по крайней мере, приносить деньги домой перестал совсем.
Короче говоря, он превратился в жалкое подобие того разбитного, не знающего уныния парня, каким был еще недавно. Погруженный в мрачные переживания, он окончательно перестал отличать реальность от болезненных видений. Впрочем, одно из таких видений было очень даже реальным – обрамленная жесткими черными кудрями физиономия Деброва. Кольку в его мрачном расположении как магнитом тянуло к этому человеку. Как-то они столкнулись на пятачке у пивного киоска, где собиралось обычно избранное поселковое общество. Дебров, видимо, обрадовался встрече и полез обниматься.
– Гляжу я на тебя, паря, тоскуешь ты чего-то.
– Отстань Семка, оставь меня в покое!
– Ты что же это, не уважаешь меня? Брезгуешь?
– Нет, это я так, не хочу ни с кем разговаривать, и всё.
Дебров сочувственно подлил ему водочки. Потом они взяли еще по пузырю и хорошо посидели на лавочке в парке.
– Эх, паря, приворожила тебя эта баба! Плюнь ты на нее! Сколько их вокруг нас шляется, только свистни!
– Не понимаешь ты ничего, Сема, уж извини меня! Нету таких больше на свете.
– Я-то как раз все понимаю. Сказать? Дурачок ты, Коля. Хахаль у ней имеется.
– Врешь! Кто?
– Да бригадир наш.
– Леха?!
– Он.
– Вранье! Я точно знаю, нету между ними ничего!
– Ан есть.
– Иди ты на …! Не хочу больше тебя слушать, – озлился Колька и встал, намереваясь уйти.
– А может, я присоветую чего.
– Чего ты присоветовать можешь?
– Убрать его надо.
Колька даже протрезвел.
– Ты чего несешь? О…ел? Как это – убрать?
– А так, шахта – шмахта, то-сё, мало ли чего случиться может? Все будет как надо, точно тебе говорю.
– Да ты что? Да за такие… такое… я … тебя!
– Шучу я. Не разбухай. Шутки это у меня такие. А ты думал, я взаправду советую? Хорош, разбегаемся. Учти, я тебе ничего не говорил. Понял меня?
После того разговора Слежнев старался всячески избегать Деброва, даже не смотреть во время работы в его сторону, но страшная идея убить Леху и все этим покончить постепенно, как червь, выгрызала его изнутри. «Предположим, убью я его, а дальше? Расстреляют. А Лиза? Она же все равно меня не полюбит!» – думал он. А тут еще, на свою беду, он углядел наконец как Ермолаев и Левицкая, тесно прижавшись друг к другу, целовались на скамейке в парке. По-настоящему. В исступлении он до самого утра катался по бурьяну, бил какие-то окна, плакал, – ничего, конечно, не помогало. Картина лижущейся парочки делалась от этого только ярче в его мозгу. Он перестал спать – во сне было то же самое, даже хуже. «Я так скоро с ума спячу. Надо решать. И концы в воду. Шахта, то-сё…» – повторял он про себя. Вскоре, сам того не замечая, он начал бормотать вслух. Даже мамаша забеспокоилась:
– Ты, Коленька, все чего-то кричишь во сне, – сказала она ему, – лучше бы в больничку сходил. Пущай они тебе капельки какие-нибудь пропишут.
Колька, конечно, обругал ее по-всякому, да что с того? Никто на свете не хотел видеть, как ему плохо, никому не было до него дела. А Ермолаев еще остановил его в раздевалке и эдак, с подходцем, подковырнул:
– Чего с тобой творится в последнее время? Случилось что-нибудь? Может, заболел?
– Заболел! – заорал в бесстыдные зенки бригадира Слежнев. – Твое какое собачье дело, гад ползучий!
Леха отвалил в полном недоумении. Тут Колька и решился. Один только вопрос у него остался: как? Вскоре ответ нарисовался. И тогда приятное, полузабытое ощущение покоя заполнило его опустелую, измученную душу.
Бригада Ермолаева состояла из трех звеньев, работавших посменно. В одну смену с ним выходили четверо: Алимов Муса, Пилипенко Иван Иванович, он же – «дядя Ваня», Колька Слежнев и Дебров. Скрынников как начальник участка довольно положительно отзывался о самом бригадире, называя его «вообще молодцом». К остальным же относился скорее иронически. Алимова величал «Ишаком», дядю Ваню – «Шаляй-валяем», Слежнева – «Стрекозлом», а Деброва не иначе как «Хитрожопым уркаганом». Они тоже не остались в долгу и придумали ему отличную кличку, совершенно, впрочем, невоспроизводимую. Между прочим, Дебров не был последним человеком в бригаде. Он ходил в передовиках еще в лагере, за что, по его словам, и был выпущен досрочно, затем прославился на шахте, его тогда даже в комсомол приняли, а теперь не отставал от самого Алимова – известного в районе ударника. Дебров сочинил Скрынникову свое, особенное прозвище: «Трынды-брынды-балалайка», очень точно раскрывающее внутреннюю сущность начальника участка.
Ермолаевцы проходили в ту пору двухкилометровый штрек по углю так называемым «скоростным методом». Пласт там залегал складками, к тому же кровля подкачала. Это здорово тормозило работу. По соцобязательству они должны были давать почти пятьсот метров в месяц, а выходило – едва по двести. Но Леха упорно, хотя и излишне медленно, по мнению товарища Скрынникова, наращивал темпы. Роли у них распределены были так: сам бригадир сидел за рычагами новой погрузочной машины «ГНЛ-60», ну и руководил, конечно. Алимов с Дебровым орудовали отбойными молотками и ставили временную крепь. А дядя Ваня с Колькой меняли эту временную крепь на постоянную, удлиняли с Лехиной помощью конвейер и подчищали лопатами то, что не захватывала машина.
В забое все они были как пальцы одной руки, а за воротами шахты разбегались в разные стороны. Чем занимались в свободное время Леха с Колькой, уже говорилось. Алимов больше всего любил пить чай со своими друзьями татарами и петь с ними народные песни. Семья у него была немаленькая: отец, мать, жена и шестеро детей, все девочки. Это хозяйство, как жернов, висело на его могучей шее, хотя, конечно, помогал огород, и скотину они кое-какую держали. Алимов, будучи строгих правил, очень уважал начальство, включая сюда и Ермолаева. Когда же тот выговаривал ему за подхалимаж, Муса сердился:
– Зачем обижаешь? Какой такой падхалим? Не падхалим, а уважаем тебя, потому что ты – большой человек, справедливый человек, денги много даешь!
Дядя Ваня вел бесконечную войну с супружницей за право свободной выпивки. Она этого права не признавала, поэтому дяде Ване приходилось все время маневрировать. Он имел несколько плоских фляжек, помещавшихся за голенищем, и свое богатство всегда носил с собой. Правда, в последнее время терпел поражение за поражением и часто появлялся со свежим фингалом на морщинистой физиономии. Подозревали, что он и в рабочее время себе позволяет, но поймать его никому еще не удавалось, тем более что он никогда окончательно не просыхал. Где и как жил Дебров, никто не знал. Сам он иногда упоминал какую-то «тетю Мотю», но кто она такая и кем ему приходилась, для всех оставалось загадкой. Вроде ничего особенного не делал человек, работал ударно, пьяным его ни разу не видели, даже, кажется, матом он почти не ругался. А вот – не любили его. И боялись. Каждый в глубине души уверен был, что Дебров этот настоящий злодей. Дело было не в том, что побывал он в местах заключения, таких в поселке хватало, а так, черт его знает в чем.
Хотя кое-кто мог бы поведать о нем немало интересного. Александр Александрович Скрынников, например. С ним вышла просто ужасная история. Получил он как-то в кассе довольно солидную сумму. Ему тогда разом выдали зарплату, отпускные за два года и квартальную премию. В сумме набралось около шести тысяч. Дважды пересчитав деньги, Александр Александрович аккуратно завернул их в газетку и засунул толстенький сверток во внутренний карман пиджака, который, в свою очередь, застегнул на все пуговицы. Не то чтобы он чего-то там опасался, а просто воспитан был в уважении к деньгам. Вышел, значит, он из конторы и пошел себе неторопливо по своей надобности. Погода выдалась замечательная, вокруг порядочно людей толкалось, которые вышли на воздух покурить или тоже пришли за жалованьем. Уже в воротах он напоролся на Деброва.
– Наше вам с кисточкой, как здоровье многоуважаемого гражданина начальника? – с блатной издевочкой приветствовал его уркаган. Злодейская его рожа кривилась в подлейшей ухмылке.
– Физкультпривет, – небрежно ответил Скрынников, намереваясь спокойно пройти мимо. Не тут то было! Волосатая ручища Деброва мягко, но крепко охватила его грудь, змеей заползла под пиджак. Одновременно слева, под ребра, ткнулось что-то очень острое.
– Тихо, сучара, не то враз уконтрапупим! – прошипела в ухо зловонная пасть. Рядом вдруг оказались два незнакомых небритых типа и загородили происходящее от глаз окружающих. Все случилось необыкновенно быстро. Начальник участка едва успел заметить, как Дебров сунул его деньги одному из незнакомцев, миг – и оба они как сквозь землю провалились. А Дебров остался. Отпустил только жертву и стоял, по-прежнему мерзко улыбаясь.
– Ч-что такое? Что ты делаешь? – прошептал Александр Александрович.
– Смотри, Сашка, чтобы никому… Стукнешь – не жить тебе больше на свете. Понял меня?
Пришлось кивнуть. Уркаган повернулся и неторопливо пошел в сторону бытовки. Скрынников услышал, как он громогласно поздоровался там с кем-то, как это вообще принято у подобной публики. Александр Александрович был крайне возмущен, хотел даже несмотря ни на что пойти и заявить, но, по здравому размышлению, ничего не предпринял.
Вслед за тем в поселке приключилось еще одно, гораздо более страшное дело. Слесарь Сичкин не вышел на работу. Не вышел он и в последующие дни, так что примерно через неделю начальство обеспокоилось. Человек он был семейный, малопьющий. И вдруг разнеслась страшная весть, что в овраге бродячие собаки раскопали мертвое его тело и сильно обгрызли, так что опознать его удалось только по обрывкам одежды. Милиция предприняла энергичные меры. Деброва, конечно, вызвали в первую очередь. Сам Василий Иванович Кирюхин, начальник отделения, показал ему фотографию того, что осталось от несчастного слесаря, и спросил:
– Признавайся, падла, твоя работа?
– Никак нет, гражданин начальник, – спокойно ответил Дебров, – не балуюсь я мокрухой, смыслу никакого нет, вот гляньте лучше сюда, – и он продемонстрировал свою расчетную книжку, где заработок был указан по три тыщи ежемесячно. И Василий Иванович ему поверил, подумал только: «Вот ведь какие деньжищи загребает, вошь лагерная. А тут всю свою жизнь без толку мучаешься…» Убитый слесарь даже ограблен не был, так что все на том и закончилось.
В ночную смену с субботы на воскресенье, в самую запарку, когда каждый видел только то, что делали его собственные руки, Колька, пробормотав что-то насчет клиньев, оставил дядю Ваню возиться с подгонкой только что поставленной ими рамы, а сам пружинистым шагом пробежал из забоя до того места, где пласт круто выклинивался. Крепь там была особо дрянная. Он остановился у загодя примеченной рамы, выключил фонарь, оглянулся. От волнения у него перехватило дыхание. Переноска, прицепленная над погрузочной машиной, ярко освещала голову ненавистного бригадира. Рядом колыхалась широкая спина Алимова. Чуть ближе по почве елозило пятно света от фонаря на каске Пилипенко. Запечатлев в мозгу эту мирную картину, Колька поднял «балду», нарочно оставленную им в том месте, одним ударом вышиб оголовник и прыгнул вперед. Но зацепился ногой за рештак и свалился, причем глубоко рассек лоб ограждающим листом, да еще, падающий оголовник задел его по макушке. Он попытался подняться, но тут треснула тонкая прослойка угля, специально оставленная над рамами, и поток сухого песка хлынул вниз, сразу же засыпав его. Как спички, одна за другой рамы пошли ломаться дальше по штреку, и когда песчаная река наконец остановилась, она заполнила его метров на двадцать. Конвейер встал. Оставшиеся в забое кинулись на место происшествия. Их встретила рыхлая масса желтого песочка, наглухо перекрывшая выход.
Все выглядело совсем не страшно, так что в первый момент никто из них не испугался. Ну, высыпалась куча песку, неприятно конечно, но не более того. Двухсотсвечовая переноска продолжала ярко гореть, освещая оставшееся им пространство. Алимов снял ее и поднес к завалу.
– А где Колька-то? – спросил он.
– Сюда вроде побег. Незадолго. Может, и проскочил, – угрюмо ответил Пилипенко.
– Да нет, не проскочил! Гляньте, сапог его из песка торчит! – с неуместной веселостью воскликнул Дебров.
Через несколько секунд все они лихорадочно копали. Только это было без толку. Вместо каждой вынутой лопаты сверху сыпалось две.
– Стой, робя! Эдак мы только сами себя зароем. – Прохрипел дядя Ваня. – Ну-ка, хватаемся разом!
Уцепившись вчетвером за сапог, они легко вытянули тело из кучи.
– Не дышит, кажись, – определил дядя Ваня.
– Готов! – подтвердил Дебров.
– Вы чего? Как это – готов? Быть того не может! – заорал Леха и принялся делать Кольке искусственное дыхание, как нарисовано на плакате. То есть попеременно разводить в стороны и резко сводить вместе Колькины руки. Через пять минут Леха взопрел, а Слежнев так и не ожил. Дебров сделал ему знак погодить и прижался мохнатой башкой к груди потерпевшего.
– Бьется. Вроде бы. Не, точно, бьется. Живой! – сообщил он.
Тогда «искусственное дыхание» взялся делать Алимов. Прошло еще пять минут, потом еще пять – Слежнев оставался неподвижным.
– Продолжай, Муса! Продолжай! Это не так просто, тут время требуется, – причитал Ермолаев.
– Амба! Теперь не оживет, – объявил, ухмыляясь, уркаган.
Алимов, не обращая внимания, продолжал. Минут через сорок Колька все еще не очнулся, хотя сердце его слабо билось.
– Эх, видать, придется другое средство применить, – туманно выразился дядя Ваня.
– Какое еще средство? – заинтересовался Дебров.
– Какое-какое? Народное, – и Пилипенко жестом заправского фокусника извлек фляжку из сапога.
– Ах ты, старый хрен, чего ж ты до сих пор-то молчал? – не сдержался бригадир.
– Правильно! Мы, значит, тут надрываемся, надрываемся, а ты, значит, молчал! – укоризненно покачал головой Муса.
– Да я было забыл про нее совсем, а тут гляжу… – пытался оправдываться дядя Ваня.
Кольке приподняли голову и влили в приоткрытый рот немного водки.
– Осторожнее, осторожнее, не пролейте, – переживал Пилипенко.
В горле у Слежнева забулькало, он дернулся, открыл глаза и в ужасе начал водить ими по сторонам. Потом жалко замычал, но закашлялся и забился в судорогах.
– Держи его, – скомандовал бригадир. Но держать никак не получалось, пока Муса не навалился на Кольку всем своим могучим телом.
– Ты, Муська, потише там. Он хоть и молодой, а все ж не девка, смотри, задавишь сгоряча, – принялся зубоскалить Дебров.
– Ты заткнись лучше давай, а то я тебя… – начал приподниматься Алимов, но Ермолаев подавил свару в зародыше. Слежнев успокоился, хотя выглядел жутко. Лицо и грудь его залиты были кровью, волосы тоже в крови, смешанной с песком, одежда разорвана. Он, похоже, ничего не соображал.
– Ништяк, Коленька, жить будешь! – хлопнул его по плечу дядя Ваня. Слежнев зарыдал. Сквозь судорожные всхлипывания можно было разобрать, что он всех благодарит и просит прощения.
– Да заткнись ты, и без тебя тошно! – рявкнул Дебров.
– Погибли мы теперь, пропали здеся, – надрывался Слежнев.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































