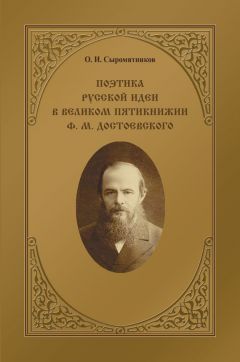
Автор книги: Олег Сыромятников
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 28 страниц)
Во второй части романа функция символического изображения России полностью переходит к образу Настасьи Филипповны и сохраняется вплоть до её смерти. Её образ приобретает универсальное значение, соединяя в себе черты всех женских образов, символизирующих будущую Россию: Он вмещает в себя красоту Аглаи, благородство Аделаиды и мужество Александры. И хотя её миссия – возрождать и спасать других[134]134
Анастасия – от др.‑греч. Ἀναστασία – воскресение, воскресшая.
[Закрыть], сейчас она сама нуждается в спасении. Вместе с тем образ Настасьи Филипповны приобретает и функцию центрального героя романа. Все события и отношения героев так или иначе оказываются связаны с ней и сразу заканчиваются с её смертью. Заметим, что смерть оказывается единственным выходом из трёх, казалось бы, разных вариантов будущей судьбы Настасьи Филипповны, олицетворяемых образами Мышкина, Рогожина и Гани.
Идея образа Гани предельно открыто выражена в первой части романа. Он говорит Мышкину о причине своего намерения жениться на Настасье Филипповне: «Я по страсти, по влечению иду, потому что у меня цель капитальная есть. Вы вот думаете, что я семьдесят пять тысяч получу и сейчас же карету куплю. Нет-с, я тогда третьегодний старый сюртук донашивать стану и все мои клубные знакомства брошу. У нас мало выдерживающих людей, хоть и все ростовщики, а я хочу выдержать. Тут, главное, довести до конца – вся задача! Птицын семнадцати лет на улице спал, перочинными ножичками торговал и с копейки начал; теперь у него шестьдесят тысяч, да только после какой гимнастики! Вот эту-то я всю гимнастику и перескочу и прямо с капитала начну; чрез пятнадцать лет скажут: «Вот Иволгин, король Иудейский». Вы мне говорите, что я человек не оригинальный. <…> Это, батюшка, меня давно уже бесит, и я денег хочу. Нажив деньги, знайте, – я буду человек в высшей степени оригинальный. Деньги тем всего подлее и ненавистнее, что они даже таланты дают. И будут давать до скончания мира. Вы скажете, это всё по-детски или, пожалуй, поэзия, – что ж, тем мне же веселее будет, а дело всё-таки сделается. Доведу и выдержу. Rira bien qui rira le dernier![135]135
Хорошо смеётся тот, кто смеется последним! (франц.).
[Закрыть]» [8; 105].
Своё отношение к этой идее Достоевский выражает особо подобранным именем героя. Его собственное имя (Гаврила) пародийно редуцировано писателем до «Гани», восходящего к глаголу «ганить»: «хаять, хулить, порицать, осуждать; позорить, срамить»[136]136
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. – СПб: ТОО «Диамант», 1996. – Т. 1. – С. 344.
[Закрыть]. В данном случае писатель повторил приём негативной стигмации, уже использованный им при создании образа Лужина: «Про Лужина: Я подлецом клеймлю…» [7; 206]. Очевидно, что путь Гани – путь стяжательства, алчности, жестокости и эгоизма – означает гибель для Настасьи Филипповны («А то бы зарезал, пожалуй…» [8; 146]), и потому она безоговорочно отвергает его. Но и с Рогожиным «ей непременная гибель» [8; 173], что Настасья Филипповна хорошо понимает. Казалось бы, спасение заключается лишь в Мышкине, но его бесплотный безблагодатный гуманизм может лишь какое-то время поддерживать гибнущую жизнь, но спасти её он не в силах: «Я знаю наверно, что она со мной погибнет, и потому оставляю её» [8; 363]. Действительно, тот, кто гибнет сам, не может спасти другого: «Если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму» (Мф .15:14).
Содержание русской и западной идеи раскрывается и в «теоретических» рассуждениях героев. По замечанию И. А. Битюговой, «в различных местах подготовительных материалов рассеяны упоминания рассказов князя о России, его суждений об аристократии и русском народе, речи о Западе и Востоке» [9; 366]. Например: «Остерегаться народа нашего – есть грех» [9; 221], «Серьёзные разговоры о России…» [9; 245], «Сравнение Запада с Востоком» [9; 256], «Сравнение заграницы с Россией» [9; 269], «Речи о Западе и Востоке» [9; 366] и пр.
Несмотря на то что подготовительные материалы к роману содержат множество мыслей (прямой речи, диалогов), каждая из которых могла бы стать идеей какого-либо персонажа, в окончательном тексте нет ни одного героя, которого без оговорок можно было бы назвать выразителем русской идеи. Лишь в самом конце романа Лизавета Прокофьевна произносит несколько слов, которые можно принять за выражение патриотических и славянофильских взглядов. После посещения Мышкина в лечебнице Шнейдера «бедной Лизавете Прокофьевне хотелось бы в Россию, <…> она желчно и пристрастно критиковала всё заграничное… <…> «Довольно увлекаться-то, пора и рассудку послужить. И всё это, и вся эта заграница, и вся эта ваша Европа, всё это одна фантазия, и все мы, за границей, одна фантазия… помяните моё слово, сами увидите!» – заключила она чуть не гневно, расставаясь с Евгением Павловичем» [8; 510]. Сам Евгений Павлович Радомский «намеревается очень долго прожить в Европе и откровенно называет себя «совершенно лишним человеком в России» [8; 508]. Но эти слова не дают оснований считать его выразителем западной идеи. Скорее, Радомский выражает русскую идею в её западническом варианте. Достоевский так определяет основную идею этого образа: «Блестящий характер, легкомысленный, скептический, настоящий аристократ, без идеала… <…>. Странная смесь хитрости, тонкости, рефлекса, насмешки, тщеславия…» [9; 273]; «Постоянно смеётся над Князем и потешается им. Скептик и неверующий. Ему всё в Князе искренно смешно, до самого последнего мгновения» [9; 274]. В итоге: «Ев<гений> П<авлови>ч – последний тип русского помещика-джентельмена» [9; 280][137]137
Впоследствии он будет продолжен в «Подростке» образом Версилова.
[Закрыть]. Основным средством выражения русской идеи в романе является собрание. Радомский и является организатором одного из таких собраний, посвящённого феномену русского либерализма. Здесь он выражает мысли, во многом разделяемые самим Достоев
ским: русские либералы являются выходцами из помещичьей или семинарской среды. При этом русский либерализм «есть нападение <…> на самую Россию». Русский либерал «дошёл до того, что отрицает самую Россию, то есть ненавидит и бьёт свою мать. Каждый несчастный и неудачный русский факт возбуждает в нём смех и чуть не восторг. Он ненавидит народные обычаи, русскую историю, всё. <…> Эту ненависть к России <…> иные либералы наши принимали чуть не за истинную любовь к отечеству и хвалились тем, что видят лучше других, в чём она должна состоять…» [8;277].
Заметим, что Радомский проговорил всё это с единственной целью – втянуть Мышкина в разговор и посмеяться над ним. Но Князь принял его слова серьёзно: «Искажение идей и понятий (общественной нравственности. – О. С.), встречающееся очень часто, есть гораздо более общий, чем частный случай, к несчастию» [8; 279]. Он утверждает, что имеет право так говорить, потому что полгода проездил по России, изучая её и русский народ. Он даже «ещё недавно в острогах был, и с некоторыми преступниками и подсудимыми <…> удалось познакомиться» [8; 280]. По словам Мышкина, многих прежних преступников, несмотря на всю тяжесть их преступлений, объединяло сознание совершённого греха. Но среди них уже появились новые, «которые не хотят себя даже считать преступниками и думают про себя, что право имели и… даже хорошо поступили… <…>. И заметьте, всё это молодёжь, то есть именно такой возраст, в котором всего легче и беззащитнее можно подпасть под извращение идей» [8; 280]. Последняя мысль, безусловно, принадлежит самому Достоевскому: «У наших же у русских, бедненьких, беззащитных мальчиков и девочек есть ещё свой, вечно пребывающий основной пункт, на котором ещё долго будет зиждиться социализм, а именно, энтузиазм к добру и чистота их сердец. Мошенников и пакостников между ними бездна. Но все эти гимназистики, студентики, которых ятак много видал, так чисто, так беззаветно обратились в нигилизм во имя чести, правды и истинной пользы! Ведь они беззащитны против этих нелепостей и принимают их как совершенство» [28, 2; 154].
Встреча с этими «мальчиками» происходит на другом собрании, инициатором которого выступает Лебедев, желающий столкнуть между собой выразителей западной и русской идеи. Главой первых выступил Ипполит Терентьев, а вторую предлагалось возглавить Мышкину. До начала разговора об убеждениях «группы Князя», в которую входили помимо него Лизавета Прокофьевна с мужем и дочерьми, князь Щ. и Радомский, ничего не было известно. А взгляды их оппонентов представил Лебедев, продемонстрировав удивительную осведомлённость: «Они не то чтобы нигилисты <…>, это другие-с, особенные <…>, они дальше нигилистов ушли-с. <…> Нигилисты всё-таки иногда народ сведующий, даже учёный, а эти – дальше пошли-с, потому что, прежде всего, деловые-с. Это, собственно, некоторое последствие нигилизма, но не прямым путём, а понаслышке и косвенно, и не в статейке какой-нибудь журнальной заявляют себя, а уж прямо на деле-с; не о бессмысленности, например, какого-нибудь там Пушкина дело идёт, и не насчёт, например, необходимости распадения на части России; нет-с, а теперь уже считается прямо за право, что если очень чего-нибудь захочется, то уж ни пред какими преградами не останавливаться, хотя бы пришлось укокошить при этом восемь персон-с» [8; 213–214].
Слова Лебедева обнаруживают глубочайший кризис общественного сознания, описание которого еще усиливает Лизавета Прокофьевна: «Сам защитник на суде объявлял, что ничего нет естественнее, как по бедности шесть человек укокошить, так уж и впрямь последние времена пришли. <…> Да этот косноязычный, разве он не зарежет (она указала на Бурдовского) <…>. Да побьюсь об заклад, что зарежет! Он денег твоих (Лизавета Прокофьевна обращается к Мышкину. – О. С.), десяти тысяч, пожалуй, не возьмёт, а ночью придет и зарежет, да и вынет их из шкатулки. По совести вынет! Это у него не бесчестно! Это «благородного отчаяния порыв», это «отрицание», или там чёрт знает что… Тьфу! Всё навыворот, все кверху ногами пошли» [8; 237]. Обращает на себя внимание деталь, блестяще вписанная автором в психологию сцены. Смысл нигилизма знает только чёрт, на которого Лизавета Прокофьевна и плюёт («Тьфу!»)[138]138
Заметим, что в обряде таинства крещения это действие, имеющее символический характер, повторяется троекратно.
[Закрыть]. И далее следует обличение: «Сумасшедшие! Тщеславные! В Бога не веруют, в Христа не веруют! Да ведь вас до того тщеславие и гордость проели, что кончится тем, что вы друг друга переедите, это я вам предсказываю. И не сумбур это, и не хаос, и не безобразие это?» [8; 238]. Она верно определила духовное состояние «нигилистов»: «Они все с ума спятили от гордости и тщеславия» [8; 267][139]139
Именно этот хаос и безобразие (т. е. уничтожение в человеке образа Бога) устроят бесы в следующем романе Достоевского.
[Закрыть].
Сам Мышкин не вмешивается в разговор, а лишь отвечает на обращённые к нему вопросы, всеми силами стараясь избежать конфликта: «Уверяю вас, что Горские и Даниловы только случаи, а эти только… ошибаются…» [8; 214]. И действительно, пришедшие нигилисты оказались вполне безобидными, а тот, кто считался их главным идеологом, вызывал лишь жалость. Более того, выяснилось, что в этом «главном нигилисте» собственно нигилизма-то и нет. Он даже признался Лизавете Прокофьевне, что, зная её лишь по рассказам Коли Иволгина, «даже немножко любил её» [8; 239]. Эти слова поразительны, так как говорят о подлинном христианском чувстве любви, когда человек способен любить другого человека, даже не видя и не зная его.
Образ Ипполита во многом типичен для творчества Достоевского. Это – представитель молодого, нового поколения России, обладающий множеством положительных качеств, но уже отравленный духовным ядом. Идея этого типа – бунт против несправедливо устроенного мира. По сравнению с другими подобными героями великого пятикнижия этот бунт предельно обострён ситуацией скорой неотвратимой гибели Ипполита. Нигилизм становится для него средством борьбы против несовершенства мира и одновременно скрывает ещё во многом чистую душу Ипполита, сохраняющего даже черты детской чистоты и непосредственности: «Он улыбнулся какою-то детскою улыбкой» [8; 247]; «Закрыл лицо руками и заплакал, как маленькое дитя» [8; 247]. Достоевский не случайно использует слово «дитя», а не «ребёнок», что существенно приближает сказанное к Евангелию: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф. 18:3). Лизавета Прокофьевна утешает его: «Ну, не плачь же, ну, довольно, ты добрый мальчик, тебя Бог простит, по невежеству твоему…» [8; 248].
Ипполит действительно не ведает, не понимает ни себя, ни окружающего мира, потому что его разум уже ослеплён безверием. Невозможность обретения смысла жизни и спасения оборачивается бунтом против видимой бессмысленности происходящего: «Да, природа насмешлива! Зачем она <…> создаёт самые лучшие существа с тем, чтобы потом насмеяться над ними?». Сейчас Ипполит имеет в виду не себя, он говорит о Христе: «Сделала же она так, что единственное существо, которое признали на земле совершенством… сделала же она так, что, показав его людям, ему же и предназначила сказать то, из-за чего пролилось столько крови, что если б пролилась она вся разом, то люди бы захлебнулись, наверно! О, хорошо, что я умираю! Я бы тоже, пожалуй, сказал какую-нибудь ужасную ложь, природа бы так подвела!..» [8; 247].
Для Ипполита Христос не Бог, а лишь «совершенный», высоконравственный человек. Поэтому он не видит разницы между собой и Им: «Я хотел жить для счастья всех людей, для открытия и возвещения истины…» [8; 247]. Искренняя жажда истины и невозможность найти её без веры в Бога приводит к отчаянию: «Стало быть, не нужен, стало быть, дурак, стало быть, пора! И никакого-то воспоминания не сумел оставить! Ни звука, ни следа, ни одного дела, не распространил ни одного убеждения!.. <…>. Знаете ли вы, что, если бы не подвернулась эта чахотка, я бы сам убил себя…» [8; 247–248]. Слова Ипполита обнаруживают глубокую трагедию человека, сознающего в себе образ Божий, гибнущий под давлением разума, отравленного ядом безбожия и рационализма. Трагедия еще усиливается тем, что порой живая часть души разжимает оковы разума, и тогда Ипполит умоляет Лизавету Прокофьевну: «У меня там <…> брат и сёстры, дети, маленькие, бедные, невинные. <…> Вы – святая, вы… сами ребёнок, – спасите их! <…> О, помогите им, помогите, вам Бог воздаст за это сторицею, ради Бога, ради Христа!» [8; 248].
Лишь приближающаяся смерть пробудила в Ипполите живое религиозное чувство и помогла увидеть подлинную сущность того, во что он прежде верил как в непреложную истину, – природу. Теперь она «мерещится» ему «в виде какого-то огромного, неумолимого и немого зверя или, вернее, гораздо вернее сказать, хоть и странно, – в виде какой-нибудь громадной машины новейшего устройства, которая бессмысленно захватила, раздробила и поглотила в себя, глухо и бесчувственно, великое и бесценное существо – такое существо, которое одно стоило всей природы и всех законов её, всей земли, которая и создавалась-то, может быть, единственно для одного только появления этого существа!» [8; 339].
Ипполит не может поверить в Бога, потому что не хочет сломить свою гордость и смириться перед Его волей. Он решает прожить сам, без Бога, но, отходя от Него, Ипполит вольно или невольно приближается к Его врагу. И скоро дьявол начинает захватывать его душу: «Может ли мерещиться в образе то, что не имеет образа? Но мне как будто казалось временами, что я вижу, в какой-то странной и невозможной форме, эту бесконечную силу, это глухое, тёмное и немое существо. Я помню, что кто-то будто бы повёл меня за руку, со свечкой в руках, показал мне какого-то огромного и отвратительного тарантула и стал уверять меня, что это то самое тёмное, глухое и всесильное существо, и смеялся над моим негодованием» [8; 340][140]140
Так же и Ставрогин, не веря в Бога, верит в дьявола и даже видит его [11; 9–10].
[Закрыть]. Очевидно, что Ипполит находится под властью той же силы, что заставила Раскольникова поднять топор и руководила Мышкиным в Швейцарии. Для её обозначения Достоевский использует одну и ту же цитату из Евангелия, называющего «немым и глухим» существом сатану (Мк. 9:25). Но здесь этот образ ещё усилен упоминанием «зверя», которым Священное Писание обозначает антихриста (Откр. 11:7).
Для человека, уверенного в том, что после гибели Бога «всё подчинено» Его врагу, который был «человекоубийца от начала» (Ин. 8:44), жизни и воскресения уже нет. Земная жизнь превращается для него в жестокое и бессмысленное страдание. Поэтому Ипполит жалеет лишь о том, что не успел взять от нее всё возможное, и видит главную несправедливость в том, что умирает молодым. Ведь если Бога нет, то человек может занять Его место и жить так, как хочет, не оглядываясь на закон, умерший вместе с Богом. Именно эта мысль и вызывает у Ипполита приступы жестокой мизантропии: если человек живёт, и при этом он беден, голоден, несчастен и нищ, в этом виноват лишь он сам: «Коли он живёт, стало быть, всё в его власти! Кто виноват, что он этого не понимает?»; «Зачем же он сам не Ротшильд? Кто виноват, что у него нет миллионов, как у Ротшильда?» [8; 326–327]. Эти мысли прямо продолжают рассуждения Раскольникова, когда он, так же отвергнув Бога, попытался занять Его место: «Любопытно, чего люди больше боятся? Нового шага, нового собственного слова они всего больше боятся…» [6; 6]; «Тварь ли я дрожащая или право имею…» [6; 322] и т. д.
Видение Ипполита имеет и другой символический смысл. Образ человека со свечой в руке – архетипичный для христианской экзегетики символ ангела, несущего свет истины. Однако ангелы никогда не смеются над человеком, и потому существо, которое увидел Ипполит, не является посланником Бога. Скорее всего, истина была открыта Ипполиту именно в той форме, в какой он был готов её принять. Он увидел образ «просветителя», открывающего некую «тайну природы», при ближайшем рассмотрении оказавшуюся не чем иным, как смертью. Она уже вошла в душу Ипполита, и потому, как только «тарантул» исчезает, его место занимает Рогожин, ставший демоном смерти. То, что смерть (или даже сам её хозяин) явилась ему в таком странном, неприглядном виде, оскорбило Ипполита[141]141
Так же оскорбляется и Иван Карамазов, которому сатана явился в образе приживальщика.
[Закрыть]. И он доводит свой бунт против всякой жизни до конца: «Нельзя оставаться в жизни, которая принимает такие странные, обижающие меня формы. Это привидение меня унизило. Я не в силах подчиняться тёмной силе, принимающей вид тарантула» [8; 341]. Но на самом деле его желание убить себя есть не что иное, как подчинение этой силе.
Для Ипполита нет спасения, потому что он не может покаяться пред Богом в совершённых грехах и принять Его волю с любовью и безо всяких условий: «Просить прощения мне не у кого и не в чём…» [8; 342]. Он горделиво, подобно Ивану Карамазову, готов допустить существование Бога как некой «высшей силы» [8; 343], но категорически отказывается принять мир таким, какой он есть, и не желает смириться перед волей Провидения, хотя и признаёт его необходимость. И потому «если бы я имел власть не родиться, то наверно не принял бы существования на таких насмешливых условиях. Но я ещё имею власть умереть, хотя отдаю уже сочтённое. Не великая власть, не великий и бунт» [8; 344].
Заметим, что из всех «нигилистов», пришедших к Мышкину, лишь племянник Лебедева, Антип Бурдовский, может действительно считаться выразителем западной идеи. В своем стремлении обогатиться, устроиться в жизни он не гнушается никакими средствами, прикрывая их, при необходимости, «прогрессивной» фразеологией. И в этом он наиболее близок Лужину («Преступление и наказание») и Гане, каким тот был в первой части романа до идейного синтеза.
* * *
Наиболее полно русская идея в романе выражается в сцене собрания в салоне Лизаветы Прокофьевны. Ему предшествовала своеобразная «репетиция», на которой Мышкин говорил много, и «всё это были такие серьёзные, такие даже мудреные иногда мысли. Князь изложил даже несколько своих взглядов, своих собственных затаённых наблюдений…» о «смертной казни, <…> об экономическом состоянии России, или о том, что мир спасёт красота» [8; 429, 436]. На собрание съехался тот самый «свет», в который князь «давно уже вследствие некоторых особенных намерений, соображений и влечений своих жаждал проникнуть…» [8; 442]. Полагаем, что эти «намерения» связаны с тем же самым желанием проповедовать и «поучать», которое Мышкин обнаружил на первом собрании у Епанчиных. Скоро обнаружилось, что бывший опекун Князя, Николай Андреевич Павлищев, «человек родовой, с состоянием, камергер <…>, бросает вдруг службу и всё, чтобы перейти в католицизм и стать иезуитом, да ещё чуть не открыто, с восторгом каким-то» [8; 449]. Сам по себе факт перехода образованных русских людей в католичество был хоть и редким, но всё же не уникальным явлением[142]142
Газеты той поры сообщали, что так же поступили П. Я. Чаадаев, В. С. Печерин и некоторые другие довольно известные люди.
[Закрыть]. Оказалось, что Павлищев стал жертвой прозелитической деятельности иезуита аббата Гуро. Сообщивший эту новость Иван Петрович припоминает, что и «графиня К. тоже, говорят, пошла в какой-то католический монастырь за границей» [8; 450]. Он замечает, что «наши (т. е. русские люди. – О. С.) как-то не выдерживают, если раз поддадутся этим… пронырам… особенно за границей» [8;450]. Князь поражён этим известием. Он помнил, что Павлищев был «светлый ум и христианин, истинный христианин <…>, как же мог он подчиниться вере… нехристианской?.. Католичество – всё равно что вера нехристианская!» [8; 450]. Далее следуют значительные по объёму и публицистические по характеру высказывания, явно отражающие убеждения самого Достоевского, который лишь несколько обрабатывает их стилистически, придавая эмоциональную яркость: «Нехристианская вера <…>, это во-первых, а во-вторых, католичество римское даже хуже самого атеизма, таково моё мнение! Да! таково моё мнение! Атеизм только проповедует нуль, а католицизм идёт дальше: он искажённого Христа проповедует, им же оболганного и поруганного, Христа противоположного! Он антихриста проповедует, клянусь вам, уверяю вас! Это моё личное и давнишнее убеждение, и оно меня самого измучило… Римский католицизм верует, что без всемирной государственной власти Церковь не устоит на земле, и кричит: «Non possumus!»[143]143
«Не можем!» (лат.).
[Закрыть]. По-моему, римский католицизм даже и не вера, а решительно продолжение Западной Римской империи, и в нём всё подчинено этой мысли, начиная с веры. Папа захватил землю, земной престол и взял меч; с тех пор всё так и идёт, только к мечу прибавили ложь, пронырство, обман, фанатизм, суеверие, злодейство, играли самыми святыми, правдивыми, простодушными, пламенными чувствами народа, всё, всё променяли за деньги, за низкую земную власть. И это не учение антихристово?! Как же было не выйти от них атеизму? Атеизм от них вышел, из самого римского католичества! Атеизм прежде всего с них самих начался… <…>. Он порождение их лжи и бессилия духовного! Атеизм! У нас не веруют ещё только сословия исключительные <…>, корень потерявшие; а там, в Европе, уже страшные массы самого народа начинают не веровать, – прежде от тьмы и от лжи, а теперь уже из фанатизма, из ненависти к Церкви и ко христианству!» [8; 450–451]. Таким образом, в словах Мышкина западная идея предстаёт как идея мирового господства автократичной религиозной организации, имеющей вид христианской Церкви.
Развивая свою идею, князь утверждает: «Ведь и социализм – порождение католичества и католической сущности! Он тоже, как и брат его атеизм, вышел из отчаяния, в противоположность католичеству в смысле нравственном, чтобы заменить собой потерянную нравственную власть религии, чтоб утолить жажду духовную возжаждавшего человечества и спасти его не Христом, а тоже насилием! Это тоже свобода чрез насилие, это тоже объединение чрез меч и кровь! «Не смей веровать в Бога, не смей иметь собственности, не смей иметь личности, fraternité ou la mort, два миллиона голов!». По делам их вы узнаете их – это сказано!» [8; 451][144]144
Речь идёт о словах Христа: «По плодам их узнаете их» (Мф. 7:16).
[Закрыть].
От обличения западной идеи Князь переходит к проповеди русской идеи: «И не думайте, чтоб это было всё так невинно и бесстрашно для нас; о, нам нужен отпор, и скорей, скорей! Надо, чтобы воссиял в отпор Западу наш Христос, которого мы сохранили и которого они и не знали! Не рабски попадаясь на крючок иезуитам, а нашу русскую цивилизацию им неся, мы должны теперь стать пред ними» [8; 451–452].
Словами Князя Достоевский обнаруживает причину появления нигилизма в России: «Наши как доберутся до берега, как уверуют, что это берег, то уж так обрадуются ему, что немедленно доходят до последних столпов; отчего это? <…>. И не нас одних, а всю Европу дивит в таких случаях русская страстность наша: у нас коль в католичество перейдёт, то уж непременно иезуитом станет, да ещё из самых подземных; коль атеистом станет, то непременно начнёт требовать искоренения веры в Бога насилием, то есть, стало быть, и мечом! Отчего это, отчего разом такое исступление? <…> Оттого, что он отечество нашёл, которое здесь просмотрел, и обрадовался; берег, землю нашёл и бросился её целовать! Не из одного ведь тщеславия, не всё ведь от одних скверных тщеславных чувств происходят русские атеисты и русские иезуиты, а и из боли духовной, из жажды духовной, из тоски по высшему делу, по крепкому берегу, по родине, в которую веровать перестали, потому что никогда её и не знали! Атеистом же так легко сделаться русскому человеку, легче чем всем остальным во всём мире! И наши не просто становятся атеистами, а непременно уверуют в атеизм, как бы в новую веру, никак и не замечая, что уверовали в нуль. Такова наша жажда! «Кто почвы под собой не имеет, тот и Бога не имеет. <…> Кто от родной земли отказался, тот и от Бога своего отказался»» [8; 451–452].
В этих словах, без сомнения, слышны «почвеннические» убеждения самого Достоевского. Князь продолжает: «Ведь подумать только, что у нас образованнейшие люди в хлыстовщину даже пускались… Да и чем, впрочем, в таком случае хлыстовщина хуже, чем нигилизм, иезуитизм, атеизм? Даже, может, и поглубже ещё! Но вот до чего доходила тоска!.. Откройте жаждущим и воспалённым Колумбовым спутникам берег Нового Света, откройте русскому человеку русский Свет, дайте отыскать ему это золото, это сокровище, сокрытое от него в земле! Покажите ему в будущем обновление всего человечества и воскресение его, может быть, одною только русскою мыслью, русским Богом и Христом, и увидите, какой исполин могучий и правдивый, мудрый и кроткий вырастет пред изумлённым миром, изумлённым и испуганным, потому что они ждут от нас одного лишь меча, меча и насилия, потому что они представить себе нас не могут, судя по себе, без варварства. И это до сих пор, и это чем дальше, тем больше!» [8; 453].
Наконец Мышкин обнаруживает свою главную цель: «Вы думаете, я утопист? Идеолог? <…> Что в том, что на одного передового такая бездна отсталых и недобрых? В том-то и радость моя, что я теперь убеждён, что вовсе не бездна, а всё живой материал!» [8; 458]. В Мышкине заговорил тот проповедник, которого Достоевский показал в начале романа. Он заявляет собравшимся: «Я боюсь за вас, за вас всех и за всех нас вместе. <…> Я, чтобы спасти всех нас, говорю, чтобы не исчезло сословие даром, в потёмках, ни о чём не догадавшись, за всё бранясь и всё проиграв. Зачем исчезать и уступать другим место, когда можно остаться передовыми и старшими? Будем передовыми, так будем и старшими. Станем слугами, чтоб быть старшинами» [8; 458]. Мышкин искажённо цитирует Евангелие: «Больший из вас да будет вам слуга» (Мф. 23:11), – и призывает к смирению: «По-моему, быть смешным даже иногда хорошо, да и лучше: скорее простить можно друг другу, скорее и смириться; не всё же понимать сразу, не прямо же начинать с совершенства! Чтобы достичь совершенства, надо прежде многого не понимать!» [8; 458]. Эти слова восходят к Нагорной проповеди Христа: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Мф. 5:3), – то есть только сознающие собственное несовершенство люди могут обрести счастье и бессмертие, если приложат к этому необходимые усилия, исполняя заповедь: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5:48) и «Царствие Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11:12).
Однако Мышкин проповедует евангельские идеи, ни разу не упомянув ни о Христе, ни о Святой Троице. Очевидно, что он не нуждается в этом, потому что заканчивает свою речь пантеистическим призывом в духе Руссо и Толстого: «Я не понимаю, как можно проходить мимо дерева[145]145
В поэтике Толстого дерево (и природа в целом) является символом совершенной, единственно правильной жизни (См., напр., «Три смерти», 1858).
[Закрыть] и не быть счастливым, что видишь его? Говорить с человеком и не быть счастливым, что любишь его! О, я только не умею высказать… а сколько вещей на каждом шагу таких прекрасных, которые даже самый потерявшийся человек находит прекрасными? Посмотрите на ребёнка, посмотрите на Божию зарю, посмотрите на травку, как она растёт, посмотрите в глаза, которые на вас смотрят и вас любят…» [8; 459]. Мышкин не указывает путь к спасению от смерти и обретению бессмертия, а говорит о земном человеческом рае, наследуя эвдемонистическую традицию европейского Просвещения.
Ещё в Швейцарии князь мечтал о том, как сможет спасти Россию. Поэтому он сразу узнаёт ее в образе Настасьи Филипповны: «Я вас тоже будто видел где-то. <…> Я ваши глаза точно где-то видел… да этого быть не может! Это я так… Я здесь никогда и не был. Может быть, во сне…» [8; 90]. И она уже давно ждала того, кто поможет ей спастись: «Что это, в самом деле, я как будто его где-то видела?» [8; 89]. Мышкин «искренно верил, что она может ещё воскреснуть. <…> И в любви его к ней заключалось действительно как бы влечение к какому-то жалкому и больному ребёнку, которого трудно и даже невозможно оставить на свою волю» [8; 489]. Но он никому не может помочь, потому что пытается противопоставить реальности мира иллюзорные благие намерения, не связанные ни с планами Божественного домостроительства, ни с социальными закономерностями. Не имея ясных критериев истины, добра и красоты, явленных в Богочеловеческой личности Христа, Мышкин не имеет и воли для их утверждения в жизни и потому приносит окружающим лишь страдания. Личной судьбой своего героя Достоевский опровергает возможность движения России по пути, указанном европейской просветительской философией, изгоняющей из человеческого бытия Бога и утверждающей на Его месте самого человека. В этой дьявольской лжи, обращённой к человеческой гордыне, сокрыта неизбежная гибель, ибо, говорит Господь, «без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15:5).
* * *
По словам самого автора, «Идиот» – самое неудачное его произведение: «Романом я не доволен; он не выразил и 10‑й доли того, что я хотел выразить, хотя всё-таки я от него не отрицаюсь и люблю мою неудавшуюся мысль до сих пор» [29, 1; 10]. Заметим, что к моменту начала работы в творческом сознании писателя в законченном виде существовала лишь первая часть романа, которая и стала его внешней идеей: от встречи Мышкина и Рогожина в поезде до окончания праздника в доме Настасьи Филипповны. Форму внешней идеи образует сюжет сватовства Гани, Рогожина и Мышкина к Настасье Филипповне. Содержанием внешней идеи является жизнь «положительно прекрасного человека» (Мышкина) в реальном мире.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































