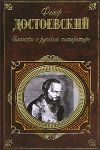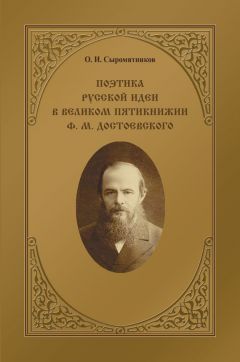
Автор книги: Олег Сыромятников
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 28 страниц)
Иван навсегда покидает Смердякова и возвращается домой, по пути поднимая из снега сбитого им с ног пьяного мужичка, лежащего без чувств: «Иван вдруг схватил его и потащил на себе» [15; 69]. Повторяя подвиг смиренного самарянина (Лк. 10:30–35), он пристраивает мужичка в полицейской части, жертвуя на его содержание и медицинскую помощь три рубля. Смерть осталась позади. Впереди – тяжкий путь искупительного страдания. Но для того, чтобы идти им, мало одного своего желания. Необходима вера, соединяющая человека с Богом и дающая силы для новых шагов по пути спасения. Но у Ивана такой веры нет, поэтому все его силы ушли на первый шаг и сделать второй – немедленно сообщить обо всём прокурору – он уже не смог.
Православная аскетика знает, что когда грешник становится на путь спасения, все силы ада ополчаются на него, надеясь столкнуть во мрак греха и смерти. Это и произошло с Иваном. Он ушёл от Смердякова, но ему некуда пойти, своего дома у Ивана нет[288]288
Для Алексея таким вторым домом стал монастырь.
[Закрыть].
Он живёт в доме отца, давно ставшем преддверием ада. И потому, когда Иван «вступил в свою комнату, что-то ледяное прикоснулось вдруг к его сердцу, как будто воспоминание, вернее, напоминание о чём-то мучительном и отвратительном, находящемся именно в этой комнате теперь, сейчас, да и прежде бывшем» [15; 69]. Ивану явился сам сатана с тем, чтобы заставить его отказаться от публичного покаяния и столкнуть с пути спасения. Сердце Ивана уже узнало возможность живой жизни и устремилось к ней, но дьявол пытается поколебать уверенность Ивана в правоте выбранного пути: «И добро бы ты <…> в добродетель верил… Но ведь ты поросёнок, как Фёдор Павлович, и что тебе добродетель? Для чего же ты туда потащишься, если жертва твоя ни к чему не послужит? А потому что ты сам не знаешь, для чего идёшь! О, ты бы много дал, чтоб узнать самому, для чего идёшь! И будто ты решился? Ты ещё не решился. Ты всю ночь будешь сидеть и решать: идти или нет? Но ты всё-таки пойдёшь и знаешь, что пойдёшь, сам знаешь, что как бы ты ни решался, а решение уж не от тебя зависит. Пойдёшь, потому что не смеешь не пойти» [15; 88].
Дьявол пытается сыграть на самолюбии Ивана, вновь разбудить в нём гордость и подтолкнуть к бунту против Бога, а когда это не удаётся, начинает исподволь подсовывать ему мысль о самоубийстве: «Но колебания, но беспокойство, но борьба веры и неверия – это ведь такая иногда мука для совестливого человека, вот как ты, что лучше повеситься» [5; 80]. Он знает, что совесть – последнее, что может помочь Ивану спастись, и потому пытается перерезать эту нить, соединяющую человека с Богом, говоря, что совесть – часть человека, и потому он вполне может отказаться от неё, как от старой ненужной привычки: «Отвыкнем и будем боги» [15; 87][289]289
Эти слова воспроизводят сцену первого искушения дьяволом человека: «И сказал змей <…>: вы будете, как боги…» (Быт. 3:4–5).
[Закрыть].
Наконец, дьявол обращается к последнему средству. Он напоминает о том, что Иван уже сделал против Бога, намекая на то, что ему не удастся получить прощение. Сначала дьявол говорит о сочинённой Иваном поэме «Великий инквизитор», а затем пересказывает его другое сочинение под названием «Геологический переворот», о котором до этого момента ничего не было известно. В нём говорится о том, что рано или поздно в человечестве совершенно исчезнет вера в Бога. И наступление этой эпохи, по мысли Ивана, так же неизбежно и закономерно, как «геологический переворот». Оставшись без Бога, «человек возвеличится духом божеской, титанической гордости и явится человеко-бог» [15; 83]. А так как неизвестно, когда именно это произойдёт, «то всякому, сознающему уже и теперь истину, позволительно устроиться совершенно как ему угодно, на новых началах. В этом смысле ему «всё позволено». Мало того: если даже период этот и никогда не наступит, но так как Бога и бессмертия всё-таки нет, то новому человеку позволительно стать человеко-богом, даже хотя бы одному в целом мире, и, уж конечно, в новом чине, с лёгким сердцем перескочить всякую прежнюю нравственную преграду прежнего раба-человека, если оно понадобится» [15; 84].
Сатана вновь поворачивает душу Ивана к тому, от чего он недавно с таким трудом отрёкся. И когда противостоять ему уже нет сил, Господь посылает на помощь Ивану брата Алексея с вестью о самоубийстве Смердякова. О том, что Иван был в этот момент на самом краю гибели, говорит картина, нарисованная Достоевским. Услышав стук, Иван «хотел было кинуться к окну (в которое стучит Алексей. – О. С.); но что-то как бы вдруг связало ему ноги и руки. Изо всех сил он напрягался как бы порвать свои путы, но тщетно. Стук в окно усиливался всё больше и громче. Наконец вдруг порвались путы…» [15; 84]. Внезапно Иван понимает, что именно произошло: «Он тебя испугался, тебя, голубя. Ты «чистый херувим»» [15; 85][290]290
Эта сцена является аллюзией к Откровению св. Иоанна Богослова, в котором Господь говорит: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3:20).
[Закрыть].
Посланник Бога отогнал врага рода человеческого, но борьба за душу Ивана ещё не окончена, и Алексей остаётся ночевать рядом с братом. Засыпая, он «помолился о Мите и об Иване. Ему становилась понятною болезнь Ивана: «Муки гордого решения, глубокая совесть!» Бог, которому он не верил, и правда Его одолевали сердце, всё еще не хотевшее подчиниться. «Да, – неслось в голове Алёши, уже лежавшей на подушке, – да, коль Смердяков умер, то показанию Ивана никто уже не поверит; но он пойдёт и покажет!» – Алёша тихо улыбнулся: «Бог победит!» – подумал он. – «Или восстанет в свете правды, или… погибнет в ненависти, мстя себе и всем за то, что послужил тому, во что не верит», – горько прибавил Алеша и опять помолился за Ивана» [15; 89].
К несчастью, дьявол был прав: тяжесть греха Ивана была велика, а времени на покаяние и обретение веры не осталось. Надеясь лишь на себя и не имея благодатной помощи Свыше, Иван проиграл битву с дьяволом. Поэтому когда на следующий день он пришёл на суд, это был суд Дмитрия, а приговор его, Ивана: «Было в этом лице что-то как бы тронутое землёй, что-то похожее на лицо помирающего человека. Глаза были мутны; он поднял их и медленно обвёл ими залу» [15; 115]. Достоевский показывает человека, оказавшегося один на один с силами зла и побеждённого ими. И хотя Иван всё же публично признался в преступлении, сломить свою гордость и освободиться от не-доверия к Богу он так и не смог. Поэтому вместо смиренного покаяния начинается новый бунт: Смердяков ««убил отца, <…> а я его научил убить… Кто не желает смерти отца? <…> И все эти… р-рожи! <…> Убили отца, а притворяются, что испугались», – проскрежетал он с яростным презрением» [15; 117].
Покаяние может быть очистительным и спасительным лишь когда соединяется со смирением перед волей Божией: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (Иак. 4:6). Дьявол долго вскармливал и укреплял гордыню в душе Ивана, пока она не подчинила себе и его разум, и волю, и чувства. Сломать клетку гордыни и тем вырваться из власти дьявола своими силами Иван уже не может. Последняя попытка освободиться лишь обнаружила то, что он себе не принадлежит: когда беснование стало очевидным и его «схватили, <…> он завопил неистовым воплем. И всё время, пока его уносили, он вопил и выкрикивал что-то несвязное» [15; 118].
Болезнь духа обратилась на душу и тело, как это было с Раскольниковым, со Ставрогиным и с Версиловым. Но итог болезни Ивана не столь очевиден, как у его предшественников по великому пятикнижию. Автор лишь намекает, что Ивана ждёт какая-то новая жизнь, но «это всё могло бы послужить канвой уже иного рассказа, другого романа, который и не знаю, предприму ли ещё когда-нибудь» [14; 48]. Принимая во внимание общее направление православного гуманизма Достоевского, можно предположить, что Ивана ждёт судьба Раскольникова, о которой говорится в эпилоге «Преступления и наказания»: «Это новая история, история постепенного обновления человека, история постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой, знакомства с новою, доселе совершенно неведомою действительностью» [6; 422][291]291
О правомерности подобного предположения говорит и идея третьего романа великого пятикнижия: «Бесы вышли из русского человека и вошли в стадо свиней, то есть в Нечаевых, в Серно-Соловьевичей и проч. Те потонули или потонут наверно, а исцелившийся человек, из которого вышли бесы, сидит у ног Иисусовых. Так и должно было быть» [29, 1; 145].
[Закрыть].
Образ Дмитрия Карамазова, по словам прокурора Ипполита Кирилловича, «в противоположность «европеизму» и «народным началам» братьев своих (выражаемых Иваном и Алексеем. – О. С.), <…> как бы изображает собою Россию непосредственную – о, не всю, не всю, и Боже сохрани, если бы всю! <…> О, мы непосредственны, мы зло и добро в удивительнейшем смешении, мы любители просвещения и Шиллера и в то же время мы бушуем по трактирам… О, и мы бываем хороши и прекрасны, но только тогда, когда нам самим хорошо и прекрасно. Напротив, мы даже обуреваемы <…> благороднейшими идеалами, но только с тем условием, чтоб они достигались сами собою, упадали бы к нам на стол с неба и, главное, чтобы даром, даром, чтобы за них ничего не платить. Платить мы ужасно не любим, зато получать очень любим, и это во всём. О, дайте, дайте нам всевозможные блага жизни (именно всевозможные, дешевле не помиримся) и особенно не препятствуйте нашему нраву ни в чём, и тогда и мы докажем, что можем быть хороши и прекрасны. Мы не жадны, нет, но, однако же, подавайте нам денег, больше, больше, как можно больше денег, и вы увидите, как великодушно, с каким презрением к презренному металлу мы разбросаем их в одну ночь в безудержном кутеже. А не дадут нам денег, так мы покажем, как мы их сумеем достать, когда нам очень того захочется» [15; 128].
Духовный мир Дмитрия раскрывается в его диалоге с Алексеем, названном автором «Исповедь горячего сердца» [14; 93–106]. Основную черту этого мира образует предельная актуализация карамазовского сладострастия – жажды наслаждения жизнью. Сладострастие двигало многими поступками и других героев великого пятикнижия (например, Ставрогина и Версилова), но у Дмитрия чувство неизъяснимого и ненасытимого блаженства рождается от соприкосновения с красотой: «Это – бури, потому что сладострастье буря, больше бури! Красота – это страшная и ужасная вещь! Страшная, потому что неопределимая, а определить нельзя потому, что Бог задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут. <…> Перенести я притом не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским. Ещё страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его и воистину, воистину горит, как и в юные беспорочные годы. Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил. <…> Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В содоме ли красота? <…> В содоме-то она и сидит для огромного большинства людей… Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей» [14; 100].
Исход этой битвы зависит от того, на чьей стороне сам человек. Дмитрию, как Ивану и многим другим «сильным» героям Достоевского, казалось, что они могут справиться с любой жизненной ситуацией, опираясь лишь на свои силы и руководствуясь не столько каким-либо внешним (Божественным или человеческим) законом, сколько собственной совестью. Это могло бы быть так, если бы человек действительно рождался совершенным, как полагали европейские «гуманисты». Хотя и в этом случае совесть нуждалась бы в постоянной коррекции по какому-то эталону, так как под воздействием внешних обстоятельств «совершенная» природа человека неизбежно бы деформировалась. Этим идеям европейского гуманизма Достоевский противопоставляет православную антропологию, согласно которой первоначальная богоданная природа человека была повреждена первым, а затем родовым и личным грехом. В результате совесть утратила связь со своим источником – Богом, стала ошибаться и допускать преступления: «Совесть без Бога есть ужас, она может заблудиться до самого безнравственного» [27; 56].
Иван и Дмитрий по-разному не верят в Бога, но одинаково не доверяют Ему. Не принимая Божественного мироустройства, они пытаются жить по собственному нравственному закону. Иван создаёт его на основе теории «высших» и «низших» людей и вытекающем из неё праве «высших» на мировое господство, а Дмитрий выстраивает свой «закон» из субъективных представлений о добре, зле, чести и т. п. Заметим, что история человечества знает немало подобных попыток нравственного обособления личности[292]292
Например, в учении Б. Спинозы и И. Канта.
[Закрыть]. Их опыт свидетельствует о том, что, сколь бы логически непогрешимо автономная мораль ни выглядела в теории, она мгновенно разваливается при столкновении с реальной жизнью. Именно это и происходит с Дмитрием. Его представления о мире со временем настолько разошлись с общепринятыми, что окружающие почти перестали понимать его [14; 443–444], что и породило острейший конфликт: «Да я оттого и свирепствовал в этот месяц, оттого и дрался в трактире, оттого и отца избил…» [14; 444].
О Боге и Его законе Дмитрий знает: «Слава Высшему на свете, Слава Высшему во мне!..» [14; 96]. Долгое время одного сознания того, что где-то внутри (или снаружи) есть нечто Высшее, ему было достаточно, и он жил, подчиняясь своим желаниям и надеясь, что всё устроится как-нибудь само собой: «Я иду и не знаю: в вонь ли я попал и позор или в свет и радость» [14; 99]. Инстинктивное, не освещённое разумом чувство Бога живёт в его душе, поражённой страстью: «Если уж полечу в бездну, то так-таки прямо, головой вниз и вверх пятами, и даже доволен, что именно в унизительном таком положении падаю и считаю это для себя красотой. И вот в самом-то этом позоре я вдруг начинаю гимн. Пусть я проклят, пусть я низок и подл, но пусть и я целую край той ризы, в которую облекается Бог мой; пусть я иду в то же самое время вслед за чёртом, но я всё-таки и Твой сын, Господи, и люблю Тебя, и ощущаю радость, без которой нельзя миру стоять и быть» [14; 99].
Совесть Дмитрия заблудилась и довела его до преступления закона Божия, о котором Священное Писание говорит: «Всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится…» (Мф. 12:31). Такой хулой православие считает сознательное упорное противление Богу преступлением или неисполнением Его воли. Это преступление и стало причиной падения Дмитрия: «Любил разврат, любил и срам разврата. Любил жестокость: разве я не клоп, не злое насекомое? Сказано – Карамазов!» [14; 100]. Он рассказывает Алексею об одном из своих бесчестных поступков, подчёркивая особое нравственное наслаждение от страданий жертвы: «Видел, как следили за мной из угла залы <…> её глазки, видел, как горели огоньком – огоньком кроткого негодования. Забавляла эта игра только мое сладострастие насекомого, которое я в себе кормил» [14;101]. Искажённый грехом разум помогает искать оправдания сделанной подлости, опираясь на ту самую «автономную мораль»: «Я хоть и низок желаниями и низость люблю, но я не бесчестен» [14; 101]. Однако преступления продолжались, и Дмитрий с ужасом чувствовал, как «жестокое насекомое уже росло, уже разрасталось в душе» [14; 101].
В конце концов наступает момент, когда Дмитрий уже не хочет остановить своё падение, потому что оно становится источником нового, особого наслаждения: «Я духом пьян <…>, духом пьян…» [14; 362]. Но и это состояние духовного помрачения скоро приедается, и сладострастие требует новой, более острой и горячей пищи. Поэтому даже чувствуя приближающуюся гибель, Дмитрий не может остановиться: «Завтра лечу с облаков, потому что завтра жизнь кончится и начнётся. Испытывал ты, видал ты во сне, как в яму с горы падают? Ну, так я теперь не во сне лечу» [14; 97][293]293
В этом Дмитрий идёт путём Ставрогина («Бесы»).
[Закрыть].
Если бы Дмитрий действительно верил в Бога, то на какое-то время, даже поддавшись страсти, он мог бы с Его помощью удержаться на краю бездны. Но в своём религиозном чувстве герой ищет лишь душевного успокоения, а вовсе не желает понести труда духовного преображения. Поэтому он, подобно Раскольникову, Ставрогину и Версилову, подменяет волю Бога собственной и даже пытается ставить Ему условия: «Я чуду верю. <…> Чуду промысла Божьего. Богу известно моё сердце, он видит всё моё отчаяние. Он всю эту картину видит. Неужели он попустит совершиться ужасу?» [14; 112]. Бог действительно промышляет (т. е. предусматривает и создаёт) путь человека ко спасению в каждый миг его жизни, и для того, чтобы узнать его, человеку необходимо с верой и покаянием обратиться к Богу. Но Дмитрий ждёт лишь «чуда» – исполнения своего желания, и готов, если оно не произойдёт, поступить по собственному усмотрению. Поэтому он угрожает Богу не только ослушанием (даже не сознавая, что уже давно нарушил Его закон), но и совершением страшного преступления – отцеубийства: «Если не свершится, то…» [14; 112]. Так открывается подлинная глубина падения героя – он настолько подчинился своей страсти, что для удовлетворения её готов восстать не только на родного отца, но и на Бога.
Поражённый грехом разум слеп, и Дмитрию лишь кажется, что он ещё может управлять собой: «Я полный хозяин остановить, могу остановить или совершить!..» [14; 144][294]294
В таком же заблуждении находятся Раскольников и Ставрогин.
[Закрыть]. Если бы он действительно мог удержаться от последнего шага в бездну, то непременно сделал бы это, однако он уже не властен над собой: «Ну так знай же, что я его совершу, а не остановлю» [14; 144]. Приняв это решение, Дмитрий разрывает последние связи с миром: «Не молись обо мне, не стою, да и не нужно совсем, совсем не нужно… не нуждаюсь вовсе! Прочь!..» [14; 144]. Дмитрию кажется, что этим бунтом он «борется со своей судьбой и спасает себя» [14; 329]. Как всякий гордый и сильный человек, он надеется лишь на свои силы, не понимая того, что бороться с судьбой, то есть противопоставлять себя воле Божией, губительно для человека. Не случайно Достоевский словами Зосимы напоминает событие библейской истории, повествующее о том, «как Иаков <…> боролся во сне с Господом» [14; 266]. Борьба с Богом бессмысленна и опасна, потому что человек не может повредить Богу, и всякое его зло неизбежно обращается на него. В итоге борьба с судьбой превращается в борьбу с образом Божиим в самом себе.
Многие герои великого пятикнижия оказываются в положении Дмитрия, и писатель подчёркивает, что причиной этого является сам человек: «Гнусный омут, в котором он завяз сам своей волей (курсив наш. – О. С.), слишком тяготил его…» [14; 330]. Теперь, чтобы выбраться из него, необходимо приложить немалые усилия, потому что Бог не спасает человека без воли самого человека и не принуждает его ко спасению, а ждёт первого шага: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему…» (Откр. 3:20). Дмитрий же надеется лишь на свои силы и мечтает, как увезёт Грушеньку «как можно дальше, если не на край света, то куда-нибудь на край России, женится там на ней и поселится с ней incognito[295]295
Тайно (лат.)
[Закрыть], так чтоб уж никто не знал об них вовсе, ни здесь, ни там и нигде. Тогда <…> начнётся тотчас же совсем новая жизнь! Об этой другой, обновлённой и уже «добродетельной» жизни («непременно, непременно добродетельной») он мечтал поминутно и исступлённо. Он жаждал этого воскресения и обновления», потому что, «как и очень многие в таких случаях, всего более верил в перемену места: только бы не эти люди, только бы не эти обстоятельства, только бы улететь из этого проклятого места и – всё возродится, пойдёт по-новому! Вот во что он верил и по чём томился» [14; 330].
Очень скоро этот путь откроется Дмитрию в плане побега, подготовленного Иваном. Однако Достоевский на примере «таинственного посетителя» старца Зосимы показывает, что само по себе изменение внешних обстоятельств и даже добродетельная жизнь без покаянного очищения души лишь отягощает груз прежних грехов и приводит в очередной тупик. Любая попытка выбраться из него своими силами, без помощи Божией, будет безрезультатна. Поэтому, когда Дмитрий наконец осознал тщетность своих попыток раздобыть денег, «глубокая тоска облегла, как тяжёлый туман, его душу. Глубокая, страшная тоска! Он сидел, думал, но обдумать ничего не мог» [14; 340]. Для иллюстрации духовного состояния своего героя писатель создаёт духовный пейзаж: после бессмысленно потраченной ночи рядом с невменяемым Лягавым Дмитрий вышел из избы, чтобы идти домой, и «увидал, что кругом только лес и ничего больше. Он пошёл наугад, даже не помня, куда поворотить из избы – направо или налево <…>. Он шагал по узенькой лесной дорожке бессмысленно, потерянно, с «потерянною идеей» и совсем не заботясь о том, куда идёт. Его мог побороть встречный ребёнок, до того он вдруг обессилел душой и телом» [14; 342]. Наконец «кое-как он, однако, из лесу выбрался: предстали вдруг сжатые обнажённые поля на необозримом пространстве. «Какое отчаяние, какая смерть кругом!» – повторял он, всё шагая вперёд и вперёд» [14; 342]. Как и в случае со Степаном Трофимовичем («Бесы»), «его спасли проезжие: извозчик вёз по просёлку какого-то старичка купца. Когда поровнялись, Митя спросил про дорогу…» [14; 342].
Однако герой «Бесов» сознательно отрекается от прошлой жизни в поисках новой, а Дмитрий ещё не готов к этому. Господь дает ему возможность вернуться в исходную точку и найти верный путь. Для этого Дмитрию необходимо разумом осветить свой путь и усилием воли подвигнуть себя на него. Но сделать это Дмитрий не может, потому что его разум и воля находятся во власти страстей гордыни и сластолюбия. Его духовное состояние Достоевский подчёркивает названием главы, рассказывающей о преступлении Дмитрия, – «В темноте». По-прежнему единственным, что удерживало его в жизни и придавало ей какой-то смысл, была мысль о Грушеньке, уже переросшая из пламенной страсти в мучительную idee fxe, отказаться от которой он и не мог и не хотел. Страсть лишила его свободы, поработила разум и чувства, высвободив «естественное», природное начало. И Достоевский показывает, что оно вовсе не так прекрасно и невинно, как полагали европейские просветители: окружающие обозначают природу Дмитрия эпитетами «дикий человек» [14; 369] и даже «зверь» [14; 398].
Важно, что и сам он понимает своё духовное состояние: «Низкий сладострастник и с неудержимыми чувствами подлое существо <…>. Удержаться не мог, как животное» [14; 110], «зверь и до зверства не умеющий сдержать себя человек» [14; 443]. Именно этот «зверь» заставил его броситься на поиски Грушеньки, вложил в руку пестик и подвёл к окну отца, но лишь воля Господа остановила его на последней черте. Правда, осознание этого придёт много позже: «Слёзы ли чьи, мать ли моя умолила Бога, дух ли светлый облобызал меня в то мгновение – не знаю, но чёрт был побеждён» [14; 425–426]. Однако Дмитрий уже совершил преступление против Бога в тот миг, когда присвоил себе право распоряжаться чужой жизнью: «Зачем живёт такой человек!» [14; 69]. И потому удар, предназначавшийся родному отцу, обрушился на голову старика Григория. Дмитрий был уверен, что убил его, и потому сам выносит себе смертный приговор, чтобы остановить дальнейшее падение: «Тут один забор <…>, один высокий забор и страшный на вид, но… завтра на рассвете, когда «взлетит солнце», Митенька через этот забор перескочит… <…>. Не помешаю и устранюсь, сумею устраниться» [14; 358]. Он лишь хочет проститься с единственным человеком, которого любит, чувствуя, что «в любви его к этой женщине заключалось нечто гораздо высшее, чем он сам предполагал, а не одна лишь страстность, не один лишь «изгиб тела»…» [14; 344]. В духовном мраке, в который погрузился Дмитрий, совершив преступление, лишь образ Грушеньки представлялся ему каким-то светом. Но он понимал, что, став убийцей, никогда не сможет быть рядом с ней. И, пожалуй, впервые в Дмитрий испытывает не просто страстное влечение: «И никогда ещё не подымалось из груди его столько любви к этой роковой в судьбе его женщине, столько нового, не испытанного им ещё никогда чувства, чувства неожиданного даже для него самого, чувства нежного до моления, до исчезновения пред ней» [14; 370].
Этот момент становится первым этапом возрождения героя к новой жизни. Он начинается с осознания собственной греховности и продолжается искренним покаянием: «Жизнь люблю, слишком уж жизнь полюбил, так слишком, что и мерзко. <…> Я подл, но доволен собой. И, однако ж, я мучусь тем, что я подл, но доволен собой. Благословляю творение, сейчас готов Бога благословить и Его творение, но… надо истребить одно смрадное насекомое, чтобы не ползало, другим жизни не портило…» [14; 366][296]296
Этот выбор подобен выбору «великодушного» Кириллова («Бесы»), убивающего себя ради любви к людям.
[Закрыть]. Однако, уже приняв окончательное решение, Дмитрий чувствует, что не может уйти из жизни просто так: «Несмотря на всю принятую решимость, было смутно в душе его, смутно до страдания: не дала и решимость спокойствия. Слишком многое стояло сзади его и мучило. И странно было ему это мгновениями: ведь уж написан был им самим себе приговор пером на бумаге: «Казню себя и наказую»; и бумажка лежала тут, в кармане его, приготовленная; ведь уж заряжен пистолет, ведь уж решил же он, как встретит он завтра первый горячий луч «Феба златокудрого», а между тем с прежним, со всем стоявшим сзади и мучившим его, всё-таки нельзя было рассчитаться, чувствовал он это до мучения, и мысль о том впивалась в его душу отчаянием» [14; 370].
Дмитрий ищет причину происходящего: «Не любил я никогда всего этого беспорядка. <…> Порядку во мне нет, высшего порядка… <…>. Вся жизнь моя была беспорядок, и надо положить порядок» [14; 366]. Этот приговор самому себе высвобождает душу героя из тисков тщеславия и самолюбия, и впервые в жизни он чувствует потребность в прощении и покаянии. Дмитрий с раскаянием вспоминает об обиде, причинённой им Снегирёву [14; 366], а затем «вдруг <…> тихо и кротко, как тихий и ласковый ребёнок, заговорил с Феней… «Обидел я тебя давеча, так прости меня и помилуй, прости подлеца…»» [14; 357, 368]. Прощаясь с прежней жизнью и отправляясь в последний путь, Дмитрий хочет примириться со всем миром и самим собой и обращается к ямщику с самым главным вопросом: «Говори, попадёт Дмитрий Фёдорович Карамазов во ад али нет, как по-твоему?» [14; 372]. Дмитрий знает, что по делам своим достоин высшей кары. Но ему важно услышать, что есть кто-то, кто его пожалеет и простит: «А ты, ты простишь меня, Андрей? <…> За всех, за всех ты один, вот теперь, сейчас, здесь, на дороге, простишь меня за всех?» [14; 372].
В образе ямщика с именем первоверховного апостола для Дмитрия воплотился весь русский народ. И Андрей отвечает ему: «Не знаю, голубчик, от вас зависит, потому вы у нас (курсив здесь и далее наш. – О. С.)… Вы у нас, сударь, всё одно как малый ребёнок… так мы вас почитаем… И хоть гневливы вы, сударь, это есть, но за простодушие ваше простит Господь» [14; 372]. Дмитрий принял это прощение и «исступлённо молился и дико шептал про себя: «Господи, прими меня во всём моём беззаконии, но не суди меня. Пропусти мимо без суда Твоего… Не суди, потому что я сам осудил себя; не суди, потому что люблю Тебя, Господи! Мерзок сам, а люблю Тебя: во ад пошлёшь, и там любить буду и оттуда буду кричать, что люблю Тебя во веки веков…»» [14; 372]. В своём сердце Дмитрий нашёл необходимые средства ко спасению: любовь к Богу и к человеку. Теперь ему нужно лишь преодолеть свой главный недостаток, на который указал Андрей, – страстность, застилающую глаза, ослепляющую разум и толкающую на преступление.
Новое мучение овладело Дмитрием, когда он понял, что Грушенька отвечает на его любовь. Самоубийство утратило смысл, потому что впереди открылась новая, светлая дорога. Но память о лежащем в отцовском саду Григории не даёт вступить на неё. Тогда Дмитрий обращается с молитвой к Тому, в чьих руках находится жизнь и счастье человека: «Боже, оживи поверженного у забора! Пронеси эту страшную чашу мимо меня! Ведь делал же ты чудеса, Господи, для таких же грешников, как и я! Ну что, ну что, если старик жив? О, тогда срам остального позора я уничтожу, я ворочу украденные деньги, я отдам их, достану из-под земли…» [14; 394].
Вторым этапом духовного перерождения становится допрос Дмитрия по обвинению в убийстве отца. Писатель делит сцену допроса на главы с характерными названиями: «Хождение души по мытарствам. Мытарство первое», «Мытарство второе» и «Мытарство третье». Под мытарством христианство понимает «обличение грехов, истязание душ в загробном мире, после оставления ими тела, ещё до суда Божия»[297]297
Полный православный богословский энциклопедический словарь: В 2 томах. – М.: 1992. – Т. 2. – С. 1607.
[Закрыть]. При этом каждое из мытарств «соответствует одному из грехов: за каждый совершённый грех человек должен дать ответ демонам-истязателям, и пока он не докажет свою невиновность, он не допускается к следующему мытарству»[298]298
Иларион (Алфеев), епископ. Православие: В 2 томах. Изд-во Сретенского монастыря, – М… 2008. – Т. 1. – С. 740.
[Закрыть].
Известие о том, что Григорий жив, подействовало на Дмитрия преображающе: ««Жив? Так он жив! <…> Господи, благодарю Тебя за величайшее чудо, содеянное Тобою мне, грешному и злодею, по молитве моей!..» <…>, – и он три раза перекрестился» [4; 413]. Дмитрий сознаёт свою вину: «Про себя внутри, в глубине сердца своего виновен…» [14; 415], но теперь он знает главное – Бог есть. И потому «взгляд его был бодр, он весь как бы изменился в одно мгновение. Изменился и весь тон его: это сидел уже опять равный всем этим людям человек <…>, как если бы <…> ещё ничего не случилось…» [14; 414][299]299
Заметим, что подобного не могло быть с Раскольниковым, который действительно был убийца и испытывал чувство оторванности от мира всю жизнь, даже и после покаяния и наказания.
[Закрыть].
В ходе мытарств обнаруживается духовная основа жизни Дмитрия: «С вами говорит <…> человек, наделавший бездну подлостей, но всегда бывший и остававшийся благороднейшим существом <…> внутри, в глубине… Именно тем-то и мучился всю жизнь, что жаждал благородства, был <…> страдальцем благородства и искателем его <…>, а между тем всю жизнь делал одни только пакости…» [14; 416]. Это произошло потому, что он искал источник блага не у Творца всего сущего, а в человеческом мире и собственной душе, захваченной страстями. И в итоге оказался в тупике, который создал собственными руками. Ад начался для Дмитрия уже на земле и задолго до того, как он разрешил себе пролить кровь отца. Чувствуя глубокую неправду своей жизни и истязаясь невозможностью изменить её, герой решает просто освободиться от жизни: «Ведь всё равно, подумал, умирать, подлецом или благородным» [14; 444]. Но «много я узнал в эту ночь! Узнал я, что не только жить подлецом невозможно, но и умирать подлецом невозможно… Нет, господа, умирать надо честно!..» [14; 445].
В душе Дмитрия происходят болезненные, но животворные изменения. В том, что они происходят в течение краткого времени, нет ничего удивительного. Достоевский писал об этом процессе: «Иные перерождаются слишком скоро и заметно, другие незаметно» [11; 168]. Дмитрий уже давно жаждал Высшего духовного порядка, но ему не хватало лишь последнего толчка, которым и стал арест: «Господа, все мы жестоки, все мы изверги, все плакать заставляем людей, матерей и грудных детей, но из всех – пусть уж так будет решено теперь – из всех я самый подлый гад! Пусть! Каждый день моей жизни я, бия себя в грудь, обещал исправиться и каждый день творил всё те же пакости. Понимаю теперь, что на таких, как я, нужен удар, удар судьбы, чтоб захватить его как в аркан и скрутить внешнею силой. Никогда, никогда не поднялся бы я сам собой! Но гром грянул. Принимаю муку обвинения и всенародного позора моего, пострадать хочу и страданием очищусь!» [14; 458].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.