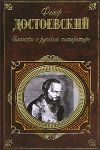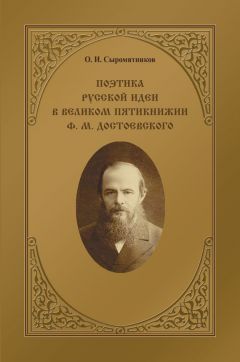
Автор книги: Олег Сыромятников
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 28 страниц)
Последние слова указывают на искажение веры Алексея, бессознательно приписывающего свойства Бога обычному человеку, пусть даже и достигшему высокой степени уподобления Ему. Зосима занимал в душе юноши место, которое может принадлежать лишь Богу, и потому со смертью старца он почувствовал небывалую прежде пустоту. Алексею показалось, что с уходом его любимого учителя из мира ушла и сама любовь, а значит, исчез и смысл жизни. Острое чувство обиды на Бога за несправедливое устройство жизни приводит к тому, что в какой-то момент Алексей готов, подобно Ивану, отречься от Бога, отвергнуть Его мир и шагнуть в бездну.
Этот акт апостасии и становится грехопадением Алексея, потому что уже само намерение или даже готовность нарушить закон Божий является грехом. Чтобы окончательно погубить пошатнувшегося праведника, сатана подсылает к нему беса-искусителя в облике «семинариста-карьериста» Ракитина. Он и прежде пытался искушать Алексея нечистыми мыслями: «Ты об этом думал…» [14; 73], постоянно чертыхаясь и зло радуясь каждой оговорке «друга». Однако до сих пор Алексей был в силах противостоять его натиску, и это всегда вызывало дикую злобу Ракитина [14; 76]. Теперь же, заметив душевную смуту Алексея, Ракитин стремится во что бы то ни стало довести задуманное до конца. Заговорив о смерти Зосимы, он отвергает саму возможность чудесных знамений святости почившего: «Фу, чёрт, да этому и тринадцатилетний школьник теперь не верит…» [14; 308][283]283
Ракитин повторяет слова В. Г. Белинского из знаменитого письма Н. В. Гоголю от 15 июля 1847 г.: «Неужели вы этого не знаете, Ведь это теперь не новость для всякого гимназиста».
[Закрыть]. Эти слова показывают степень разложения религиозного ядра общественного сознания России, к середине XIX века выродившегося, с одной стороны, в слепой бессмысленный фанатизм и обрядоверие, а с другой – в холодный скептицизм и рационализм.
Следующим шагом Ракитин возбуждает человеческую природу Алексея, переводя его внимание с внутренних, душевных переживаний на плотские чувства: «Всего-то антидорцу кусочек, надо быть, пожевал» [14; 309][284]284
Антидор представляет собой часть особого богослужебного хлеба, части которого раздают участникам богослужения после его окончания.
[Закрыть]. Ракитин сознательно нарушает церковный устав и понуждает сделать то же и Алексея: «Есть у меня с собой в кармане колбаса <…>, только ведь ты колбасы не станешь… <…> Я бы водочки сам теперь тяпнул…. Водки-то небось не решишься… аль выпьешь?» [14; 309]. Но Алексей соглашается, не видя в продолжении прежнего образа жизни никакого смысла, и тогда Ракитин решает взять от этой ситуации всё возможное и предлагает ему пойти к Грушеньке.
Достоевский замечает, что Ракитин был «человек серьёзный и без выгодной для себя цели ничего не предпринимал. Цель же у него теперь была двоякая, во-первых, мстительная, то есть увидеть «позор праведного» и вероятное «падение» Алёши «из святых во грешники», чем он уже заранее упивался, а во-вторых, была у него тут в виду и некоторая материальная, весьма для него выгодная цель…» [14; 310]. Дело в том, что Грушенька пообещала Ракитину двадцать пять рублей, если он приведёт к ней Алексея, которого считала лицемером, прикрывающим подрясником карамазовскую скверну. Но увидев несчастного, поражённого глубоким горем, она раскаялась в своих дурных намерениях и искренне попросила у Алексея прощения. Он поражён: «Я шёл сюда злую душу найти – так влекло меня самого к тому, потому что я был подл и зол…» [14; 318]. Последними словами Достоевский особо подчёркивает, что причина падения человека кроется в нём самом. Алексей «разрешил себе» переступить через то, что прежде считал непререкаемой святыней, и оказался на краю бездны. От окончательного падения его спасла чистая и искренняя любовь Грушеньки. Алексей благодарит её за помощь: «Ты мою душу сейчас восстановила <…>. Я <…> нашёл сестру искреннюю, нашёл сокровище – душу любящую…» [14; 318]. Алексей увидел, узнал и навсегда поверил, что любовь, заповеданная Христом, пребывает в мире вовек.
Этой ситуацией Достоевский иллюстрирует святоотеческую мысль о том, что Бог попускает человеческое зло, претворяя его в добро. Ракитин хотел подтолкнуть праведника к гибели, но Господь повернул его злую волю во благо. Это поражает Ракитина: «Что ж, обратил грешницу? – злобно засмеялся он Алёше. – Блудницу на путь истины обратил? Семь бесов изгнал, а? Вот они где, наши чудеса-то давешние, ожидаемые, совершились!» [14; 324]. Но Ракитину не удаётся раздражить и обидеть Алексея, и это злит его ещё больше: «Это ты теперь за двадцать пять рублей меня давешних «презираешь»? Продал, дескать, истинного друга. Да ведь ты не Христос, а я не Иуда» [14; 325]. Но Ракитин лжёт, как всякий бес. Он «дружил» с Алексеем только потому, что тот был близок к старцу Зосиме, и Ракитин надеялся использовать эту близость в своих целях. Почувствовав, что проиграл сражение за душу Алексея, Ракитин скрывается в переулке, и слова Алексея проясняют символическое значение происшедшего: «Ракитин ушёл в переулок. Пока Ракитин будет думать о своих обидах, он будет всегда уходить в переулок… А дорога… дорога-то большая, прямая, светлая, хрустальная, и солнце в конце её…» [14; 326].
Теперь ему необходимо восстановление в вере. Алексей возвращается в монастырь, где отец Паисий читает Евангелие над телом старца Зосимы, и слышит рассказ о чуде в Кане Галилейской (Ин. 2:1–12). Церковь учит, что цель этого чуда «была та, чтобы утвердить учеников в вере. Иисус Христос Сам говорил: «Аще знамений и чудес не видете, не имати веровати» (Ин. 4:48). Особенно это нужно было для новых последователей, когда они в проповеди Его ещё многого не понимали, и в некоторых случаях даже соблазнялись Его учением и оставляли Его и уже никогда не ходили с Ним (Ин. 6:66)…» (218, 127). Слушая давно знакомые слова, Алексей коленопреклоненно молится, и происходит Богоявление, ибо «где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди них», – говорит Христос (Мф. 18:20). Духовные очи Алексея открываются, и он видит на брачном пиру в Кане старца Зосиму, который зовёт его на пир, поздравляя с тем, что Алексей сегодня сам вступил на путь Христов: «Начинай, милый, начинай, кроткий, дело своё!..» [14; 327]. Алексей поднялся и сделал ко гробу Зосимы «три твёрдых скорых шага» [14; 327] – встал на путь служения Святой Троице, после чего простился с усопшим и вышел в мир.
И здесь Достоевский создаёт духовный пейзаж – картину, изображающую онтологическое единство души человека и окружающего мира: «Полная восторгом душа его жаждала свободы, места, широты. Над ним широко, необозримо опрокинулся небесный купол, полный тихих сияющих звёзд. С зенита до горизонта двоился ещё неясный Млечный Путь. Свежая и тихая до неподвижности ночь облегла землю. Белые башни и золотые главы собора сверкали на яхонтовом небе. Осенние роскошные цветы в клумбах около дома заснули до утра. Тишина земная как бы сливалась с небесною, тайна земная соприкасалась со звёздною… Алёша стоял, смотрел и вдруг как подкошенный повергся на землю» [14; 328]. Всем существом своим он почувствовал и осознал, что любит этот мир, эту землю, и обнял её: «Он не знал, для чего обнимал её, он не давал себе отчёта, почему ему так неудержимо хотелось целовать её, целовать её всю, но он целовал её плача, рыдая и обливая своими слезами, и исступлённо клялся любить её, любить вовеки веков. «Облей землю слезами радости твоея и люби сии слезы твои…» – прозвенело в душе его. О чём плакал он? О, он плакал в восторге своём даже и об этих звёздах, которые сияли ему из бездны, и «не стыдился исступления сего». Как будто нити ото всех этих бесчисленных миров Божиих сошлись разом в душе его, и она вся трепетала, «соприкасаясь мирам иным». Простить хотелось ему всех и за всё и просить прощения, о! не себе, а за всех, за всё и за вся, а «за меня и другие просят», – прозвенело опять в душе его. Но с каждым мгновением он чувствовал явно и как бы осязательно, как что-то твёрдое и незыблемое, как этот свод небесный, сходило в душу его. Какая-то как бы идея воцарялась в уме его – и уже на всю жизнь и навеки веков. Пал он на землю слабым юношей, а встал твёрдым на всю жизнь бойцом и сознал и почувствовал это вдруг, в ту же минуту своего восторга. И никогда, никогда не мог забыть Алёша во всю жизнь свою потом этой минуты. «Кто-то посетил мою душу в тот час», – говорил он потом с твёрдою верой в слова свои…» [14; 328]. Сам Господь призвал его на служение, и Алексей встал в ряды воинов Христовых, словом и делом несущих людям истину спасения.
Полагаем, что образ Алексея Карамазова выражает вариант русской идеи, наиболее близкий самому автору. Алексей заметно легче других братьев преодолевает искушения и восстаёт после падений. На причину этого указывают слова старца Зосимы, которыми он благословляет юношу на «великое послушание в миру»: «Много тебе ещё странствовать. И ожениться должен будешь, должен. Всё должен будешь перенести, пока вновь пребудеши. А дела много будет» [14; 71]. Речь идёт о странствиях духовных, во время которых нет ничего страшнее, чем утрата веры и доверия к Богу. Алексею предстоит «много дела» – трудов по исполнению слова Христова на пути спасения себя и других людей. И Зосима (а вместе с ним и сам Достоевский) уверен, что Алексей (Россия) не свернёт с этого пути: «В тебе не сомневаюсь, потому и посылаю тебя. С тобой Христос» [14; 71–72].
Образ Ивана Карамазова является прямым продолжением и максимальным развитием идеи «сильного» человека, попавшего под власть какой-либо страсти (Раскольников, Ставрогин, Версилова). Подобно им, Иван находится в рабстве гордыни и порождённой ею идеи, с «математической точностью» доказывающей право сильного, необыкновенного человека жить исключительно по своим законам, без оглядки на людей и Бога. Как и его предшественники, Иван объективно выделяется среди других людей, которые считают его необыкновенным: «Иван – могила», «Иван – загадка», «Иван – сфинкс» [15; 32] и пр. Окружающие уверены, что Иван обладает неким особым знанием о мире и стоит на пороге великих свершений. Они ждут их, подобно тому, как Соня ждёт их от Раскольникова, Шатов – от Ставрогина, а Подросток – от Версилова. «Необыкновенность» придаёт герою ореол таинственности, и окружающие пытаются разгадать её, строя различные предположения. Дмитрий говорит об Иване: «Я думаю, он масон» [15; 32], – а ещё раньше это предположение высказал Алексей [14; 239]. Однако первым тему масонства затронул сам Иван: «Мне мерещится, что даже у масонов есть что-нибудь в роде этой же тайны в основе их и что потому католики так и ненавидят масонов, что видят в них конкурентов, раздробление единства идеи, тогда как должно быть едино стадо и един пастырь…» [14; 239]. Действительно, политической целью мистического антихристианского ордена является построение «всемирного масонского государства», что прямо противоречит мечтам Римского престола о мировом господстве.
Братья лишь предполагают причастность Ивана к «вольным каменщикам», строя свои догадки на основе сопоставления различных высказываний Ивана с собственными представлениями о масонстве. Но Иван почерпнул свои идеи не из котла масонской «премудрости», а лишь использовал те же ингредиенты, что и масоны: богоотрицание, утверждение всесилия человеческого разума и воли. Формой для «идеи» Ивана послужили фрагменты европейских философских учений, действительно в той или иной степени связанных с масонством, что и заметили Дмитрий и Алексей.
Создав свою «теорию», Иван так же, как и Раскольников, логикой убедил себя в её непогрешимости. И хотя разум героя верует в свою безупречность, сердце подсказывает ему его неправоту, и поэтому он медлит в практическом осуществлении своей «теории», словно ожидая некоего дополнительного толчка, «колеблясь над бездной» [30, 1; 23]. Это почувствовал старец Зосима: «Идея эта ещё не решена в вашем сердце и мучает его. Но и мученик любит иногда забавляться своим отчаянием, как бы тоже от отчаяния. Пока с отчаяния и вы забавляетесь – и журнальными статьями, и светскими спорами, сами не веруя своей диалектике и с болью сердца усмехаясь ей про себя… В вас этот вопрос не решён, и в этом ваше великое горе, ибо настоятельно требует разрешения…» [14; 65]. Зосима указывает на смертельную опасность неправильного решения: «Дай вам Бог, чтобы решение сердца вашего постигло вас ещё на земле» [14; 66], напоминая тем самым, что покаяние за гробом невозможно. Он благословляет Ивана на правильное решение, и тот искренне принимает благословение [14; 66].
Заметим, что из всех окружающих только Зосима увидел всю глубину той бездны, на краю которой оказался Иван. К этому моменту им уже были созданы две «поэмы»: «Великий инквизитор» и «Геологический переворот», содержание которых состоит в сознательном отвержении Бога и присвоении «необыкновенным» человеком права самому определять свою судьбу и судьбу тех, кто слабее его. В кратком и практическом варианте «теория» Ивана звучит так: «Злодейство не только должно быть дозволено, но даже признано самым необходимым и самым умным выходом из положения всякого безбожника!» [14; 65]. Эту идею Дмитрий и Смердяков принимают как руководство к действию без всяких «теоретических» отягощений: «Всё, дескать, <…> позволено, что ни есть в мире, и ничего впредь не должно быть запрещено…» [15; 126].
В конце концов Иван делает роковой шаг. Его грехопадение произошло, как только он пожелал смерти отцу и брату: «Один гад съест другую гадину» [14; 129][285]285
Согласно учению Православной церкви, любая заповедь, в т. ч. и «Не убивай» (Исх. 20:13), считается нарушенной с момента её преступления в сознании человека. При этом не имеет значения, совершено ли убийство на самом деле, или оно так и осталось пожеланием.
[Закрыть]. Заметим, что Иван действительно ненавидит их и желает их смерти. Точнее, он хочет, чтобы ни такого отца, ни такого брата у него не было вовсе. В их образе он видит недопустимое искажение собственного представления о человеке – оба бездарно и бесполезно растрачивают данное им (и вовсе не по заслугам!) богатство. Примечательно, что и Дмитрий и Фёдор Павлович инстинктивно чувствуют опасность, исходящую от Ивана. Дмитрий просто старается держаться подальше («Иван – могила»), а Фёдор Павлович прямо говорит Алексею: «Алёша, милый, единственный (курсив наш. – О. С.) сын мой, я Ивана боюсь; я Ивана больше, чем того (Дмитрия. – О. С.), боюсь. Я только тебя одного не боюсь» [14; 130]. Его слова вдруг обнаруживают главную причину происходящего: «Да я Ивана не признаю совсем. Откуда такой появился? Не наша совсем душа. <…> Иван никого не любит, Иван не наш человек, эти люди, как Иван, это <…> не наши люди, это пыль поднявшаяся… Подует ветер, и пыль пройдёт…» [14; 159]. Между тем окружающие подчёркивают особое духовное родство отца и сына. По словам Смердякова, «если есть <…> который из сыновей более похожий на Фёдора Павловича по характеру, так это он, Иван Фёдорович!» [15; 127]. В свою очередь, прокурор характеризует Ивана как одного «из современных молодых людей с блестящим образованием, с умом довольно сильным, уже ни во что, однако, не верующим, многое, слишком уже многое в жизни отвергшим и похерившим, точь-в‑точь как и родитель его» [15; 126]. Эта духовная связь обозначена в романе понятием «карамазовщина», выражающим особое стремление к наслаждению (сладострастие), для удовлетворения которого человек противопоставляет закон своего «я» закону человеческому и Божьему.
Духовное пространство личности Ивана раскрывает его диалог с Алексеем [14; 208–241], являющийся, по существу, монологом, потому что реплики Алексея лишь выделяют его смысловые части. Внешне он выстроен в форме исповеди: «Не веруй я в жизнь, разуверься я в дорогой женщине, разуверься в порядке вещей, убедись даже, что всё, напротив, беспорядочный, проклятый и, может быть, бесовский хаос, порази меня хоть все ужасы человеческого разочарования – а я всё-таки захочу жить и уж как припал к этому кубку, то не оторвусь от него, пока его весь не осилю!» [14; 209]. Оказывается, что жизнь Ивана подчинена не какому-либо возвышенному идеалу, а лишь карамазовской жажде жизни – «исступлённой и, может быть, неприличной» в своей страстности и безудержности: «Жить хочется, и я живу, хотя бы и вопреки логике» [14; 209]. В этом Иван подобен своему отцу, который готов наслаждаться жизнью во что бы то ни стало и вопреки всему: «Я хочу и ещё лет двадцать на линии мужчины состоять…» [14; 157]. И хотя Иван говорит, что отец «стал на сладострастии своём и тоже будто на камне… Хотя после тридцати-то лет, правда, и не на чём, пожалуй, стать, кроме как на этом» [14; 210], он понимает, что жить, непрерывно ублажая собственные страсти, возможно лишь постоянно «себя надувая» [14; 211]. И поэтому Иван решает: «К тридцати годам наверно брошу кубок, хоть и не допью всего и отойду… не знаю куда» [14; 209].
Но всё же в «жажде» Ивана нет того плотского сладострастия, которое буквально сочится из каждой клеточки Фёдора Павловича. Источник его наслаждения – эстетический: «Пусть я не верю в порядок вещей, но дороги мне клейкие, распускающиеся весной листочки, дорого голубое небо, дорог иной человек, которого иной раз <…> не знаешь за что и любишь, дорог иной подвиг человеческий, в который давно уже, может быть, перестал и верить, а всё-таки по старой памяти чтишь его сердцем» [14; 209–210]. Иван вдруг говорит, что хочет поехать в Европу: «Знаю, что поеду лишь на кладбище, но на самое, на самое дорогое кладбище, вот что! Дорогие там лежат покойники, каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку, что я, знаю заранее, паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними, – в то же время убеждённый всем сердцем моим, что всё это давно уже кладбище, и никак не более. И не от отчаяния буду плакать, а лишь просто потому, что буду счастлив пролитыми слезами моими. Собственным умилением упьюсь. Клейкие весенние листочки, голубое небо люблю я, вот что! Тут не ум, не логика, тут нутром, тут чревом любишь, первые свои молодые силы любишь…» [14; 210]. Оказывается, что последнее, что ещё дорого Ивану, отвергающему порядок Божественного мироустройства, – это руины европейской цивилизации. И хотя он называет свое чувство любовью, оно является лишь скрытым эгоизмом, потому что по-настоящему Иван любит лишь себя и свои переживания: «Я <…> буду счастлив пролитыми слезами моими. Собственным умилением упьюсь. <…> Первые свои молодые силы люблю (курсив наш. – О. С.)» [14; 210]. Как и Версилов, Иван будет посещать это «кладбище» своей души до тех пор, пока будет испытывать чувство горькой, но всё же очень приятной тоски по чему-то «утраченному» и «священному», а потом поищет чего-нибудь другого.
Помимо эстетического гедонизма Ивана привязывает к жизни и нечто совершенно особое – своего рода духовный эксперимент, который до него уже проделывали Ставрогин и Версилов, – «игра с дьяволом» [17; 273]. В слепоте гордыни им показалось, что они могут помериться силами уже не с Богом (Которого они отвергли и Которого, следовательно, теперь нет), а с сатаной. Но если Версилов, по замечанию Г. Я. Галаган, «в «игре с дьяволом» <…> терпит поражение, которое предвидит»[286]286
Галаган Г. Я. Комментарий к Полн. собр. соч. Ф. М. Достоевского в 30 томах. – Л.: Наука, 1976. –Т. 17. – С. 274.
[Закрыть], то Иван не понимает всей опасности своего положения. Ещё в «Преступлении и наказании» Достоевский заметил, что для того, «чтоб умно поступать – одного ума мало» [6; 180]. И теперь Фёдор Павлович говорит, что «Иван хвастун, да и никакой у него такой учёности нет… да и особенного образования тоже нет никакого, молчит да усмехается на тебя молча, – вот на чём только и выезжает» [14; 158].
Лишь старец Зосима и Алексей почувствовали всю трагичность происходящего, ибо, пожелав смерти ближним своим, Иван уже нарушил закон Божий (Исх. 20:13). Но спасение и возрождение к жизни возможно для любого грешника, если он действительно желает этого спасения. Алексей старается помочь брату и указывает на основание, с которого может начаться его последующее возрождение к жизни: «Половина твоего дела сделана, Иван, и приобретена: ты жить любишь. Теперь надо постараться тебе о второй половине, и ты спасён» [14; 210]. Но беда в том, что Иван вовсе не считает себя погибающим: «Уж ты и спасаешь, да я и не погибал, может быть!» [14; 210]. Он лжёт – и брату, и самому себе. Гордыня мешает Ивану признать поражение в схватке с сатаной и принять помощь близких. Но главная его ложь – это желание убедить самого себя в невиновности в смерти отца. Для этого Иван даже обращается к окружающим: «Кто же убийца, по-вашему…». И Алексей отвечает брату, указывая на истинного виновника происшедшего: «Ты сам знаешь кто… Ты сам знаешь кто… <…> Убил отца не ты» [15; 39–40]. Достоевский так же выделяет последнее слово, как и в том месте «Легенды» Ивана, где говорится о сатане: «Мы давно уже не с Тобою, а с ним…» [14; 234]. Уже тогда Алексей понял, в какую беду попал его брат: «И ты вместе с ним…» [14; 239].
Заметим, что окружающие часто называют Алексея «ангелом» и «херувимом», указывая тем самым на его призвание – быть вестником Божьей воли[287]287
др.‑греч. ἄγγελος, – «вестник, посланец».
[Закрыть]. Об этом говорят и слова Зосимы: «Ступай и поспеши. Около братьев будь. Да не около одного, а около обоих» [14;72]. Бог посылает ангелов к людям, находящимся на пороге гибели, предупреждая их об опасности и предлагая помощь, но оставляет за ними право принять её или отвергнуть. Алексей обращается к брату: ««Ты говорил это себе много раз, когда оставался один в эти страшные два месяца», – по-прежнему тихо и раздельно продолжал Алёша. Но говорил он уже как бы вне себя, как бы не своею волей, повинуясь какому-то непреодолимому велению. – «Ты обвинял себя и признавался себе, что убийца никто как ты. Но убил не ты, ты ошибаешься, не ты убийца, слышишь меня, не ты! Меня Бог послал тебе это сказать»» [15; 40]. Действительно, раб, исполняющий волю своего господина, не несёт ответственности за совершённое. А Иван уже давно находится в рабстве у сатаны, что и является его главной «тайной»: «Ты был у меня! – скрежещущим шёпотом проговорил он (Алексею. – О. С.). – Ты был у меня ночью, когда он приходил… Признавайся… ты его видел, видел? <…> Разве ты знаешь, что он ко мне ходит? Как ты узнал, говори! <…> Нет, ты знаешь… иначе как же бы ты… не может быть, чтобы ты не знал…» [15; 40]. Словно не замечая беснования брата, Алексей продолжает исполнять волю Божию: «Я тебе на всю жизнь это слово сказал: не ты! Слышишь, на всю жизнь. И это Бог положил мне на душу тебе это сказать, хотя бы ты с сего часа навсегда возненавидел меня…» [15; 40]. И действительно, сейчас Алексей подвергается большой опасности, потому что отвечает ему устами Ивана уже сам сатана: «Алексей Фёдорович <…>, я пророков и эпилептиков не терплю; посланников Божиих особенно, вы это слишком знаете. С сей минуты я с вами разрываю и, кажется, навсегда. Прошу сей же час, на этом же перекрёстке, меня оставить. <…> Особенно поберегитесь заходить ко мне сегодня! Слышите?» [15; 40–41].
Положение Ивана – самое трагичное изо всех братьев. Зло настолько заполнило его душу, что стало её неотъемлемой частью. Как всякое живое существо, Иван нуждается в спасении, но прежде он должен осознать всю опасность своего положения. Он инстинктивно ищет «зеркало», в котором мог бы увидеть собственную душу. Но Дмитрия он не любит, потому что тот является его прямой противоположностью – совершенно не ценит разум, а подчиняется лишь голосу сердца. А Алексея он перестал любить после того, как не смог поколебать в нём веру и соблазнить мечтой о власти над «дрожащей тварью». И к тому же, чтобы говорить с ними, надо смирить свою гордость и стать «на равных», а этого Иван не может, и потому идёт к Смердякову. В слепоте гордыни Иван относится к нему почти как к вещи или животному («Передовое мясо…» [14; 122]), искренне не допуская мысли, что Смердяков может и думать, и чувствовать, и желать как всякий другой человек. Поэтому он использует его как «зеркало», не опасаясь ни осуждения, ни насмешки, которые можно принять лишь от равного себе человека.
Иван понимает, что «если б убил не Дмитрий, а Смердяков, то, конечно, я тогда с ним солидарен, ибо я подбивал его. Подбивал ли я его – ещё не знаю. Но если только он убил, а не Дмитрий, то, конечно, убийца и я» [15; 54]. И, чтобы разобраться в этом, он приходит к Смердякову, который, думая, что Иван «кривляется» по барской привычке, подыгрывает ему и уверяет в виновности Дмитрия. И пока Ивану этого достаточно: «Главное, он чувствовал, что действительно был успокоен, и именно тем обстоятельством, что виновен не Смердяков, а брат его Митя, хотя, казалось бы, должно было выйти напротив. Почему так было – он не хотел тогда разбирать, даже чувствовал отвращение копаться в своих ощущениях. Ему поскорее хотелось как бы что-то забыть» [15; 47]. Но живая совесть не дает человеку совсем забыть о совершённом злодеянии. Поэтому через некоторое время Иван снова идёт к Смердякову, и тот снова на время успокаивает его. Вместе с тем встречи со Смердяковым подняли из глубины души Ивана именно те полумысли и получувства, от которых он больше всего хотел избавиться.
Иван чувствует, что ему не удастся избежать окончательного разговора со Смердяковым, и так боится этого, что готов на новое преступление: «Надо убить Смердякова!.. Если я не смею теперь убить Смердякова, то не стоит и жить!..» [15; 54]. Однако на умышленное, сознательное преступление Иван всё же не способен [15; 68]. К тому же он понимает, что дело не столько в Смердякове, сколько в Дмитрии, которого он ненавидел «с каждым днём всё больше и больше…» [15; 56]. Причина этой ненависти в том, что Дмитрий, молча и вовсе не желая того, уже самим своим присутствием обличал брата в убийстве отца. И, чтобы избавиться от этой «воплощённой совести», Иван за тридцать тысяч рублей устраивает брату побег. Но всё же «он был страшно грустен и смущён: ему вдруг начало чувствоваться, что он хочет побега не для того только, чтобы пожертвовать на это тридцать тысяч и заживить царапину, а и почему-то другому. «Потому ли, что в душе и я такой же убийца?» – спросил было он себя. Что-то отдалённое, но жгучее язвило его душу. Главное же, во весь этот месяц страшно страдала его гордость…» [15; 56]. Между тем побег брата был крайне необходим Ивану, потому что освобождал Катерину Ивановну от обязательств по отношению к Дмитрию, доказывал его виновность и вообще навсегда удалял с глаз и его, и Грушеньку. Поэтому Иван изо всех сил заставляет Дмитрия согласиться на «план бегства, – план, очевидно, ещё задолго задуманный» [15; 56].
Понимая, что первая встреча со Смердяковым оставила без ответов какие-то важные вопросы, Иван отправляется к нему, предчувствуя развязку: «Я убью его, может быть, в этот раз…» [15; 57]. Иван действительно близок к преступлению, которое представляется ему хоть каким-нибудь выходом из сложившейся ситуации. Достоевский раскрывает состояние его внутреннего мира духовным пейзажем: «Ещё на полпути поднялся острый, сухой ветер, такой же как был в этот день рано утром, и посыпал мелкий, густой, сухой снег. Он падал на землю, не прилипая к ней, ветер крутил его, и вскоре поднялась совершенная метель. В той части города, где жил Смердяков, у нас почти и нет фонарей. Иван Фёдорович шагал во мраке, не замечая метели, инстинктивно разбирая дорогу. У него болела голова и мучительно стучало в висках. В кистях рук, он чувствовал это, были судороги» [15; 57]. К своему преступлению Иван идёт путём Дмитрия – так ударяет случайно оказавшегося на пути человека, что тот без чувств падает в снег. Ясно сознавая последствия совершённого поступка («Замёрзнет!»), Иван продолжает свой путь.
Его встречает «взгляд Смердякова, решительно злобный, неприветливый и даже надменный: «Чего, дескать, шляешься, обо всём ведь тогда сговорились, зачем же опять пришёл?»» [15; 50]. Смердяков считал, что все вопросы между ними уже решены раз и навсегда: он получил свои три тысячи, а Иван – свои шестьдесят тысяч, причитающиеся ему после смерти отца, и теперь у каждого свой путь. Поэтому Смердяков воспринимает нежелание Ивана признать своё участие в преступлении как слабость и намеренно нарушает этикет: грубит Ивану, «позволяет» ему снять пальто и по-хозяйски третирует. При этом глаза его «злобно сверкают», а «в голосе его даже послышалось нечто твёрдое и настойчивое, злобное и нагло-вызывающее. Дерзко уставился он в Ивана Фёдоровича…» [15; 51]. Совершённое убийство дало Смердякову право ненавидеть и презирать Ивана как слабого и трусливого болтуна, не способного на поступок: «Чтоб убить – это вы сами ни за что не могли-с…» [15; 52]. Он уверен, что у Ивана не хватит смелости и на то, чтобы огласить правду об убийстве отца: «Слишком стыдно вам будет-с, если на себя во всём признаетесь», а потому и «ничего не посмеете, прежний смелый человек-с!» [15; 68].
Чувствуя себя хозяином положения, Смердяков решает высказать всё до конца: «Хочу вам в сей вечер это в глаза доказать, что главный убивец во всём здесь единый вы-с, а я только самый не главный, хоть это и я убил. А вы самый законный убивец и ecть!», потому что «всё же вы виновны во всём-с, ибо про убивство вы знали-с и мне убить поручили-с, а сами, всё знамши, уехали» [15; 63]. И далее он указывает на черты личности Ивана, которые тот прежде скрывал даже от самого себя: «Умны вы очень-с. Деньги любите <…>, почёт тоже любите, потому что очень горды, прелесть женскую чрезмерно любите, а пуще всего в покойном довольстве жить и чтобы никому не кланяться – это пуще всего-с. Не захотите вы жизнь навеки испортить, такой стыд на суде приняв. Вы как Фёдор Павлович, наиболее-с, изо всех детей наиболее на него похожи вышли, с одною с ними душой-с» [15; 68].
Слова Смердякова сдирают с совести Ивана пластыри рациональных аргументов, которыми он прикрыл её раны, и скоро он начинает чувствовать очистительную силу страдания: «Говори же, пожалуйста, говори! <…> Прошу» [15; 61]. Поэтому Иван не лжёт, когда говорит Смердякову: «Бог видит, – поднял Иван руку кверху, – может быть, и я был виновен, может быть, действительно я имел тайное желание, чтоб… умер отец, но, клянусь тебе, я не столь был виновен, как ты думаешь, и, может быть, не подбивал тебя вовсе. Нет, нет, не подбивал!» [15; 66–67]. Иван действительно не имел намерения превращать Смердякова в орудие своего тайного желания, он лишь высказал при нём мысль о праве «сильного» человека жить по своему закону. Он передал Смердякову свою жажду беззакония, и тот сразу почувствовал, как «жажда эта меня всего захватила, ажно дух занялся» [15; 64].
Достоевский усиливает психологический фон действия: «Иван всё время слушал» Смердякова «в мертвенном молчании…» [15; 65]. В нём начинает умирать человек, основу жизни которого составляли гордость, тщеславие и эгоизм. Иван чувствует это и изо всех сил делает рывок к новой жизни – твёрдо заявляет Смердякову, что завтра на суде признается в убийстве отца. И сразу же «какая-то словно радость сошла теперь в его душу. Он почувствовал в себе какую-то бесконечную твёрдость: конец колебаниям его, столь ужасно его мучившим всё последнее время! Решение было взято, «и уже не изменится», – со счастьем подумал он» [15; 68].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.