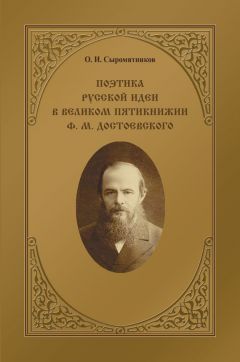
Автор книги: Олег Сыромятников
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 28 страниц)
Дмитрий жаждал чуда, и Господь явил ему его – послал страдания (мытарства) именно в тот момент, когда он смог принять их как заслуженное наказание. Лишённый свободы, впервые в жизни Дмитрий испытывал настолько жестокое страдание от чувства бессилия и невозможности жить по собственному произволению, что скоро приобрёл «какой-то удивительно измученный вид» [14; 449]. В это время в его душе идёт интенсивная работа по духовному преображению: старые убеждения и представления рушатся и отваливаются, как куски ветхой штукатурки. Символом очистительного страдания здесь (так же, как в «Преступлении и наказании» и «Бесах») является дождь, который «лил как из ведра, <…>, так и сёк в маленькие зеленоватые стёкла окошек» [14; 449][300]300
Подобные процессы происходят и в душе Грушеньки, у которой «начинался тогда лёгкий лихорадочный озноб – начало длинной болезни, которую она потом с этой ночи перенесла» [14; 453].
[Закрыть].
Это омовение очистило душу Дмитрия от остатков прежней жизни, уврачевало тяжкие раны, нанесенные совершёнными прежде грехами, и впервые за долгое время дало ей мир. Напряжение последних дней исчезло, и он «чувствовал, что едва сидит, а по временам так все предметы начинали как бы ходить и вертеться у него пред глазами» и даже внешне «имел какой-то даже удивительно измученный вид» [14; 449]. Достоевский подчёркивает, что эта усталость имеет не совсем обычную природу: «Всё какое-то странное (курсив наш. – О. С.) физическое бессилие одолевало его чем дальше, тем больше. Глаза его закрывались от усталости» [14; 456]. Так Господь даёт страдальцу отдохновение и посылает сон, открывающий ему смысл жизни.
Дмитрий оказывается в мире, где перед ним уже прошёл некто, купивший себе вечное блаженство ценой страданий невинного ребёнка. И теперь ему предстоит «сделать что-то такое, чтобы не плакало больше дитё, не плакала бы и чёрная иссохшая мать дити, чтоб не было вовсе слёз от сей минуты ни у кого и чтобы сейчас же, сейчас же это сделать, не отлагая и несмотря ни на что, со всем безудержем карамазовским» [14; 457]. Но этот безудерж не принесёт теперь страдания другим людям, как это было прежде, потому что из сердца Дмитрия ушла жестокость и злоба, уступив место всепобеждающей любви: «Чувствует он ещё, что подымается в сердце его какое-то никогда ещё небывалое в нём умиление, что плакать ему хочется…» [14; 456–457]. Он понимает, что прощён теми, кому причинил страдание, но сам себе он его простить не может, и потому готов встать на борьбу за всех униженных и оскорблённых, движимый любовью к ним: «И вот загорелось всё сердце его и устремилось к какому-то свету, и хочется ему жить и жить, идти и идти в какой-то путь, к новому зовущему свету, и скорее, скорее, теперь же, сейчас!» [14; 457]. Он пробудился ото сна «светло улыбаясь, с каким-то новым, словно радостью озарённым лицом» [14; 457].
Первое и главное усилие, которое должен сделать человек, стремящийся жить живой жизнью, – осознать собственную греховность, второе – искренне раскаяться в ней, и третье – постараться исправиться к лучшему. Когда человек встаёт на этот путь, Господь шагает к нему навстречу и подаёт все необходимые к спасению средства. Нарушение любого закона (в том числе и духовного) неизбежно влечет страдание[301]301
Об этом говорит Раскольникову Порфирий Петрович: «Что ж, страданье тоже дело хорошее. Пострадайте. <…> Потому страданье, <…> великая вещь; <…> в страдании есть идея» [6; 351–352].
[Закрыть]. И Господь помогает Дмитрию принять его как заслуженное наказание и попросить прощения у мира за принесенное в него зло, является необходимым условием вступления в новую жизнь: «Прощаюсь с вами, с людьми прощусь!..»; «Прости, Груша, меня за любовь мою, за то, что любовью моею и тебя сгубил! <…> Прощайте, Божьи люди!» [14; 458, 460]. Теперь старый человек должен навсегда умереть в Мёртвом Доме, чтобы к жизни воскрес новый, чистый и честный.
Подобно Раскольникову, Дмитрий разрешил себе «кровь по совести» («Зачем живёт такой человек!»), но Господь уберёг его от злодеяния: «Бог <…> сторожил меня тогда» [14; 355]. И всё же падение, пусть и не столь тяжкое, состоялось и ужаснуло Дмитрия. Лишь оказавшись на самом дне социальной жизни, он понял, какой путь ему предстоит пройти, чтобы вновь вернуться к людям: «Здесь уж ты начинают говорить. Сторожа мне ты говорят. Я лежал и сегодня всю ночь судил себя: не готов! Не в силах принять! Хотел «гимн» запеть, а сторожевского тыканья не могу осилить!» [15; 185]. Дмитрий ясно увидел многие ошибки своей жизни и Свет, к которому надо идти, чтобы впредь их не совершать: «Я в себе в эти два последние месяца нового человека ощутил, воскрес во мне новый человек! Был заключён во мне, но никогда бы не явился, если бы не этот гром. Страшно! И что мне в том, что в рудниках буду двадцать лет молотком руду выколачивать, не боюсь я этого вовсе, а другое мне страшно теперь: чтобы не отошёл от меня воскресший человек! Можно найти и там, в рудниках, под землёю, рядом с собой, в таком же каторжном и убийце человеческое сердце и сойтись с ним, потому что и там можно жить, и любить, и страдать! Можно возродить и воскресить в этом каторжном человеке замершее сердце, можно ухаживать за ним годы и выбить наконец из вертепа на свет уже душу высокую, страдальческое сознание, возродить ангела, воскресить героя! А их ведь много, их сотни, и все мы за них виноваты!» [15; 30–31]. Дмитрию вдруг открывается воля Божия, обращённая непосредственно к нему: «Зачем мне тогда приснилось «дитё» в такую минуту? «Отчего бедно дитё?» Это пророчество мне было в ту минуту! За «дитё» и пойду. Потому что все за всех виноваты. За всех «дитё», потому что есть малые дети и большие дети. Все – «дитё». За всех и пойду, потому что надобно же кому-нибудь и за всех пойти» [15; 31]. По вере Дмитрию открывается его судьба, о чём он говорит Алексею: «О да, мы будем в цепях, и не будет воли, но тогда, в великом горе нашем, мы вновь воскреснем в радость, без которой человеку жить невозможно, а Богу быть, ибо Бог дает радость, это Его привилегия, великая… Господи, истай человек в молитве! Как я буду там под землёй без Бога? Врёт Ракитин: если Бога с земли изгонят, мы под землёй Его сретим! Каторжному без Бога быть невозможно, невозможнее даже, чем некаторжному! И тогда мы, подземные человеки, запоём из недр земли трагический гимн Богу, у Которого радость! Да здравствует Бог и Его радость! Люблю Его! <…> Нет, жизнь полна, жизнь есть и под землёю! <…> Ты не поверишь, Алексей, как я теперь жить хочу, какая жажда существовать и сознавать именно в этих облезлых стенах во мне зародилась! <…> Да и что такое страдание? Не боюсь его, хотя бы оно было бесчисленно. Теперь не боюсь, прежде боялся. <…> И, кажется, столько во мне этой силы теперь, что я всё поборю, все страдания, только чтобы сказать и говорить себе поминутно: я есмь! В тысяче мук – я есмь, в пытке корчусь – но есмь! В столпе сижу, но и я существую, солнце вижу, а не вижу солнца, то знаю, что оно есть. А знать, что есть солнце, – это уже вся жизнь…» [15; 31].
Едва Дмитрий встал на путь спасения, как сразу все силы зла ополчились на него, пытаясь столкнуть обратно, в смерть: «Я <…> вижу иногда во сне один сон… один такой сон, и он мне часто снится, повторяется, что кто-то за мной гонится, кто-то такой, которого я ужасно боюсь, гонится в темноте, ночью, ищет меня, а я прячусь куда-нибудь от него за дверь или за шкап, прячусь унизительно, а главное, что ему отлично известно, куда я от него спрятался, но что он будто бы нарочно притворяется, что не знает, где я сижу, чтобы дольше промучить меня, чтобы страхом моим насладиться…» [14; 424]. Путём жестоких ошибок и страданий Дмитрий получил бесценный духовный опыт, радикально изменивший его жизнь. Он узнал силу молитвы, которая является единственным средством соединения человека с Богом, и теперь не просто «привычно» верит в Бога, а знает, что Бог – есть: «Ведь спас же меня ангел-хранитель мой…» [14; 428]. Духовные очи Дмитрия открылись, и теперь он видит многое из того, чего не замечал раньше: «Отца чёрт убил! <…> О, это чёрт сделал, чёрт отца и убил…» [14; 429, 431][302]302
Такие же слова в аналогичной ситуации произносит другой «великий грешник» – Раскольников: «А старушонку эту чёрт убил, а не я…» [6; 322]. Действительно, он и Дмитрий стали слепыми орудиями в руках сил зла после того, как оба преступили закон Божественного мироустройства.
[Закрыть].
Вера в Бога даёт Дмитрию силы для борьбы со злом внутри себя, но всё же их пока недостаточно для полной победы. Поэтому он обращается за помощью к брату: «Алёша, херувим ты мой, меня убивают разные философии, чёрт их дери!..» [15; 31]. Дмитрий имеет в виду усилия Ивана и Ракитина, направленные против его решения «принять страдание». Они оба, каждый по-своему, стараются вернуть грешника к тому, от чего он с таким трудом отрёкся: «Видишь, я прежде этих всех сомнений никаких не имел, но всё во мне это таилось. Именно, может, оттого, что идеи бушевали во мне неизвестные, я и пьянствовал, и дрался, и бесился. Чтоб утолить в себе их, дрался, чтоб их усмирить, сдавить» [15; 31]. И бесы достигают своей цели – рождают сомнения в душе несчастного: «А меня Бог мучит. Одно только это и мучит. А что, как Его нет? Что, если прав Ракитин, что это идея искусственная в человечестве? Тогда, если Его нет, то человек шеф земли, мироздания. Великолепно! Только как он будет добродетелен без Бога-то? Вопрос! Я всё про это. Ибо кого же он будет тогда любить, человек-то? Кому благодарен-то будет, кому гимн-то воспоёт?» [15; 32].
Заметим, что зло использует разные средства: Ракитин пытается столкнуть Дмитрия с его пути логикой примитивного бытового позитивизма и эгоизма, а Иван создаёт впечатление некой великой тайны: «У Ивана Бога нет. У него идея. Не в моих размерах. Но он молчит. Я думаю, он масон. Я его спрашивал – молчит. В роднике у него хотел водицы испить – молчит» [15; 32]. Дмитрий не знает, что у Ивана и Великого инквизитора – одна тайна на двоих. Но как бы ни выглядела эта тайна внешне, её практическое воплощение ничем не отличается от того, к чему ведёт Ракитин. Иван однажды сказал: «Фёдор Павлович <…>, папенька наш, был поросёнок, но мыслил он правильно», и Дмитрий поражён: «Это уж почище Ракитина» [15; 32].
Наибольшее давление Дмитрий испытывает со стороны Ивана, который искушает его так же, как до этого – Алексея. Иван предлагает Дмитрию побег, стоимость которого открыто символична – тридцать тысяч рублей. В его «поэме» Христос предаёт Себя и уходит из мира, и Ивану очень хотелось бы, чтобы так произошло и в жизни. Побег Дмитрия означал бы не только его признание в убийстве отца, но и отказ от спасения. И Дмитрий это понимает: с деньгами, Грушенькой, на свободе, но без Родины и без мира в душе, потому что «а <…> совесть-то? От страдания ведь убежал! Было указание – отверг указание, был путь очищения – поворотил налево кругом. <…> От распятья убежал!» [15; 34]. Ярким символом гибельности этого пути выступает его конечная цель – Америка. Напомним, что в поэтике Достоевского этот топоним означает конец жизненного пути, смерть[303]303
Так, ещё в «Преступлении и наказании» Свидригайлов прощается с жизнью словами: «Поехал, дескать, в Америку!» [6; 394].
[Закрыть].
Дмитрий говорит, что весь план побега «выдумал» сам Иван и теперь «настаивает!» на нём, «страшно настаивает. Не просит, а велит», и даже «в послушании не сомневается… <…> До истерики хочет» [15; 35]. Побег Дмитрия необходим Ивану как последняя возможность доказать собственную невиновность. Он снова заставил себя поверить в ложь, но она постоянно нуждается хоть в каком-нибудь правдоподобии, которое и мог придать ей побег Дмитрия. Поэтому Иван запрещает брату говорить кому-либо о плане побега и особенно Алексею: «Никому, а главное, тебе: тебе ни за что! Боится, верно, что ты как совесть предо мной станешь» [15; 35]. И действительно, «новый человек», родившийся в Дмитрии, нуждается в помощи: «Обними меня поскорей, поцелуй, перекрести меня, голубчик, перекрести на завтрашний крест…» [15; 35]. Усилия бесов не прошли даром, вера Дмитрия в избранный путь пошатнулась – он остановил уходившего Алексея и потребовал сказать, считает ли тот его убийцей. Алексей ответил отрицательно, и «блаженство озарило мгновенно всё лицо Мити. – «Спасибо тебе! <…> Теперь ты меня возродил… <…> Укрепил ты меня на завтра, благослови тебя Бог!»» [15; 36].
День суда стал третьим этапом духовного перерождения Дмитрия. Автор замечает, что «он как будто что-то пережил в этот день на всю жизнь, научившее и вразумившее его чему-то очень важному, чего он прежде не понимал» [15; 175]. Об этом говорит «последнее слово» Дмитрия на суде: «Суд мой пришёл, слышу десницу Божию на себе. Конец беспутному человеку! Но как Богу исповедуясь, и вам говорю: «В крови отца моего – нет, не виновен!» В последний раз повторяю: «Не я убил!» Беспутен был, но добро любил. Каждый миг стремился исправиться, а жил дикому зверю подобен» [15; 175]. Теперь Дмитрий не просто уверовал в Бога, а смирился перед Ним («слышу десницу…»), признав свою прошлую жизнь неправильной. Имея в себе образ Божий («добро любил»), он жил безо всякой цели и смысла («был беспутен»). Осознав это, Дмитрий просит всех людей о милосердии и прощении: «Коли пощадите, коль отпустите – помолюсь за вас. Лучшим стану, слово даю, перед Богом его даю. А коль осудите – сам сломаю над головой моей шпагу, а сломав, поцелую обломки! Но пощадите, не лишите меня Бога моего, знаю себя: возропщу! Тяжело душе моей… пощадите!» [15; 178]. В ожидании решения присяжных публика обсуждает происшедшее и находит истинного виновника: «Эх ведь чёрт! – Да чёрт-то чёрт, без чёрта не обошлось, где ж ему и быть, как не тут» [15; 177].
В просьбе Дмитрия о пощаде слышится прежний Митенька – надеющийся на то, что всё происходящее исчезнет, как сон. Подобно Раскольникову, «он даже и не знал того, что новая жизнь не даром же ему достаётся, что её надо ещё дорого купить, заплатить за неё великим, будущим подвигом…» [6; 421]. Время от вынесения приговора до каторги становится следующим этапом духовного перерождения героя. Автор подчёркивает изменения, происходящие в нём: ««Клянусь Богом и Страшным судом Его, в крови отца моего не виновен! Катя, прощаю тебе! Братья, други, пощадите другую!». Он не договорил и зарыдал на всю залу, в голос, страшно, каким-то не своим, а новым, неожиданным каким-то голосом, который Бог знает откуда вдруг у него явился (курсив наш. – О. С.)» [15; 178]. Эти изменения шли постепенно, и «многое совершилось с того дня» с Дмитрием [15; 182]. Он наконец увидел главную причину всего случившегося – собственную гордыню – и теперь просит у Господа смирения перед предстоящими испытаниями: «Боже, Господи, смири меня» [15; 187]. Смирение – это способность человека быть в мире с самим собой, с людьми и с Богом. Мир посылается Богом как награда за долгий труд по очищению души от скверны и победы над самим собой: «Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать» (Иак. 4:6). Поэтому Достоевский записывает в черновике: «Смирение – величайшая сила» [15; 244].
Благодатная помощь Божия крайне необходима Дмитрию, потому что не побеждённая до конца гордость может вновь открыть душу для греха: «Если бить станут дорогой, аль там, то я не дамся, я убью, и меня расстреляют. И это двадцать ведь лет! <…> За Грушу бы всё перенес, всё… кроме, впрочем, побой…» [15; 185]. Колебания ещё не окрепшей души Дмитрия пытаются использовать бесы: «Порывался уже два раза увидеться с ним Ракитин; но Митя настойчиво просил <…> не впускать того» [15; 183].
Однако Ракитин – чужой человек, а вот рядом «орудуют» свои, родные. Иван, научаемый сатаной, начал готовить побег, его дело продолжила Катерина Ивановна, пытаясь втянуть в него и Алексея. Она воздействует на его сознание своей красотой, искренностью и даже своим несчастьем. И Алексей, оставшийся без помощи учителя, начинает колебаться, – он не склоняет брата к побегу, как того хочет Катерина Ивановна, но и не отговаривает от него: «Слушай, брат, раз навсегда <…>, вот тебе мои мысли на этот счёт. И ведь ты знаешь, что я не солгу тебе. Слушай же: ты не готов, и не для тебя такой крест. Мало того: и не нужен тебе, не готовому, такой великомученический крест. Если бы ты убил отца, я бы сожалел, что ты отвергаешь свой крест. Но ты невинен, и такого креста слишком для тебя много. Ты хотел мукой возродить в себе другого человека; по-моему, помни только всегда, во всю жизнь и куда бы ты ни убежал, об этом другом человеке – и вот с тебя и довольно. То, что ты не принял большой крестной муки, послужит только к тому, что ты ощутишь в себе ещё больший долг и этим беспрерывным ощущением впредь, во всю жизнь, поможешь своему возрождению, может быть, более, чем если б пошёл туда. Потому что там ты не перенесёшь и возропщешь <…>. Не всем бремена тяжкие, для иных они невозможны…» [15; 185].
Назвав эту главу «На минутку ложь стала правдой», Достоевский дал ключ ко всему сказанному в ней. Алексей «на минутку» забыл, что Господь не даёт человеку креста не по его силам и что всякий, кто несёт его смиренно и твёрдо, получает от Него благодатную помощь. Сердцем Алексей чувствует глубокую неправду своих слов, сказанных брату, но разум легко подыскивает оправдания: «Если бы за побег твой остались в ответе другие: офицеры, солдаты, то я бы тебе «не позволил» бежать <…>. Но говорят и уверяют <…> что отделаться можно пустяками. Конечно, подкупать нечестно даже и в этаком случае, но тут уже я судить ни за что не возьмусь, потому, собственно, что если б мне, например, Иван и Катя поручили в этом деле для тебя орудовать, то я, знаю это, пошёл бы и подкупил; это я должен тебе всю правду сказать. А потому я тебе не судья в том, как ты сам поступишь. Но знай, что и тебя не осужу никогда» [15; 185]. Однако страдание уже сделало Дмитрия мудрым: ««Но зато я себя осужу! <…> Я убегу, это и без тебя решено было: Митька Карамазов разве может не убежать? Но зато себя осужу и там буду замаливать грех во веки! Ведь этак иезуиты говорят, этак? Вот как мы теперь с тобой, а? – Этак», – тихо улыбнулся Алёша» [15; 186].
Дмитрий знает главное – побег означает «другую каторгу, не хуже, может быть, этой!» [15; 186]. И если он сейчас не в силах вынести «эту», то неизбежно погибнет на «той». Но тогда вместе с ним погибнет и Грушенька: «Ну американка ль она? Она русская, вся до косточки русская, она по матери родной земле затоскует, и я буду видеть каждый час, что это она для меня тоскует, для меня такой крест взяла, а чем она виновата?» [15; 186]. Главное же, что в новой каторге не будет того, что есть в этой: «Я эту Америку, чёрт её дери, уже теперь ненавижу. <…> Ненавижу я эту Америку уж теперь! И хоть будь они там все до единого машинисты необъятные какие али что – чёрт с ними, не мои они люди, не моей души! Россию люблю <…>, русского Бога люблю, хоть я сам и подлец! Да я там издохну!» [15; 186].
Очевидно, что судьбами братьев Карамазовых Достоевский показывает различные пути будущей России. Алексей и Иван символизируют крайние варианты: естественной укоренённости в народном духе противостоит нигилизм Ивана. Подобные типы и были и есть в русском обществе, но его основную массу представляет образ Дмитрия, соединяющий в себе черты обоих крайностей. Полагаем, Достоевский понимал, что этот путь наиболее вероятен для России, хотя он всё же желал бы для неё пути Алексея – более прямого и ясного[304]304
Это упование писателя со всей яркостью выразилось в финале рассказа «Сон смешного человека» (1877): «А между тем так это просто: в один бы день, в один бы час – всё бы сразу устроилось! Главное – люби других как себя, вот что главное, и это всё, больше ровно ничего не надо: тотчас найдёшь как устроиться…» [25; 119].
[Закрыть].
Образ Павла Фёдоровича Смердякова отличается от всех других героев своей неотмирностью. Он – словно пришелец из какой-то иной реальности, лишь на время и случайно оказавшийся в этой. Смердяков настолько отличается от других людей, что даже его приёмный отец, старик Григорий, замечает: «Ты разве человек <…>, ты не человек, ты из банной мокроты завёлся, вот ты кто…» [14; 114]. Говоря так, Григорий не слишком преувеличивает. Смердяков родился в бане, являющейся для русского народа традиционным обиталищем нечистой силы. Но главное – он родился от греха, на который способен далеко не всякий человек. Поэтому можно предположить, что бес вошёл в его душу уже в момент зачатия да так и остался в ней. И Смердяков жил и рос на границе двух миров – духовного и человеческого. Но, будучи порождением зла, он изначально принадлежал ему, априори отвергая мир Божий и прежде всего его основу – любовь. Раньше других это понял Григорий, сказав жене: «Не любит он нас с тобой, этот изверг <…>, да и никого не любит (курсив наш. – О. С.)» [14; 114]. Эта неспособность любить кого-либо действительно извергает Смердякова из мира обычных людей и сближает с духами зла.
Будучи максимальным развитием тёмной, бесовской части души своего родителя, он ненавидит Россию ещё сильнее его и искренне желает ей скорейшей гибели: «Я всю Россию ненавижу <…>. В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, отца нынешнему, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки-с» [14; 205]. И при этом Смердяков вовсе не идеализирует Европу: «По разврату и тамошние, и наши все похожи. Все шельмы-с, но с тем, что тамошний в лакированных сапогах ходит, а наш подлец в своей нищете смердит и ничего в этом дурного не находит. Русский народ надо пороть-с…» [14; 205].
Другой характерной чертой Смердякова является гордость. Автор замечает: «Человек ещё молодой, всего лет двадцати четырёх, он был страшно нелюдим и молчалив. Не то чтобы дик или чего-нибудь стыдился, нет, характером он был, напротив, надменен и как будто всех презирал» [14; 114]. Искренне считая себя умнее многих людей, он полагал явной несправедливостью своё подчинённое по отношению к ним положение. Поэтому Смердяков никого не уважает, не любит и даже не боится. Единственное, чего ему не хватает, чтобы почувствовать себя вполне человеком, – это денег: «Была бы в кармане моём такая сумма, и меня бы здесь давно не было» [14; 205]. Но деньги ему нужны только как средство для получения власти над другими людьми. Пока же, не имея её, он заражает своей злобой всех, кто заведомо слабее его. Так, он научил Илюшу Снегирёва «зверской шутке, подлой шутке – взять кусок хлеба, мякишу, воткнуть в него булавку и бросить какой-нибудь дворовой собаке, из таких, которые с голодухи кусок, не жуя, глотают, и посмотреть, что из этого выйдет» [14; 480]. Именно Смердяков стал причиной первого греха, глубоко поразившего душу ребёнка, когда тот осознал случившееся и «больной, в слезах, три раза <…> повторял отцу: «Это оттого я болен, папа, что я Жучку тогда убил, это меня Бог наказал!»» [14; 482].
Достоевский подчёркивает, что нечеловеческая жестокость Смердякова укоренена в его природе: «В детстве он очень любил вешать кошек и потом хоронить их с церемонией. Он надевал для этого простыню, что составляло вроде как бы ризы, и пел и махал чем-нибудь над мёртвою кошкой, как будто кадил. Всё это потихоньку, в величайшей тайне» [14; 114]. При этом он не просто убивал кошек, а вешал их, что давало ему возможность наблюдать за мучительной агонией живого существа. Всецело отдаваясь своему безотчётному желанию, Смердяков не нуждался в каких-либо санкциях совести. Вероятно, удовольствие от процесса убийства перевешивало страх возможного наказания, и было ясно, что он с ещё большим удовольствием убивал бы людей, если бы только был уверен, что не будет пойман. Поэтому он безо всяких колебаний, легко убивает родного отца, как только предоставляется возможность остаться безнаказанным. Позже Смердяков скажет Ивану, что если бы такой возможности не случилось, то «тогда ничего бы и не было-с…» [15; 62].
Однако Смердяков знает, что, убивая, он нарушает закон, и хочет переложить с себя хотя бы часть ответственности за преступление. Он идёт к своей цели, но боится последующего воздаяния – не от людей, а от Бога, о существовании Которого он, как всякий бес, прекрасно знает. Поэтому он стремится стать орудием чужой воли и воспринимает слова Ивана о праве безбожника на преступление как её проявление. Напомним, что хотя слова произносит Иван, принадлежат они не ему, а той силе, которая уже завладела его разумом и волей.
Силу этой власти писатель показывает характерной сценой: Иван хотел пройти мимо Смердякова, но вдруг взглянул на него «и остановился, и то, что он так вдруг остановился и не прошёл мимо, как желал того ещё минуту назад, озлило его до сотрясения» [14; 243]. Достоевский усиливает этот эффект описанием внешности Смердякова: «Левый чуть прищуренный глазок его мигал и усмехался, точно выговаривая: «Чего идёшь, не пройдёшь, видишь, что обоим нам, умным людям, переговорить есть чего»» [14; 243]. Иван затрясся от гнева: ««Прочь, негодяй, какая я тебе компания, дурак!» – полетело было с языка его, но, к величайшему его удивлению, слетело с языка совсем другое: «Что батюшка, спит или проснулся?» – тихо и смиренно проговорил он, себе самому неожиданно, и вдруг, тоже совсем неожиданно, сел на скамейку. На мгновение ему стало чуть не страшно…» [14; 244]. Переменой мизансцены Достоевский показывает, кто является настоящим господином, а кто – слугой. Теперь Иван сидел, глядя на Смердякова снизу вверх, а тот «стоял против него, закинув руки за спину и глядел с уверенностью, почти строго» [14; 244]. Потрясённый происходящим, Иван попытался вырваться из плена, но едва только он «качнулся, чтобы встать», «Смердяков точно поймал мгновенье» и так остановил Ивана словом, что тот «тотчас же опять уселся» [14; 244]. Он понял, что получит свободу только тогда, когда исполнит то, чего от него ждёт Смердяков и его господин.
Дело в том, что сатана не может сам убить человека, но может использовать в качестве своего орудия того, кто ненавидит ближнего своего или желает ему смерти. И теперь он стоит перед Иваном в облике лакея Смердякова и требует немедленного ответа. Как только Иван понял это, «что-то как бы перекосилось и дрогнуло» в его лице, и «он вдруг покраснел» [14; 249]. Он попытался разом освободиться от дьявольской власти и «внезапно, как бы в судороге, закусил губу, сжал кулаки и – ещё мгновение, конечно, бросился бы на Смердякова. Тот по крайней мере это заметил в тот же миг, вздрогнул и отдёрнулся всем телом назад» [14; 249]. Однако сил для борьбы у Ивана нет, потому что он – такой же раб зла, как и Смердяков. Иван понял это ещё тогда, когда увидел Смердякова возле дома отца: «С первого взгляда на него понял, что и в душе его сидел лакей Смердяков…» [14; 242].
«Лакей» – это человек, продавший свою свободу в обмен на то, что показалось ему более важным. И Иван и Смердяков находятся в рабстве у одного господина, и потому «мгновение прошло для Смердякова благополучно, и Иван Фёдорович молча, но как бы в каком-то недоумении, повернул в калитку» [14; 249]. Он уходит, отдавая отца на заклание: ««Я завтра в Москву уезжаю, если хочешь это знать, – завтра рано утром – вот и всё!» – с злобою, раздельно и громко вдруг проговорил он, сам себе потом удивляясь, каким образом понадобилось ему тогда это сказать Смердякову» [14; 249]. И сразу же Смердяков принял свой обычный вид и отступил назад, а Иван вдруг «засмеялся и быстро прошёл в калитку, продолжая смеяться. Кто взглянул бы на его лицо, тот наверно заключил бы, что засмеялся он вовсе не оттого, что было так весело. Да и сам он ни за что не объяснил бы, что было тогда с ним в ту минуту. Двигался и шёл он точно судорогой» [14; 250]. С этого момента старый дом семьи Карамазовых стал дверью в ад, открыл которую сам Иван.
Одно преступление неизбежно повлекло и другое: разрешив Смердякову убить отца, Иван стал его прямым соучастником. Всю ночь он не смыкал глаз, «вставал с дивана и тихонько, как бы страшно боясь, чтобы не подглядели за ним, отворял двери, выходил на лестницу и слушал вниз, в нижние комнаты, как шевелился и похаживал там внизу Фёдор Павлович – слушал подолгу, минут по пяти, со странным каким-то любопытством, затаив дух, и с биением сердца, а для чего он всё это проделывал, для чего слушал – конечно, и сам не знал. Этот «поступок» он всю жизнь свою потом называл «мерзким» и всю жизнь свою считал, глубоко про себя, в тайниках души своей, самым подлым поступком изо всей своей жизни» [14; 251].
В сложившейся ситуации только Иван мог остановить зло и не допустить злодейства. Но после того, как он «придушил в себе нравственное чувство» и преступил границу закона Божия, он уже не принадлежал себе, а потому (как и Раскольников в аналогичной ситуации) лишь безвольно наблюдал за происходящим словно со стороны: «Иван Фёдорович даже усмехнулся при мысли, что так всё сошлось, что нет никакой задержки внезапному отъезду» [14; 252]. Он покидает дом отца и уж совсем против своей воли докладывает об этом Смердякову: ««Видишь… в Чермашню еду…» – как-то вдруг вырвалось у Ивана Фёдоровича, опять как вчера, так само собою слетело, да ещё с каким-то нервным смешком. Долго он это вспоминал потом» [14; 254]. Чем дальше Иван отъезжал от дома отца, тем легче и радостней ему становилось: «Прочь всё прежнее, кончено с прежним миром навеки, и чтобы не было из него ни вести, ни отзыва; в новый мир, в новые места, и без оглядки!» [14; 255]. Но совесть напомнила о цене этой свободы, и «вместо восторга на душу его сошёл вдруг такой мрак, а в сердце заныла такая скорбь, какой никогда он не ощущал прежде во всю свою жизнь» [14; 255]. Иван понял, что он только что купил собственное счастье, пусть и не «слезой невинного ребёнка», но жизнью родного отца.
Словами Фёдора Павловича автор указывает, что из всех братьев Смердяков особо ненавидит Алексея: «Он и меня терпеть не может», а «Алёшку подавно, Алёшку он презирает» [14; 122]. Это происходит потому, что Алексей живёт по законам, исполнение которых Смердяков считает неразумной слабостью. Он знает, что есть Бог и есть святые, которые «где-нибудь там в пустыне египетской в секрете спасаются…» [14; 120]. Но, искренне считая себя лучше многих людей, Смердяков разрешает себе не жить по закону Божьему, наивно полагая, что если так делают все, то и его судить не за что: «Знаю, что Царствия Небесного в полноте (курсив здесь и далее наш. – О. С.) не достигну (не очень-то вере моей там верят, и не очень уж большая награда меня на том свете ждёт)… <…>. На милость Господню весьма уповаю, питаюсь надеждой, что и совсем прощён буду-с…» [14; 121]. При этом он искренне считает возможным отречься от Христа для того, «чтобы спасти тем самым свою жизнь для добрых дел, коими в течение лет и искупить малодушие» [14; 117]. Но здесь его устами говорит сам сатана – отец лжи, потому что сознательное, волевое удовлетворение эгоистических потребностей является не малодушием, а предательством.
Исход жизни Смердякова, самоубийство, обусловлен нравственными причинами: в нём нет любви, а есть лишь злоба – разрушающая, разъедающая душу и делающая бессмысленной и невыносимой жизнь. Единственное, что придавало ей какой-либо смысл, – мечта о свободной и обеспеченной жизни, осуществление которой связывалось с Иваном, который сформулировал теоретическое средства достижения этой цели: «Злодейство не только должно быть дозволено, но даже признано самым необходимым и самым умным выходом из положения всякого безбожника!» [14; 65]. Но после того, как оказалось, что Иван не способен верить не только в Бога, но и в то, о чём сам говорил, Смердяков понял, что остался совсем один.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































