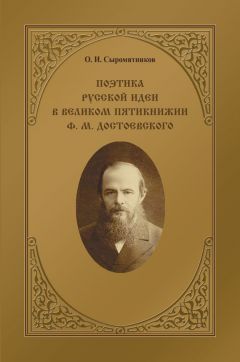
Автор книги: Олег Сыромятников
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 28 страниц)
Искренняя вера матери своим живым примером воспитала и утвердила в душе Подростка множество добрых качеств. Евангельский закон стал живой частью его души, хотя и не был осмыслен разумом: «Моё убеждение, что я никого не смею судить» [13; 48][227]227
Ср.: «Не судите, да не судимы будете» (Мф. 7:1).
[Закрыть]. Аркадий добр и милосерден, о чём говорит его бескорыстная помощь девочке-подкидышу [13; 81]. Он способен искренне полюбить человека и почувствовать боль с его уходом. Так, внезапное известие о смерти Крафта породило в сознании Подростка множество чувств, скоро уступивших место «чрезвычайно сильному ощущению, именно горю, сожалению о Крафте, то есть <…> какому-то весьма сильному и доброму чувству» [13; 130]. Подросток жаждет чистой, настоящей любви, о чём говорит сцена его прощания с отцом [13; 169]. Он способен к раскаянию и покаянию: «Я вдруг вспомнил о всей этой сцене, <…>, и до того мне стало вдруг стыдно, что буквально слёзы стыда потекли по щекам моим. Я промучился весь вечер, всю ночь, отчасти мучаюсь и теперь. Я понять сначала не мог, как можно было так низко и позорно тогда упасть и, глав ное – забыть этот случай, не стыдиться его, не раскаиваться. Только теперь я осмыслил, в чём дело: виною была «идея»» [13; 79].
«Идея» постепенно и исподволь разрушала душу Подростка, изменяя и подменяя представления о добре и зле и других нравственные ценностях. Плоды этой работы уже становились видны. Так, передавая Версилову письмо, имеющее важное значение для решения тяжбы по наследству, Аркадий был совершенно уверен, что Версилов уничтожит его. Более того, «про себя, в самом нутре души, я считал, что иначе и поступить нельзя, как похерив документ совершенно. То есть я считал это самым обыкновенным делом. Если бы я потом и винил Версилова, то винил бы только нарочно, для виду, то есть для сохранения над ним возвышенного моего положения» [13; 151]. Но живое сердце Аркадия ещё способно откликаться на добро: «Услыхав теперь о подвиге Версилова, я пришёл в восторг искренний, полный, с раскаянием и стыдом осуждая мой цинизм…» [13; 151].
Важнейшей причиной падения Подростка стало преступление им второй заповеди Декалога: «Не делай себе кумира…» (Исх. 20:4). Таким кумиром стал для него Версилов: «Я влюбился в него и создал из него фантастический идеал…» [13; 63]. Аркадий понимает, что к сыновней любви это чувство не имеет отношения: «Да я даже, может быть, вовсе и не любил его!» [13; 63], – но противостоять ему не может. Обман кроется в самой природе этого чувства: Аркадий испытывает бессознательное страстное влечение не к живому человеку, а к собственной мечте. При этом он требует со стороны кумира ответного чувства, а когда не получает его, чувствует разочарование, ожесточение и желание отомстить.
Другой причиной падения стала «идея» Подростка. Он вошёл во взрослую жизнь, надеясь с её помощью преодолеть возникающие проблемы и достичь намеченные цели, но скоро обнаружил, что «идея» не только не помогает, а, наоборот, мешает жить в мире обычных людей. Они живут по каким-то своим законам, и чтобы остаться с ними, ему необходимо эти законы понять и принять, а значит – отречься от своей «идеи». Но Подросток этого не хочет, потому что «идея» составляет главную ценность его жизни, и для того, чтобы сохранить её, он решает уйти от людей: «Когда требуют совесть и честь, и родной сын уходит из дому. Это ещё в Библии» [13; 131]. Упоминая притчу о блудном сыне (Лк. 15:11–32), Аркадий пытается придать мотиву своего ухода черты благородства. Однако подлинная причина его поступка (и поступка его евангельского прототипа) – гордость, рождающая своеволие и чувство обиды за недостаточную любовь со стороны окружающих. Этот бунт против мира становится новым шагом к падению. Его описание изменяет жанр повествования: рассказ о себе превращается в исповедь. Она начинается искренним раскаянием: «О низость! <…> Позор! Читатель, я начинаю теперь историю моего стыда и позора, и ничего в жизни не может для меня быть постыднее этих воспоминаний!» [13; 163].
Воспоминания Подростка становятся честным и безжалостным по отношению к самому себе судом, по глубине равным публичным исповедям первых христиан. Его итогом становится ясное осознание того, что именно «идея», порождённая гордыней, стала главной причиной падения: «Но тогда <…> я хоть и начинал уже мучиться, но мне всё-таки казалось, что это вздор… <…>. «Э, ничего, пройдёт! Поправлюсь! Я это чем-нибудь наверстаю… каким-нибудь
добрым поступком… Мне ещё пятьдесят лет впереди!»[228]228
Такова же «нравственная арифметика» Раскольникова: «Не загладится ли одно, крошечное преступленьице тысячами добрых дел? За одну жизнь – тысячи жизней, спасённых от гниения и разложения» [6; 54].
[Закрыть]» [13; 162]. Но остановиться сам Аркадий уже не может: «Так говорю, как судья, и знаю, что я виновен. В том вихре, в котором я тогда закружился, я хоть был и один, без руководителя и советника, но, клянусь, и тогда уже сам сознавал своё падение, а потому неизвиним» [13; 163]. И особенно строго он судит себя за то, «что сознание позора, мелькавшее минутами (частыми минутами!), от которого содрогалась душа моя, <…> пьянило меня ещё более: «А что ж, падать так падать; да не упаду же, выеду! У меня звезда!» Я шёл по тоненькому мостику из щепок, без перил, над пропастью, и мне весело было, что я так иду; даже заглядывал в пропасть. Был риск и было весело» [13; 163–164]. Эта нравственная эйфория возникает благодаря иллюзии могущества, рождённой гордыней, когда человеку лишь кажется, что он может остановиться в любой момент: «А «идея»? «Идея» – потом, идея ждала; всё, что было, – «было лишь уклонением в сторону»: «почему ж не повеселить себя?»» [13; 164]. Скоро возникает желание навсегда забыть о том, что ещё недавно составляло главную ценность в жизни: ««И к чему все эти прежние хмурости, – думал я в иные упоительные минуты, – к чему эти старые больные надрывы, моё одинокое и угрюмое детство, мои глупые мечты под одеялом, клятвы, расчёты и даже «идея»? Я всё это напредставил и выдумал, а оказывается, что в мире совсем не то; мне вот так радостно и легко…» [13; 164]. И наконец, совесть, ослеплённая «идеей», перестает различать добро и зло: «Увы, всё делалось во имя любви, великодушия, чести, а потом оказалось безобразным, нахальным, бесчестным» [13; 164]. Одна страсть родила другую – Аркадий начал играть на рулетке. «Идея» нашла для этого вполне убедительный повод: «Я вовсе не любил деньги. <…> Мне деньги были нужны ужасно, и хоть это был и не мой путь, не моя идея, но так или этак, а я тогда всё-таки решил попробовать, в виде опыта, и этим путём» [13; 229]. Гордость снова уверила Аркадия в его могуществе: «Ведь уж ты вывел, что миллионщиком можешь стать непременно, лишь имея собственно сильный характер; ведь уж ты пробы делал характеру; так покажи себя и здесь: неужели у рулетки нужно больше характеру, чем для твоей идеи?» [13; 229]. И скоро новая страсть
захватила его настолько, что он стал испытывать «наслаждение чрезвычайное, но наслаждение это проходило чрез мучение. <…> Всё это общество, да и самый выигрыш – стало, наконец, отвратительно и мучительно», потому что «всё это, то есть эти люди, игра и, главное, я сам вместе с ними, казались мне страшно грязными» [13; 229]. Наконец Аркадий понимает, что сам остановиться уже не может: «Я уже тогда развратился; мне уже трудно было отказаться от обеда в семь блюд в ресторане, от Матвея (личного извозчика-лихача. – О. С.), от английского магазина, от мнения моего парфюмера, ну и от всего этого» [13; 230].
Мать и сестра пытаются остановить Аркадия и просят прекратить игру, но за него отвечает его гордыня: «Я не пристрастился; это не главное, это только мимолётное <…> Я слишком силён, чтоб не прекратить, когда хочу» [13; 198]. С каждым новым падением способность различать добро и зло становится всё слабее, и Подросток оказывается причиной страдания самых близких людей. Это происходит оттого, что страсти открыли дьяволу доступ к его душе, и постепенно он порабощает её всё более и более. Воля, которой ещё недавно так гордился Аркадий, начинает выходить из повиновения, и он совершает поступки, которых никогда не сделал бы прежде: оскорбляет сестру («точно бес меня дёрнул») и обижает мать, заговорившую с ним о «божественном» [13; 214, 215].
Остатки живой жизни в душе Подростка вопиют о спасении, и в какой-то момент он понимает, что может ему помочь: «Мне нужен лишь идеал!» [13; 209] – то есть ясная, чистая и высокая цель, стремясь к которой он мог бы начать восхождение к Свету. Аркадий бросается за помощью к отцу: «Да, я – жалкий подросток и сам не знаю поминутно, что зло, что добро. Покажи вы мне тогда хоть капельку дороги, и я бы догадался и тотчас вскочил на правый путь. <…> Если б вы мне заранее сказали!» [13; 217, 216]. Но Версилов не может помочь сыну, потому что сам не знает этой «дороги». Более того, не имея ни цели, ни идеала, отвернувшись от Бога и находясь в плену собственных страстей, он падает сам и увлекает за собой сына. Достоевский подчёркивает это символической деталью – Версилов ведёт Аркадия «в маленький трактир на канаве, внизу (курсив наш. – О. С.)» [13; 222], и отделывается ничего не значащими словами: «Все эти спасительные заранее советы – всё это есть только вторжение на чужой счёт в чужую совесть» [13; 216]. В подготовительных материалах эта мысль выражена более
открыто: «Всё это плоды банкрутства старого поколения. Мы ничего не передали новому в назидание, ни одной твёрдой мысли. А сами всю жизнь болели жаждою великих идей. Ну что бы я, например, передал? Мне и тебе передать нечего. Я сам нищий. Всю жизнь верил, что богат и не увижу горести, и вот под старость – с сумой»[229]229
Эти слова, восходящие к Священному Писанию (Откр. 3:17), как нельзя лучше характеризуют духовное состояние «отцов» – теплохладность.
[Закрыть] [16; 282].
Наконец, гордыня открыла доступ к душе Аркадия и сластолюбию – он страстно влюбился в Катерину Ахмакову. Волею Провидения ему попало в руки письмо Ахмаковой, которое могло скомпрометировать её, и Подросток оказался в ситуации морального выбора: просто любым способом передать Катерине Ивановне это письмо или использовать его в своих целях. Великодушие и благородство неоднократно подсказывали правильное решение, но всякий раз гордыня пробуждала «душу паука» [13; 306] – сластолюбивое чувство власти над беззащитной жертвой, – то самое, какого он и хотел достичь с помощью своей «идеи». «Документ» стал осью весов, на которой душа Подростка склонялась то к добру, то ко злу. Не в силах сам сделать правильный шаг, он безвольно ждёт какого-нибудь внешнего толчка, и им становится предложение князя Серёжи поехать на рулетку. Аркадий немедленно соглашается, с ужасом чувствуя, что допускает непоправимую ошибку: «Никогда не казалось мне всё это так омерзительно, так мрачно, так грубо и грустно, как в этот раз!». Но он теперь уже не властен над собой: «Осмыслить не могу, что влекло меня, но влекло необоримо» [13; 265].
Это была та же сила, что расчистила Раскольникову путь к дому старухи и вложила в его руки топор. Под её властью Аркадий проигрался дотла, был обвинён в краже и с позором изгнан с рулетки. Он очутился на улице и вдруг почувствовал себя точно так же, как Раскольников после преступления: «Мне всё казалось, что всё кругом, даже воздух, которым я дышу, был как будто с иной планеты, точно я вдруг очутился на Луне. Всё это – город, прохожие, тротуар, по которому я бежал, – всё это было уже не моё. «Вот это – Дворцовая площадь, вот это – Исаакий, – мерещилось мне, – но теперь мне до них никакого дела»; всё как-то отчудилось, всё это стало вдруг не моё. «У меня мама, Лиза – ну что ж, что мне теперь Лиза и мать? Всё кончилось, всё разом кончилось, кроме одного: того,
что я – вор навечно»» [13; 267][230]230
Ср.: Раскольников «разжал руку, пристально поглядел на монетку, размахнулся и бросил её в воду; затем повернулся и пошёл домой. Ему показалось, что он как будто ножницами отрезал себя сам от всех и всего в эту минуту» [6; 90], «Мать, сестра, как любил я их! Отчего теперь я их ненавижу? Да, я их ненавижу, физически ненавижу, подле себя не могу выносить» [6; 212].
[Закрыть]. И, чтобы разом покончить со всем, он решает поджечь город: «Несомненно, начинался уже бред, но я очень вспоминаю, что действовал сознательно. <…> Мало того, я очень хорошо помню, что я мог в иные минуты вполне сознавать нелепость иного решения и в то же время с полным сознанием тут же приступить к его исполнению. Да, преступление навёртывалось в ту ночь и только случайно не совершилось» [13; 268]. Господь остановил большее зло меньшим и дал «великому грешнику» ещё одну возможность начать новую жизнь: упав с забора дровяного склада, который он собирался поджечь, Аркадий потерял сознание. В таком состоянии его и нашёл Ламберт. Спустя год, вспоминая об этом, Подросток замечает, что «до сих пор наклонен смотреть на эту встречу <…> с Ламбертом как на нечто даже пророческое… судя по крайней мере по обстоятельствам и последствиям встречи» [13; 275]. Аркадий рассказал Ламберту о своей «идее» и «документе», об обиде и желании отомстить. И сразу же события «пустились с такою быстротой, что мне <…> даже самому удивительно, как мог я устоять перед ними, как не задавила меня судьба. Они обессилили мой ум и даже чувства, и если б я под конец, не устояв, совершил преступление (а преступление чуть-чуть не совершилось), то присяжные, весьма может быть, оправдали бы меня. <…> События налегли, как ветер, и мысли мои закрутились в уме, как осенние сухие листья. Так как я весь состоял из чужих мыслей, то где мне было взять своих, когда они потребовались для самостоятельного решения? Руководителя же совсем не было» [13; 240–241]. Ужаснувшись происшедшего, Аркадий убегает от Ламберта, и Господь удерживает его от дальнейшего падения последним средством – болезнью. Аркадий пролежал четыре дня в беспамятстве, а потом ещё пять – обдумывая всё случившееся. Наконец он почувствовал себя «возрождённым, но не исправленным» [13; 281]. Возрождение состояло в том, что, осознав всю глубину своего падения, Аркадий вернулся в некую первоначальную точку, из которой ему предстояло найти путь к исправлению и спасению. Но эти попытки оказались безрезультатными, и Аркадий решает вновь спрятаться
от людей в «идею», «уйти от них совсем, но уже непременно уйти, а не так, как прежде… <…>. Уходить я собирался без отвращения, без проклятий, но я хотел собственной силы, и уже настоящей, не зависимой ни от кого из них и в целом мире…» [13; 281].
Возвращение к «идее» означало лишь продолжение падения, суть которого состояла в том, что человек, столкнувшись со злом, наполняющим мир, рано или поздно понимает свою неспособность победить его. А так как он всё же не может примириться с его существованием, то начинает отвергать весь мир, не понимая того, что тем самым становится на сторону зла. Поэтому Аркадий вновь вспоминает о Ламберте, «как бы предчувствуя тут что-то новое и выходное, соответствующее зарождающимся во мне новым чувствам и планам» [13; 283]. И когда до падения остался один шаг, Господь посылает Аркадию вестника спасения. Подобно «четверодневному Лазарю»[231]231
См.: (Ин. 11:1–46).
[Закрыть] и Раскольникову, на четвёртый день после возвращения сознания Аркадий вдруг слышит слова сильнейшей христианской молитвы: «Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас» [13; 283–284]. Он идёт на голос и впервые в жизни видит своего «юридического» родителя, которому предстоит стать его духовным отцом, – Макара Ивановича Долгорукого. Подросток вспоминает, что Макар взглянул на него и «вдруг улыбнулся и даже тихо и неслышно засмеялся… <…>. Этот смех его всего более на меня подействовал» [13; 284–285]. С этого момента начинается борьба за душу Аркадия, о которой в последнем романе великого пятикнижия Дмитрий Карамазов скажет: «Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей» [14; 100].
Эта борьба осложняется тем, что в ней участвуют три стороны: «идея» Подростка и «идеи» его двух отцов – Версилова и Макара. Даже догадываясь о несостоятельности собственной «идеи», Аркадий не готов отказаться от неё, потому что тогда ему придётся заменить ее новой «идеей». А для этого необходимо твёрдо убедиться в её истинности и величии. Поэтому он хочет понять, чем живут его «отцы», а пока продолжает жить своей привычной жизнью, о которой Достоевский писал в черновике: «После выздоровления: тоска по идеалу, идея мести и ревности и борьба с идеями Макара и Версилова» [16; 341].
Долгое время центральный герой романа обозначался в подготовительных материалах лишь заглавным местоимением третьего лица «ОН», и только в конце сентября – начале октября 1874 года рядом с «ОН» появляется «Версилов», а затем – Андрей Петрович Версилов. Подготовительные материалы упоминают этот образ более пятидесяти раз. Он представляет собой обобщённый символ русского дворянства – «ОДИН ИЗ ПРЕЖНЕГО ПОКОЛЕНИЯ, Я ОДИН ИЗ СТАРЫХ ЛЮДЕЙ» [16; 53]. Г. Я. Галаган замечает: «В родословную духовных исканий ЕГО входят 40‑е годы. Личность ЕГО получает определённые социально-философские корни»[232]232
Галаган Г. Я. Комментарий к Полн. собр. соч. Ф. М. Достоевского в 30 томах. – Л.: Наука, 1976. – Т. 17. – С. 287–288.
[Закрыть]. И в этом смысле он – ровесник и товарищ Степана Трофимовича («Бесы»). Однако в отличие от него Версилов сознаёт свою ответственность перед молодым поколением и не отделён от него миром собственных эстетических переживаний. Он «видит и новое в новых людях, т. е. бесправильность, отрицание долга или просто незнание долга без отрицания, а потому бесстрашие перед преступлением, эгоизм, одноидейность, материальная жажда наслаждений, с другой – отвлечённый идеализм <…>. «Это плоды банкрутства старого поколения, – говорит ОН, – мы ничего не передали новому в назидание и руководство, ни одной твёрдой и великой идеи. А сами всю жизнь болели жаждою великих идей»» [16; 53].
Там же находим: «ОН говорит: нигилисты – это, в сущности, были мы, вечные искатели высшей идеи. Теперь все пошли или равнодушные тупицы, или монахи. Первые – деловые, часто застреливающиеся, а вторые коммунисты <…>. Есть третий разряд – чистокровные подлецы, но этот разряд всегда и везде одинаков» [16; 53]. В окончательном варианте эта идея значительно смягчена: «Мы тогда все кипели ревностью делать добро, служить гражданским целям, высшей идее; осуждали чины, родовые права наши, деревни и даже ломбард… <…>. Нас было немного, но мы говорили хорошо и <…> даже поступали иногда хорошо. <…> Мы, то есть прекрасные люди, в противоположность народу, совсем не умели тогда действовать в свою пользу: напротив, всегда себе пакостили сколько возможно, и я подозреваю, что это-то и считалось у нас тогда какой-то «высшей и нашей же пользой», разумеется в высшем смысле. Теперешнее поколение
людей передовых несравненно нас загребистее» [13; 105–106]. Занявшись общественной деятельностью после реформ Александра II, Версилов «изо всех сил принялся изучать Россию» [13; 108]. Он стремился «не отстать от поколения и понимать современную молодёжь» [13; 148]. И отчасти это ему удалось: «Нетерпелива немного она, теперешняя молодёжь, кроме, разумеется, и малого понимания действительности, которое хоть и свойственно всякой молодёжи во всякое время, но нынешней как-то особенно…» [13; 149].
Трагичность положения Версилова усугубляется ощущением оторванности и от молодого поколения, и от российского общества в целом: «Я западник» [16; 417], «Венецию я пуще России любил» [16; 428]. Один из главнейших мировоззренческих вопросов так и остаётся для него нерешённым: «Чем быть: общечеловеком или русским? Я не знаю до сих пор. Я не могу быть ни тем, ни другим, потому что первого совсем нет, а вторым я и сам быть не хочу» [16; 420] и т. д. Версилов привык быть не только в единстве с обществом, но даже впереди него, однако «в последнее время началось что-то новое, и Крафты не уживаются, а застреливаются» [13; 171]. Действительно, появляются новые, молодые люди, не желающие мириться с углубляющейся пустотой своих душ. Они выбирают себе идею и служат ей честно и беззаветно, отдавая этому служению всю свою жизнь без остатка. Из их числа и сын Версилова, Аркадий.
В «Подростке» Достоевский реализует замысел, не осуществлённый в «Бесах» вследствие конфликта с редакцией, – использует для характеристики своего героя фрагмент Откровения св. Иоанна Богослова, рассказывающий об обращении Бога к ангелу Лаодикийской церкви[233]233
Оно уже использовалось писателем для характеристики Ставрогина в «Бесах». См.: [11; 11].
[Закрыть]. В нём идёт речь об утрате веры: «Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих» (Откр. 3:15–16). Пламенную веру ангел заменил самоуспокоенностью, самообманом: «Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и не в чем не имею нужды», а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг» (Откр. 3:17). Господь советует ангелу вернуть утраченную веру: «Будь ревностен и покайся» (Откр. 3:19), а не заставляет его верить Себе насильно. Он говорит: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь,
войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3:20). Этот мотив неоднократно звучит в подготовительных материалах к роману [16; 76 и 16; 282] и впоследствии соединяется с мотивом притчи о блудном сыне: «Он (т. е. современный человек высших классов) как блудный сын, расточивший отеческое богатство. (Двугривенный действительно получили, но сто рублей за него своих заплатили.) Воротится (к народу), и заколют и для него тельца упитанного» [16; 138–139].
Таким образом, внутренняя идея романа включает в себя мотив спасения и сына (Аркадия), и отца (Версилова). Отношения между ними определяются исторической закономерностью: «Подросток заступает ЕГО место на земле» [16; 35], и Достоевский подчёркивает непосредственное духовное родство отца и сына: «ВЕСРИЛОВ ПОДРОСТКУ: «Я то же самое, что и ты, я твой образ». (Кроме великодушия, ибо одна только гордость и бессмысленная жажда первенства.)» [16; 231]. Действительно, гордость является доминирующей чертой личности Версилова: «Весь роман Подросток мучается от ЕГО замкнутости, гордости, загадочности и бесчеловечности, нелюбовности и к людям, и к нему, главное к нему. Подросток однажды определил ЕГО чувство к себе так, что ОН, может, даже, в раскаянии, и желает любить его и для того из всех сил старается, но не может, ибо эгоист и гордец, который никого не любит» [16; 226]. Более того, ОН, «как гордец и страшный сердцевед, молча и без славы довольствующийся своей гордостью и что все мыши, проник с 1‑го шага, что Подросток влюблён в НЕГО, принял как должное и лишь свысока играл с НИМ» [16; 228].
Этот портрет Версилова дополняют ещё две характеристики: «Рядом с католической ограниченностью, деспотизмом и нетерпимостью, рядом с презрением к своей земле есть упорство, почти энтузиазм в преследовании идеи, во взгляде на мир и проч. Рядом с высочайшею и дьявольскою гордостью («нет мне судьи») есть и чрезвычайно суровые требования к самому себе, с тем только, что «никому не даю отчёту». Наружная выработка весьма изящна: видимое простодушие, ласковость, видимая терпимость, отсутствие чисто личной амбиции. А между тем всё это из надменного взгляда на мир, из непостижимой вышины, на которую ОН сам поставил себя над миром. Сущность, например, та: «Меня не могут оскорбить, потому что они мыши. <…> Они так ничтожны, так ничтожны»» [16; 163–164]. И: «помещик, деспот, сильный ум, настолько кри-
тический, чтоб не стать ни славянофилом, ни западником. Делается глубоким эгоистом. Эгоистом от деспотизма. Деспот же до конца ногтей, настоящий деспот так высоко должен поставить себя, что относится уже елейно без злобы, ибо – мыши, кроты. Им нужно помогать и их поощрять. Влюблённость в НЕГО всех ОН должен принимать как нечто необходимое. <…> Деспот до конца ногтей. Сам признаётся, что атеист, – губит Подростка, рискует погубить его, одумывается…» [16; 181–182]. Портрет Версилова завершает следующий штрих: «ОН – самолюбивая русская середина, ото всего оторвавшаяся и помешавшаяся на том, что ОН скрытый гений, а вовсе не средина» [16; 160].
В окончательном варианте о гордости Версилова говорит Васин: «Это – очень гордый человек, <…>, а многие из очень гордых людей любят верить в Бога, особенно несколько презирающие людей. У многих сильных людей есть, кажется, натуральная какая-то потребность – найти кого-нибудь или что-нибудь, перед чем преклониться. Сильному человеку иногда очень трудно переносить свою силу. <…> Тут причина ясная: они выбирают Бога, чтоб не преклоняться перед людьми, – разумеется, сами не ведая, как это в них делается: преклониться пред Богом не так обидно. Из них выходят чрезвычайно горячо верующие – вернее сказать, горячо желающие верить; но желания они принимают за самую веру. Из этаких особенно часто бывают под конец разочаровывающиеся» [13; 51–52]. Гордость – доминирующая черта личности Версилова. Подчиняясь ей, он совершает поступки даже вопреки собственным интересам. Например, полностью отказывается от наследства, по поводу чего Васин замечает, что «если не половина, то всё же несомненно некоторая часть наследства могла бы и теперь следовать Версилову. <…> Поступок остался бы не менее прекрасным, но единственно из прихоти гордости случилось иначе», и появился «некоторый как бы «пьедестал»» [13; 151].
Неверие – другая важная черта личности центрального героя. Первоначальная детская вера не нашла поддержки в его разуме и постепенно угасла. А гордыня казуистическими спекуляциями поддерживала мысль о ненужности веры и идеала: «1) Версилов убежден в утрате и глупости всякого идеала и в проклятии косности на всём нравственном мире. 2) Некоторое время ОН насильно веровал в Христа. 3) Но вся вера разбилась. Осталось одно нравственное ощущение долга самосовершенствования и добра во что бы то
ни стало (т. е. несмотря ни на какую потерю веры и ни на какое нравственное отчаяние) вследствие собственной сознательной воли, хотения во что бы то ни стало. Хоть идеал и потерян и хоть я и не знаю добра и зла, но по совести, ощупью, буду совершенствоваться – и приду к чему-нибудь. При безверии, вместо отчаяния, решил прямо начать с себя и верует, что к чему-нибудь придёт и что-нибудь ему наверно на дороге откроется (вериги)» [16; 258–259]. Некоторое время до этого, сознавая необходимость и ценность веры, Версилов пытался вернуть её: «Сам себя уверял, что верит. Самому себе доказывал, что есть вера, с чудовищем сомнений своих боролся, давил его, но тот наконец и сожрал его (чудовище)» [16; 33]; «Я и верю, изо всех сил верю, верю именно потому, что нельзя не верить» [16; 73]; «Я верил, потому что боялся, что не верю. А теперь увидел, что и впрямь ничего не верил» [16; 114]; «Я сам себя заставляю» – верить [16; 160]. Из этого стремления добыть веру насилием над самим собой и родилась фамилия центрального героя: Вер<ить> сил<ой>ов. Однако его усилия оказались тщетны, потому что в основе веры лежат покаяние и смирение перед Богом, а это невозможно для Версилова из-за величайшей гордыни.
Гордыня препятствует Версилову просто поверить в Бога, – так, как верит в Него «простой» народ. Не принимая Бога и Его мира, он надеется прожить, полагаясь исключительно на волю и разум, но они уже давно находятся в услужении у гордыни и эгоизма. Подчиняясь им, Версилов совершает преступления, главное из которых – совращение с пути спасения собственного сына. В результате «игра с дьяволом» [16; 40] превращается в служение ему: «ОН, из злостной иронии и сатанинского губления, взял за систему <…> вскружить его, сбить с толку и насмешливо погубить гордостью» [16; 31]. Этим Версилов преступает важнейшие заповеди Христа: «Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? или, когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? или, если попросит яйца, подаст ему скорпиона?» (Лк. 11:11–12). И если «кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит» (Мф. 18:6–7).
Другой чертой личности Версилова является «беспорядок» – отсутствие внутреннего закона, обеспечивающего единство целей
и действий. Поэтому он «мрачен, переменчив, капризен, и весел, и ипохондрик, и мелочен, и великодушен, и великая идея, и цинизм. Всё это от внутреннего неудовлетворения в убеждениях, тайного, сокрытого и для себя атеизма, сомнений в христианстве и проч., т. е. от внутреннего беспорядка» [16; 112]; «От внутреннего беспорядка и недовольства и стал капризен…» [16; 112–113] и пр. Подобный внутренний хаос преодолевается лишь верой в идеал – великую и возвышенную цель, достижению которой подчинены все мысли и поступки. Для человека наиболее полное представление об идеале обобщается в понятии «Бог», но Версилов не может допустить существования рядом с собой не только чего-либо более великого, чем он сам, но даже равного себе. Не принимая Бога, в гордом ослеплении он бросает вызов и Его врагу: «Теперь я только играл с дьяволом, но не возьмёт он меня» [16; 40].
Однако враг рода человеческого, притворяясь покорным, услужливо «подкармливает страсти» Версилова, и те, разрастаясь, постепенно вытесняют из его души добро и свет. В какой-то момент Версилов почувствовал это, заметив, что внутри него есть нечто не подвластное ни его воле, ни разуму. Но дьявол убедил его, что подобная раздвоенность – обычное свойство «необыкновенной» личности[234]234
Такое же чувство испытывает и Раскольников, о котором Разумихин говорит: «Точно в нём два противоположные характера поочередно сменяются» [6; 165], и его же переживает Ставрогин, созерцающий «своего» чёрта.
[Закрыть], и объяснил её естественной «силой уживчивости с чем бы то ни было» [13; 171].
Но на самом деле эта «сила» является лишь продолжением слабости, рождённой внутренней раздвоенностью Версилова, позволяющей ему «чувствовать преудобнейшим образом два противоположные чувства в одно и то же время – и уж конечно не по моей вине (курсив наш. – О. С.)» [13; 171]. Попытка героя допустить одновременное существование в душе и добра и зла наталкивается на сопротивление совести: «Знаю, что это бесчестно» [13; 171]. Но «ослеплённый и неверующий» Версилов не видит выхода из этого нравственного тупика: «Я дожил почти до пятидесяти лет и до сих пор не ведаю: хорошо это, что я дожил, или дурно. Конечно, я люблю жить <…>, но любить жизнь такому, как я, – подло. <…> И неужели земля только для таких, как мы, стоит? Всего вернее, что да; но идея эта уж слишком безотрадная» [13; 171].
С каждым днём Версилову становится всё труднее удерживать две половины распадающейся души. Об этом ярко говорят его слова: «Que diable! Надобно любить своего ближнего» [13; 168]. Главная христианская заповедь[235]235
««Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим» – сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: «возлюби ближнего твоего, как самого себя»; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф. 22: 37–40).
[Закрыть] совмещается здесь с чертыханием, произнесённым на французском языке – языке материализма, атеизма и революционного либерализма. Душа Версилова совмещает в себе и ад и Небо, что даёт ему возможность иногда смотреть на себя словно со стороны, как будто находясь в одной из половинок своей души: «Клянусь, что я именно теперь в настроении в высшей степени покаянном…» [13; 105].
Но постепенно зло подчиняет себе бóльшую часть души героя, и потому иногда «Версиловым» говорит человек, а иногда – сатана. В конце концов это начинают замечать и окружающие. Подготовительные материалы содержат слова Ахмаковой: «Я почувствовала в вас беса…» [16; 113]. А в окончательном варианте дьявол словами Версилова открыто заявляет, что борьба с ним бессмысленна: «Меня ничем не разрушишь, ничем не истребишь и ничем не удивишь. Я живуч, как дворовая собака» [13; 171]. Постепенно воля Версилова слабеет, но гордыня не даёт принять чью-либо помощь, и в конце концов он подчиняется злу, заполняющему душу: «Знаете, мне кажется, что я весь точно раздваиваюсь <…>. Право, мысленно раздваиваюсь и ужасно этого боюсь. Точно подле вас стоит ваш двойник; вы сами умны и разумны, а тот непременно хочет сделать подле вас какую-нибудь бессмыслицу, и иногда превесёлую вещь, и вдруг вы замечаете, что это вы сами хотите сделать эту весёлую вещь, и Бог знает зачем, то есть как-то нехотя хотите, сопротивляясь из всех сил хотите» [13; 408–409].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































