Текст книги "Записные книжки"
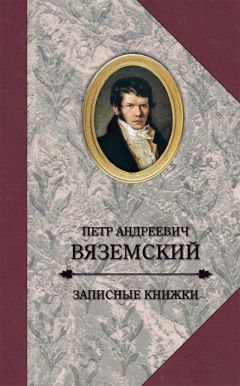
Автор книги: Петр Вяземский
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 42 страниц)
Вот еще несколько отдельных лиц, которые выглядывают из памяти моей.
Старик Приклонский, едва ли не единый на твердой земле, добросовестно и по глубокому убеждению не признавал за Наполеоном императорского титла. До конца жизни своей честил он его не иначе как Первым консулом, к которому питал сочувствие. Он горячо отстаивал мнение свое и не менее горячо негодовал на слабодушие правительств и журналов, которые величали Наполеона императором.
Был еще оригинал, повсеместный, всюду являющийся, везде встречаемый. Он не был оригинал тонкой и примечательной грани; всё было в нем довольно грубо и аляповато;
со всем тем все любили его. Он вхож был во все лучшие дома. Дамский угодник, он находился в свите то одной, то другой московской красавицы. Откуда был он? Какое было предыдущее его? Какие родственные связи? Никто не знал, да никто и не любопытствовал узнать. Знали только, что он дворянин Сибилев, и довольно. Аристократическая, но преимущественно гостеприимная Москва не наводила генеалогических справок, когда дело шло о том, чтобы за обедом иметь готовый прибор для того и для другого. Сибилев имел в Москве, вероятно, двадцать или тридцать таких ежедневно готовых для него приборов.
Хотя и нахлебник, не был он, так сказать, дворовым ни в одном доме, а держал себя пристойно и даже с некоторой независимостью. Бедный или по крайней мере весьма ограниченный в средствах своих, никогда не был он прилипалой пред богатой знатью. Еще одно достоинство: несмотря на проживание его то там, то здесь, он не был сплетником и не переносил сору из одного дома в другой. Вообще был он нрава веселого и большой хохотун. У него были кошачьи ухватки. Он часто лицо свое словно облизывал носовыми платками, которых носил в карманах по три и по четыре. Князь Юсупов говорил про него: «Он не только московский ловелас, но и московский ложелаз». Так прозвал он Сибилева потому, что, бывая во всех спектаклях, он никогда ничего не платил за вход, а таскался по ложам знакомых своих барынь.
Забавно, что, не зная французского языка и не понимая на нем ни полслова, он попал в театральную французскую историю, которая в свое время наделала много шуму в Москве, как сама по себе, так и по своим последствиям. Русская барыня (Карцева) содержала некоторое время труппу французских актеров. Лучшее московское общество охотно посещало ее театр. По каким-то закулисным или внекулисным обстоятельствам содержательница невзлюбила молодую актрису, которая была любимицей публики. Однажды в ее роль на сцену явилась другая актриса. Публика встретила ее дружным шиканьем: не давали ей пикнуть. Вслед за тем стали требовать прежнюю актрису.
Шум и разные наступательные заявления поминутно разрастались. Публика начала вызывать к ответу директрису театра. Завелась гласная и крупная полемика между креслами и сценой. Пересылались с одной стороны к другой колкости и разные поджигательные вызовы.
Полиция была в недоумении и не знала, на что решиться, тем более что спектакль не принадлежал императорской дирекции, а был совершенно частный. Казус выходил неслыханный в летописях полиции и театра. Разумеется, донесли о нем в Петербург, вероятно, с некоторыми преувеличениями и вышивками. Из Петербурга не замедлило прийти приказание арестовать зачинщиков скандала и рассадить военных или военно-отставных по гауптвахтам, а статских – по съезжим домам. Наш бедный ложелаз, не повинный тут не единым словом, попал в сей последний разряд. В числе временных жильцов съезжей был и богатый граф Потемкин. Сей великолепный Потемкин, если не Тавриды, то просто Пречистенки, на которой имел он свой дом, перенес из него в съезжий дом всю роскошную свою обстановку. Здесь давал он нам лакомые и веселые обеды. В восьмой день заточения приехал, во время обеда, обер-полицеймейстер Шульгин 2-й и объявил узникам, что они свободны.
Всё это было довольно драматично и забавно, и замоскворецкий съезжий дом долго не забудет своих неожиданных и необычайных арестантов. Сибилев получил новую известность своим в чужом пиру похмельем.
В числе оригиналов как не помянуть Новосильцева, приятеля графа Растопчина! Он слыл каким-то таинственным нелюдимом, запертом в своем недоступном доме. Москва только и знала его как какого-нибудь стамбульского пашу. С трубкой во рту разъезжал он по городским улицам на красивом коне, покрытом богатым и золотом вышитым черпаком и увешанном богатой цепочной сбруей. Народ, встречаясь с ним, снимал шапки, недоумевая, как величать его.
Разве всё это не живописно? Встречаются ли еще подобные оригиналы-самородки в нашей Белокаменной, или и они переплавлены в общем литейном горниле в одну сплошную и безличную массу? Жаль, если так!
Вскоре после учреждения жандармского ведомства Ермолов говорил об одном генерале: «Мундир на нем зеленый, но если хорошенько поискать, то наверно в подкладке найдешь голубую заплатку».
– Что значит это выражение армяшка, которое вы часто употребляете? – спросил Ермолова князь Мадатов.
– По-нашему, – отвечал Ермолов, – это означает обманщика, плута.
– А, понимаю, – подхватил Мадатов. – Это то, что мы по-армянски называем Алексей Петрович.
* * *
Когда в некоторых журналах наших встречаются (а встречаются часто) французские слова и поговорки, вкривь и вкось употребляемые, это всегда приводит мне на память рассказ Толстого. Он ехал на почтовых по одной из внутренних губерний. Однажды послышалось ему, что ямщик, подстегивая кнутом коней своих, приговаривает:
– Ой вы, Вольтеры мой!
Толстому показалось, что он обслушался, но ямщик еще раза два проговорил те же слова. Наконец Толстой спросил его:
– Да почем ты знаешь Вольтера?
– Я не знаю его, – отвечал ямщик.
– Как же мог ты затвердить это имя?
– Помилуйте, барин: мы часто ездим с большими господами, так вот кое-чего и понаслушались от них.
* * *
КЛОЧКИ РАЗГОВОРОВ, мимоходом СХВАЧЕННЫХ
X: В этом человеке нет никаких убеждений.
С.: Как никаких? Есть одно неизменное и несокрушимое убеждение, что всегда до́лжно плыть по течению, куда бы не несла тебя волна, всегда быть на стороне силы, к какой бы цели не была она направлена, всегда угождать тому или тем, от которого и от которых можно ожидать себе пользы и барыша.
* * *
X: Можно ли было предвидеть, что он так скоро умрет! Еще третьего дня встретился я с ним, он показался мне совершенно здоровым.
Р.:А я уже несколько времени беспокоился о нем. Он был не в себе, как говорят, не в своей тарелке.
X: Что же, вы заметили, что по делам, в присутствии?..
Р.:Нет, тут не замечал я ничего особенного. Всё шло как следует, и никакой перемены в нем не оказывалось. Он слушал и подписывал бумаги безостановочно, но в последние три-четыре дня он делал ошибки в висте, по которым можно было заключить, что начинается какое-то расстройство во внутреннем его механизме.
* * *
Г. (хозяин за обедом): А вы любите хорошее вино?
NN: Да, люблю.
Г.: У меня в погребе отличное вино, еще наследственное: попотчую вас в первый раз, что пожалуете ко мне обедать.
NN (меланхолически и вполголоса): Зачем же в первый раз, а не в этот?
* * *
Князь*** (хозяин за ужином): А как вам кажется это вино?
Пушкин (запинаясь, но из вежливости): Ничего, кажется, вино порядочное.
Князь***: А поверите ли, что тому шесть месяцев нельзя было и в рот его брать.
Пушкин: Поверю.
* * *
Другой хозяин (за обедом): Вы меня извините, если обед не совсем удался. Я пробую нового повара.
Граф Михаил Виельгорский (наставительно и несколько гневно): Вперед, любезнейший друг, покорнейше прошу звать меня на испробованные обеды, а не на пробные.
Третий хозяин: Теперь поднесу вам вино историческое, которое еще от деда хранится в нашем семейном погребе.
Граф Михаил Виельгорский: Это хорошо, но то худо, что и повар ваш, кажется, употреблял на кухне масло историческое, которое хранится у вас от деда вашего.
* * *
Зрелая девица (гуляя по набережной в лунную ночь): Максим, способен ли ты восхищаться луной?
Слуга: Как прикажете, ваше превосходительство.
* * *
Шестнадцатого июня 1853 года узнал я о смерти Льва Пушкина. С ним, можно сказать, погребены многие неизданные стихотворения брата его, может быть, даже и не записанные, которые он один знал наизусть. Память его была – та же типография, частью потаенная и контрабандная. В ней отпечатлевалось всё, что попадало в ящик ее. С ним сохранились бы и сделались бы известными некоторые драгоценности, оставшиеся под спудом; и он же мог бы изобличить в подлоге другие стихотворения, которые невежественными любителями соблазна несправедливо приписываются Пушкину. Странный обычай – чтить память славного человека, навязывая на нее и то, от чего он отрекся, и то, в чем часто неповинен он душой и телом. Мало ли что исходит из человека! Но неужели сохранять и плевки его во веки веков в золотых и фарфоровых сосудах!
Пушкин иногда сердился на брата за его стихотворческие нескромности, мотовство, некоторую невоздержанность и распущенность в поведении, но нежно любил его родственной любовью брата, с примесью родительской строгости. Сам Пушкин не был ни схимником, ни пуританином; но он никогда не хвастался своими уклонениями от торной дороги и не рисовался в мнимом молодечестве. Не раз бунтовал он против общественного мнения и общественной дисциплины, но, по утишении в себе временного бунта, он сознавал законную власть этого мнения. Как единичная личность, как часть общества, он понимал обязанности, по крайней мере внешне, приноровляться к ней и ей повиноваться гласной жизнью своей, если не всегда своей жизнью внутренней, келейной. И это не была малодушная уступчивость. Всякая свобода какой-нибудь стороной ограничивается той или другой обязанностью, нравственной, политической или взаимной. Иначе не быть обществу, а будет дикое своеволие и дикая сволочь.
Лев Пушкин, храбрый на Кавказе против чеченцев, любил иногда и сам, в мирном житии, гарцевать чеченцем и нападать врасплох на обычаи и условия благоустроенного и взыскательного общества. Пушкин старался умерять в младшем брате эти порывы, эти избытки горячей натуры, столь противоположные его собственной аристократической натуре: принимаем это слово и в общепринятом значении его, и в первоначальном этимологическом смысле. Не во гнев демократам будь сказано, а слово аристократия соединяет в себе понятия о силе и о чем-то избранном и лучшем, то есть о лучшей силе.
Лев, или, как слыл он до смерти, Левушка, питал к Александру некоторое восторженное поклонение. В любовь его входила, может быть, и частичка гордости. Он гордился тем, что был братом его, и такая гордость не только простительна, но и естественна и благовидна. Он чувствовал, что лучи славы брата несколько отсвечиваются и на нем, что они освещают и облегчают путь ему. Приятели Александра – Дельвиг, Баратынский, Плетнев, Соболевский – скоро сделались приятелями Льва. Эта связь тем легче поддерживалась, что и в младшем брате были некоторые литературные зародыши. Не будь он таким гулякой, таким гусаром коренным, или драгуном, может быть, и он внес бы имя свое в летописи нашей литературы. А может быть, задерживала и пугала его слава брата, который забрал весь майорат дарования.
Как бы то ни было, но поэтическое чувство было во Льве сильно развито. Он был совершенно грамотен, вкус его в деле литературы был верен и строг. Он был остер и своеобразен в оборотах речи, живой и стремительной. Как брат его, был он несколько смуглый араб, но смахивал на белого негра. Тот и другой были малого роста, в отца. Вообще в движениях, в приемах их было много отцовского, но африканский отпечаток матери видимым образом отразился на них обоих. Другого сходства с нею они не имели. Одна сестра их, Ольга Сергеевна, была в мать и, кстати, гораздо благообразнее и красивее братьев своих.
Первые годы молодости Льва, как и Александра, были стеснены, удручены неблагоприятностью окружающих или подавляющих обстоятельств. Отец, Сергей Львович, был небогат, плохой хозяин, нераспорядительный помещик. К тому же по натуре своей был он скуп. Что ни говори, как строго ни суди молодежь, а должно сознаться, что нехорошо молодому человеку, брошенному в водоворот света, не иметь по крайней мере несколько тысяч рублей ежегодного и верного дохода, хотя бы на ассигнации. Деньги, обеспечивающие положение в обществе, – это необходимый балласт для правильного плавания. Сколько колебаний, потрясений, крушений бывает от недостатка в уравновешивающем и охранительном балласте.
Когда-то Баратынский и Лев Пушкин жили в Петербурге на одной квартире. Молодости было много, а денег мало. Они везде задолжали: в гостиницах, лавочках, в булочной; нигде ничего в долг им более не отпускали. Один только лавочник, торговавший вареньями, доверчиво отпускал им свой товар, да где-то промыслили они три-четыре бутылки малаги. На этом сладком пропитании продовольствовали они себя несколько дней.
После смерти брата Лев, сильно огорченный, хотел ехать во Францию и вызвать на роковой поединок барона Геккерна, урожденного Дантеса, но приятели отговорили его от этого намерения.
Последние годы жизни своей Лев Пушкин провел в Одессе, состоя на службе по таможенному ведомству. Под конец одержим он был водяной болезнью, отправился по совету врачей в Париж для исцеления, возвратился в Одессу почти здоровым, но скоро принялся опять за прежний образ жизни; болезнь возвратилась, усилилась, и он умер.
Водяная болезнь Льва напоминает сказанное Костровым Карамзину незадолго до смерти. Костров страдал перемежающейся лихорадкой. «Странное дело, – заметил он, – пил я, кажется всё горячее, а умираю от озноба».
* * *
Кто-то сказал про Давыдова:
– Кажется, Денис начинает выдыхаться.
– Я этого не замечаю, – возразил NN.
– А может быть, у тебя нос залег?
Когда Михаил Орлов, посланный в Копенгаген с дипломатическим поручением, возвратился в Россию с орденом Даненброг, его спросили в московском Английском клубе: – Что же, ты очень радуешься салфетке своей?
– Да, – отвечал Орлов, – она мне может пригодиться, чтобы утереть нос первому, кто осмелится позабыться передо мной.
* * *
Графиня Радолинска говорит о людях, промышляющих чужими мыслями: «Ум их занимается каботажным (прибрежным) судоходством». Она же говорила: «Писать – значит разжижать».
* * *
Свечина называет записочки, написанные карандашом, разговором вполголоса.
NN говорит: «Есть люди, которые, чтобы доказать тонкость своего умственного и политического чутья, часто предполагают в высокопоставленных лицах какие-то задние мысли, а я часто ищу в них передние и за неимением передних – хоть средние, но и тех не нахожу. Задние мысли могут еще выпрямиться и пригодиться к делу, а от голого безмыслия ожидать нечего».
* * *
«Иные боятся ума, – говорит NN, – а я как-то всё больше боюсь глупости. Во-первых, она здоровеннее и оттого сильнее и смелее; во-вторых, чаще встречается. К тому же ум часто одинок, а глупости стоит только свистнуть, и к ней прибежит на помощь целая артель товарищей и однокашников».
* * *
Кто-то говорил в последней половине минувшего столетия во Франции аббату Терре, генеральному контролеру (то же, что министру финансов):
– Да вы хотите брать деньги даже из наших карманов!
– А откуда же мне брать их, как не из карманов? – отвечал он простодушно.
Николай Федорович Арендт был не только искусный врач, но и добрейший и бескорыстнейший человек. С многих из своих пациентов, даже достаточно зажиточных, он не брал денег, а лечил и вылечивал их из дружбы.
Один из них писал ему однажды: «В болезнь мою я поручил жене моей передать вам после моей смерти мои брегетовы часы; но вы умереть мне не дали, и я нахожу гораздо приличнее и приятнее еще заживо просить вас, почтеннейший и любезнейший Николай Федорович, принять их от меня и хранить на память о ваших искусных и дружеских обо мне попечениях и о неизменной благодарности телесно и душевно вам преданного и обязанного NN».
На другой день Арендт приехал к нему, торопливо (как делал он всё) всунул ему часы и просил о дозволении удержать одну записку.
Выздоравливающих он не баловал. «Вам лучше, – говаривал он, – я к вам более ездить не буду: у меня есть другой, опасно больной, который меня теперь гораздо более интересует, чем вы. Прощайте!»
* * *
На бедный русский чиновный люд пало нарекание во взяточничестве. Это любимый конек нашей бессребреной публицистики и журналистики. Они на этом коньке разъезжают, гарцуют, рисуются, подбоченясь, с презрением и отвагой. Оно, пожалуй, и так: греха таить нечего. Взяточничество у нас – один из способов пропитания, а пропитать себя нужно, потому что каждому жить хочется и дать жить жене и детям.
Но что же, в самом деле, взяточничество? Один из видов недуга, известного под именем любостяжания и сребролюбия. Но разве этот недуг исключительно русский? Не есть ли он поветрие, общее всем народам и всем обществам? Да и болезнь-то не новая, не плод испорченности новых нравов и распущенности. Еще Апостол сказал: «Корень бо всем злым сребролюбие есть». При Адаме денег еще не было, а были яблоки, и Адам, искусившись яблоком, был первый взяточник.
NN говорит, что дипломатия – дело хорошее и нужное, но она хороша, пока о ней, как о Кесаревой жене, ничего не говорят, а заговорит ли она вслух или о ней громко заговорят, то уж быть беде: значит, собираются громовые тучи, а дипломатия редко бывает благонадежным громовым отводом. Часто перья дипломатов приводят к войне, а пушки к миру. Первые иногда так запишутся, что иначе разнять их нельзя, как допустив руки до драки; другие до того выпалятся и так много перебьют народа на той и другой стороне, что и побежденные, и побеждающие нуждаются в мире.
* * *
Многие человеческие известности, знаменитости, как и горы высокие, бывают величественнее и поразительнее, когда смотришь на них издали, а не вблизи. Это своего рода декорации, которыми должно любоваться из партера, а не в кулисах. Монблан пленял меня более и приковывал мои глаза, когда глядел я на него из Женевы, нежели из долины Шамони.
* * *
Талейран во время посольства своего в Лондоне был очень любим и уважаем. Он умел подделаться под англичан, а вместе с тем умом и прославленным острословием своим внушал им почтительный страх.
Однажды на вечере у леди Пальмерстон собрался он уехать ранее обыкновенного.
– Куда же вы так спешите? – спросила хозяйка.
– Мне хочется завернуть к леди Гохланд.
– Зачем?
– Чтобы узнать, что у вас на уме.
Талейран не только высказал свое знаменитое: «Дар слова дан был человеку, чтобы прятать и переряжать мысль свою», но видно, что он применял его и на практике в отношении к другим. Он подарил Пальмерстону собственноручную записку Наполеона (разумеется, 1-го), которою предписывалось уполномоченному от него во время Амьенских переговоров 1802 года, что и буквально как сказать в таком или другом случае, и в том и другом принять за оскорбление всё, что ни сказал бы английский
посол; после того встать со стула, откланяться, подойти к дверям и, взявшись за ручку, остановиться и сказать: «Мне приходит в голову мысль; не знаю, будет ли она одобрена и утверждена моим правительством, но беру на себя ответственность…» (Рассказано мне в Баден-Бадене Бунсеном, который был долгое время прусским посланником в Лондоне, а познакомился я с ним в Риме в 1834—1835 годах.)
Бунсен, дипломат, теолог и немецкий ученый, не имел ни чопорности и потаенности первого, ни сухости и проповедничества второго, ни глубокомысленной и кафедральной скуки третьего. Он был просто приятный собеседник, занимательный и часто поучительный. Между прочим говорил он мне, что Герцен со своей пропагандой и со своим журналом не пользовался в Лондоне не только уважением, но даже и известностью.
* * *
Кто-то говорил об одной барыне, которой он не видал: «Она, должно быть, лицом дурна, потому что приятели ее говорят о ней, что она очень стройна».
Это напоминает слово князя Козловского. Чадолюбивая мать показывала ему малолетних детей своих, которые были один некрасивее другого, и спрашивала его, как они ему кажутся. «Они должны быть очень благонравные дети», – отвечал он.
* * *
Когда Карамзин был назначен историографом, он отправился к кому-то с визитом и сказал слуге:
– Если меня не примут, то запиши меня.
Когда слуга возвратился и сказал, что хозяина дома нет, Карамзин спросил его:
– А записал ли ты меня?
– Записал.
– Что же ты записал?
– Карамзин, граф истории.
* * *
Коллегия докторов, в которой избираются, то есть испытываются, в Китае лица, назначаемые на высшие государственные должности, именуется, кажется, Ган-Лин, то есть лес чернильниц. NN говорит, что когда он входит в свой департамент, ему всегда сдается, будто он входит в китайскую коллегию докторов, то есть в дремучий лес чернильниц.
* * *
Мятлев, Гомер курдюковской Одиссеи, служил некогда по министерству финансов. Директора одного из департаментов прозвал он целовальником, и вот почему: бывало, что ни скажет графиня Канкрина, он сейчас же: «Ах, как это мило, графиня! Позвольте за то поцеловать ручку вашу».
Когда Сабуров определен был советником в Банк, Мятлев сказал:
Канкрин наш, право, молодец!
Он не министр – родной отец:
Сабурова он держит в банке.
Ich danke, батюшка, ich danke.
* * *
Известно, что Ермолов любил отпускать шутки про немцев. Проезжая через Могилев, он говорил, что в главной квартире Барклая нашел только одного русского, и то Безродного[18]18
Безродный Василий Кириллович (1768—1847) был в то время начальником канцелярии у Барклая-де-Толли. – Прим. ред.
[Закрыть].
* * *
Князь Меншиков не любил графа Канкрина. Во время опасной болезни сего последнего кто-то встречает князя на Невском проспекте и говорит ему:
– Сегодня известие о болезни Канкрина гораздо благоприятнее.
– А до меня, – отвечает князь, – дошли самые худые вести: ему, говорят, лучше.
* * *
Александр Тургенев был довольно рассеян. Однажды обедал он с Карамзиным у графа Сергея Петровича Румянцева. Когда за столом Карамзин подносил к губам рюмку вина, Тургенев сказал ему: «Не пейте, вино прескверное, это настоящий уксус». Он вообразил себе, что обедает у канцлера графа Румянцева, который за глухотой своей ничего не расслышит.
* * *
Другой забавный случай по поводу глухоты канцлера. Граф ***, рассудительный, многообразованный, благородный, но до высшей степени рассеянный, приезжает однажды к графу Николаю Петровичу, уже страдавшему почти совершенной глухотой. На первые слова посетителя канцлер как-то случайно отвечает правильно. «Мне особенно приятно заметить (говорит граф), что ваше сиятельство изволите лучше слышать».
Канцлер: Что?
Граф ***: Мне особенно приятно заметить, что ваше сиятельство изволите лучше слышать.
Канцлер: Что?
Граф ***: Мне особенно приятно заметить…
Канцлер: Что?
Таким образом перекинулись они еще раза два теми же словами с одной и другой стороны. Канцлер, указывая на аспидную доску, которая всегда лежала перед ним на столе, просит написать на ней сказанное. И граф *** с невозмутимым спокойствием пишет на доске: «Мне особенно приятно заметить, что ваше сиятельство изволите лучше слышать».
* * *
Граф Сергей Румянцев говорил о допожарной Москве, что в ней жить нельзя и не знаешь, где провести вечер. «Куда ни приедешь, только и слышишь: “Барыня очень извиняется, что принять не может”, или потому что полы моют, или потому что служат мефимоны[19]19
Вечернюю церковную службу. – Прим. ред.
[Закрыть]».
* * *
В каком-то губернском городке дворянство представлялось императору Александру в одно из многочисленных путешествий его по России. Не расслышав порядочно имени одного из представлявшихся дворян, обратился он к нему:
– Позвольте спросить, ваша фамилия?
– Осталась в деревне, ваше величество, – отвечает тот, – но если прикажите, сейчас пошлю за нею.
* * *
В холодный зимний день, при резком ветре, Александр Павлович встречает г-жу Д., гуляющую по Английской набережной.
– Как это не боитесь вы холода? – спрашивает он ее.
– А вы, государь?
– О, я, это дело другое: я солдат.
– Как! Помилуйте, ваше величество, как! Будто вы солдат!
* * *
NN писал к приятелю своему, который был на одной из высоких ступеней общественной лестницы: «В свете чем выше подымаешься, тем более человеку, признающему за собой призвание к делу, выходящему из среды обыкновенных дел, должно быть неуязвимым с ног до головы, непроницаемым, непромокаемым, несгораемым, герметически закупоренным и к тому же еще иметь способность проглатывать лягушек и при случае переваривать ужей. Воля ваша, но я не полагаю, что ваше сложение и ваш желудок достаточно крепки для подобного испытания».
Тоже из письма. «В старой Европе говорили: вежлив как вельможа; нагл, нахален как холоп. Старой Европы уже нет; она приказала долго жить, и мы живем в новой Европе. Ныне многие вельможи говорят: “Мало быть вельможей, нужно еще быть наглым”».
Ничто так не служит вывеской ума ограниченного и пошлого, как высокомерие и невежливость, возрастающие постепенно с возрастанием чинов и почестей. В таком высокомерии есть и большое унижение. В этом случае человек как будто сознает, что как личность он ничтожен, а придает себе вес только по благоприобретенным, а часто злоприобретенным внешним принадлежностям своим.
* * *
ОТКРОВЕННЫЕ И ИСПОВЕДНЫЕ РАЗГОВОРЫ
1.
Чиновник полицейского ведомства (в начале 1820-х годов или ранее, в Петербурге): Начальство поручило мне объясниться с вами. Оно заметило, что живете вы не по средствам своим, что издерживаете много денег, ведете даже жизнь роскошную, а по собранным справкам оказывается, что не имеете ни деревень, ни капиталов, ни родственников, которые помогали бы вам. Начальство желает знать, какие источники доходов ваших.
Страт (с некоторой запинкой): Если начальству непременно нужно знать, какие источники доходов моих, то обязываюсь откровенно признаться, что пользуюсь женскими слабостями.
2.
Барыня Г.: Какой несносный у меня духовник с любознательностью своей! Настоящая пытка!
NN: Как это?
Барыня Г.: Да мало ему того, что приносишь чистосердечное покаяние во грехах своих! Он еще допытывается узнать, как, когда и с кем. Всего и всех не припомнишь. Тут еще невольно согрешишь неумышленным умалчиванием.
* * *
Есть люди, которые огорчаются чужой радостью, обижаются чужим успехам и больны чужим здоровьем. Добро бы еще, если б действовали в них соперничество, ревность, совместничество, что французы называют jalousie de metier[20]20
Зависть из-за соперничества в мастерстве. – Прим. ред.
[Закрыть]. Нет, это платоническая, бескорыстная зависть. Они нисколько не желали бы поступить на место, которое занял другой. Нет, им просто бесцельно досадно, что этот другой занял это место или получил такую-то награду.
Я знавал подобного барина, несчастно впечатлительного и раздражительного. Он был молод, красив собой, богат, не был на службе и не хотел служить, мог пользоваться всеми приятностями блестящей независимости. Вдобавок не был он и автор и даже был достаточно безграмотен. Когда же Карамзину, в чине статского советника, была пожалована Анна 1-й степени, его взорвало. «Вот, – говорил он в исступлении, – прямо сбывается русская пословица: не родись ни умен, ни пригож, а родись счастлив!»
У него была и другая равнохарактерная особенность. Он ревновал ко всем женщинам, даже и к тем, к которым не чувствовал никакого сердечного влечения. Подметит ли он, что молодая дама как-то особенно нежно разговаривает с молодым мужчиной, сейчас заподозрит, что тут снуется завязка романтической тайны; он вспылит и готов подбежать к даме с угрозой, что тотчас пойдет к мужу ее и всё ему откроет. Не ручаюсь, чтоб такая угроза не была иногда приводима в действие.
Был еще в Петербурге субъект той же породы: умный, образованный, не из русских, но вполне обрусевший по этой части. Он сам был довольно высоко поставлен на лестнице, известной под именем табели о рангах, а потому и не смущался от мелочных служебных скачков. Его внимание обращено было выше. От этих астрономических и звездочетных наблюдений случались с ним приливы крови к голове. Особенно были для него трудны и пагубны для здоровья дни Нового года, Пасхи, высочайших тезоименитств. Это было хорошо известно семейству его: в эти роковые дни по возвращении из дворца ожидали уже его на дому доктор и фельдшер и, по размеру розданных Александровских и Андреевских лент и производств в высшие чины, ставили ему соответственное количество пиявок или рожков[21]21
Рожки – используемые в XIX веке (изготовленные из рогов коровы или быка) инструменты для кровопускания. – Прим. ред.
[Закрыть].
Был еще мне хорошо и приятельски знаком третий образчик этого физиологического недуга, но он был так простосердечен, так откровенен в исповедании слабостей своих, что обезоруживал всякое осуждение. Он не только не таил их под лицемерным прикрытием равнодушия и презрения к успехам и почестям, но охотно обнаруживал их с самоотвержением и, что всего лучше, с особенной забавностью и, на этот случай, с особенной выразительностью и блистательностью речи. Он состоял всегда под лихорадочным впечатлением приказов как военных, так и гражданских, но преимущественно военных. Он был уже в отставке, но и отставной сохранил всю свежесть и чувствительную раздражительность служебных столкновений и местничества. «Как хорошо знает меня граф Закревский, – говорил он мне однажды. – Раз зашел я к нему в Париже. – Что ты так расстроен и в дурном духе? – спросил он меня. – Ничего, – отвечал я. – Как ничего, ты не в духе, и скажу тебе отчего: ты верно, шут гороховый, прочел приказ в “Инвалиде”, сегодня пришедшем. Не так ли? – И точно, я только что прочел военную газету и был поражен известием о производстве бывшего сверстника моего по службе».
Он когда-то состоял при князе Паскевиче, но по неосторожности или по другим обстоятельствам лишился благорасположения его, которым прежде пользовался, и вынужден был удалиться. Этот эпизод служебных приключений бывал частой темой его драматических, эпических, лирических и особенно в высшей степени комических рассказов. Мы уже заметили, что раздражительность давала блестящий и живой оборот всем речам нашего героя. Он тогда становился и устным живописцем, и оратором, и актером, и импровизатором. Между прочим, описывал он свидание свое с князем Паскевичем, несколько лет спустя после размолвки их. «В один из приездов князя в Петербург, повстречавшись с братом моим, спрашивает он его, почему меня не видит. Принял он меня отменно благосклонно и в продолжение разговора вдруг спросил: “А что выиграли вы, не умевши поладить со мной и потерявши мое доверие? Остались бы вы при мне, были бы теперь генерал-лейтенантом, может быть, генерал-адъютантом, кавалером разных орденов”. Каково было мне всё это слышать? И с какой жестокостью, вонзив в сердце мое нож, поворачивал он его в ране моей! Вероятно, для этого заклания и желал он видеть меня». Сцена в высшей степени драматическая.
* * *
Был у меня приятель – доктор, иностранец, водворившийся в России и если не обрусевший (от инокровного и иноверного никогда ожидать нельзя и не нужно совершенного обрусения) то, по крайней мере вполне омосквичившийся. Он был врачом и приятелем всего нашего московского кружка, до 1812 года и долго после того.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































