Текст книги "Записные книжки"
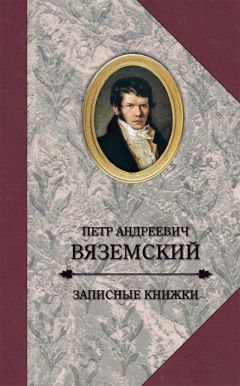
Автор книги: Петр Вяземский
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 42 страниц)
Он был врач не из ученых, хотя и питомец итальянских медицинских факультетов, когда-то очень знаменитых, но из тех врачей, которые нередко исцеляют труднобольных. Глаз его был верен, сметлив и опытен. Если не было в нем глубоких теоретических и книжных познаний, но зато не было и тени шарлатанства и беганья во что бы то ни стало и часто не на живот, а на смерть за всеми хитросплетенными новыми системами. Он не пренебрегал ими, знакомился с ними, но не подчинялся им слепо и суеверно, не развертывал над больным их знамени, чтобы доказать, что и он – доктор-либерал, отрекшийся от старого учения и преданий старого авторитета. К тому же (что еще, кроме науки, нужно врачу) он имел душу, сердоболие, неутомимое внимание за ходом и разносторонними видоизменениями болезни, веселые приемы и совершенно светское обращение.
Могу говорить о нем с достоверностью и досконально, потому что два раза в труднейших и опаснейших болезнях был я в руках его, и оба раза я, как говаривал К. (по словам Сонцова), оттолкнул мрачную дверь гроба и остался, как вы видите, на земле, чтобы прославлять имя моего земного спасителя. Он был не лишний и у постели больного, и за приятельским обеденным столом. Во всяком случае, мы выпили с ним более вина, нежели микстур, им прописанных.
Один из больных, страдавший более внешней болью, чем внутренней, настойчиво требовал, чтобы врач прописал ему какое-нибудь лекарство. Тот отказывался, говоря, что не нужно и что боль скоро сама собой пройдет. Наконец, чтобы отделаться от докучливых требований, сел он за письменный стол и начал писать рецепты. Тут больной испугался и стал просить, чтобы ему дали лекарство не слишком крепкое. «Будьте покойны, – отвечал мой приятель, – пропишу такое лекарство, которое ничего вам не сделает».
Однажды жаловался он мне на свои домашние невзгоды с женой.
– Сами виноваты вы, – сказал я ему. – Доктору никогда не нужно вступать в брак: каждый день и целый день не сидит он дома, а рыскает по городу; случается и ночью. Жена остается одна, скучает, а скука – советница коварная.
– Нет, совсем не то, что вы думаете, – перебил он речь мою.
– Во всяком случае, повторяю: что за охота была вам жениться?
– Какая охота? – сказал он. – Тут охоты никакой не было, а вот как оно случилось. Девица N., помещица С-кой губернии, приехала в Москву лечиться от грудной болезни. Я был призван, мне удалось помочь ей и поставить ее на ноги. Из благодарности влюбилась она в меня: начала преследовать неотвязной любовью своей, так что я не знал, куда деваться от нее и как отделаться. Наконец расчел я, что лучшее и единственное средство освободиться от ее гонки за мной есть женитьба на ней. По моим докторским соображениям и расчетам, я пришел к заключению, что хотя, по-видимому, здоровье ее несколько поправилось, год кое-как вытерплю; вот я и решился на самопожертвование и женился. А на место того, она изволит здравствовать уже пятнадцатый год и мучить меня своим неприятным и вздорным характером. Поди, полагайся после на все патологические и диагностические указания науки нашей! Вот и останешься в дураках.
Доктор и докторша давно почиют в мире.
* * *
Один перчаточник развесил перед лавкой своей огромную красную ручищу. Он просил у городского начальства позволения выписать на вывеске известный стих, из трагедии «Димитрий Донской»: Рука Всевышнего Отечество спасла. Неизвестно, разрешена ли была просьба его.
* * *
По поводу этих исторических и императорских свиданий припоминаю довольно забавную и замечательную черту нашего простого народа. Дело идет о первом свидании и первой встрече Александра с Наполеоном на плоту на реке Неман, в 1807 году. В это время ходила в народе следующая легенда.
Несчастные наши войны с Наполеоном грустно отозвались во всем государстве, живо еще помнившем победы Суворова при Екатерине и при Павле. От этого уныния до суеверия простонародного, что тут действует нечистая сила, недалеко, и Наполеон прослыл Антихристом. Церковные увещевания и проповеди распространяли и укрепляли эту молву. Когда узнали в России о свидании императоров, зашла о том речь у двух мужичков.
– Как же это, – говорит один, – наш батюшка, православный царь, мог решиться сойтись с этим окаянным, с этим нехристем. Ведь это страшный грех!
– Да как же ты, братец, – отвечал другой, – не разумеешь и не смекаешь дела? Разве ты не знаешь, что они встретились на реке? Наш батюшка именно с тем и повелел приготовить плот, чтобы сперва окрестить Бонапартия в реке, а потом уже допустить его пред свои светлые царские очи.
В течение войны 1806 года и с учреждением народной милиции имя Бонапарта (немногие называли его тогда Наполеоном) сделалось очень известным и популярным во всех углах России. Народ как будто предчувствовал, угадывал в нем Бонапартия 1812 года. Одна старая барыня времен Екатерины, привыкшая к могуществу и славе ее, не называла его иначе как Бонапартиха, судя по аналогии, что он непременно не император, а императрица.
По поводу милиции всюду были назначены областные начальники, отправлены генералы и сенаторы для обмундирования и наблюдения за порядком, вооружением ратников и так далее. Воинская деятельность охватила всю Россию. Эта деятельность была несколько платонической; она мало дала знать себя врагу на деле, но могла бы надоумить его, что в народе есть глубокое чувство ненависти к нему и что разгорится она во всей ярости своей, когда вызовет он ее на родной почве на рукопашный бой.
Алексей Михайлович Пушкин, состоявший по милицейской службе при князе Юрии Владимировиче Долгоруком, рассказывал следующее. На почтовой станции одной из отдаленных губерний заметил он в комнате смотрителя портрет Наполеона, приклеенный к стене.
– Зачем держишь ты у себя этого мерзавца?
– А вот затем, ваше превосходительство (отвечал он), что если не равно, Бонапартий под чужим именем или с фальшивой подорожной приедет на мою станцию, я тотчас по портрету признаю его, голубчика, схвачу, свяжу, да и представлю начальству.
– А это дело другое! – сказал Пушкин.
* * *
Про одну из барынь прошлого века, ехавшую за границу вскоре после Наполеоновских войн, граф Растопчин говорил: «Напрасно выбрала она это время. Европа еще так истощена».
* * *
С NN случилась неприятность или беда, которая огорчала его. Приятель, желая успокоить его, говорил ему: – Напрасно тревожишься, это просто случай.
– Нет, – отвечал NN, – в жизни хорошее случается, а худое сбывается.
* * *
Однажды, при чтении в частном обществе нескольких глав неизданного романа, один из слушателей Т. заснул. «Он один имел смелость заявить мнение свое», – сказала девица В.
При другом случае NN сказал: «Не требует большой смелости совершение глупости». А это бывает чаще. Смелость, откровенность убеждения, то есть бесстрашие, с которым высказываешь и поддерживаешь убеждение свое против ветра и прилива, как говорят французы, – это, конечно, дело честное и мужественное; это своего рода Фермопильская битва. Но жаль, что нередко самые безобразные и нелепые мнения провозглашаются и защищаются с наибольшим ожесточением. Глупость, именно потому, что она глупость, и придает человеку свою врожденную смелость. Ум может, при случае, задуматься, замяться, совершить даже образцовое и достохвальное отступление, как совершали его иные великие полководцы; глупость, очертя голову, никогда не отступает, а всё лезет вперед и напролом.
* * *
NN говорит о X., писателе расплывчатом: «Он чернилами не пишет, а его чернилами слабит».
* * *
Вследствие какой-то проказы за границей тот же Голицын получил приказание немедленно возвратиться в Россию, на жительство в деревне своей безвыездно.
Возвратившись в отечество, он долгое время колесил во всех направлениях, переезжая из одного города в другой. Таким образом приехал он в Астрахань, где приятель его Тимирязев был военным губернатором. Сей последний немало удивился появлению его.
– Как попал ты сюда, – спрашивал он, – когда повелено тебе жить в деревне?
– В том-то и дело, – отвечает Голицын, – что я всё ищу, где может быть моя деревня. Объездил я почти всю Россию, а всё деревни моей нет как нет, куда ни заеду, кого ни спрошу.
Он был очень остер, краснобай, мастер играть словами и веселый рассказчик. Московский Английский клуб 1820-х и 1830-х годов не раз забавлялся его неожиданными и затейливыми выходками.
* * *
Шведский наследственный принц Оскар (впоследствии король) во время пребывания своего в Петербурге сказал Жуковскому, как жалеет, что обстоятельствами и требованиями звания своего был брошен на сцену света и в деятельность прежде, нежели успел порядочно довершить образование свое и научиться всему, что необходимо знать. Официальное лицо, назначенное у нас находиться при особе принца, вмешалось в разговор и сказало: «Ваше высочество, вы придаете мне смелости; теперь не буду стыдиться невежества своего, зная, что и вы невежда». Скромно и чистосердечно высказано, но не совсем ловко.
Принц имел много успеха в Петербурге, и фрейлины двора находили его очень любезным. Многие говорили, что в нем есть некоторое сходство со знаменитым князем Багратионом.
Граф Фикельмонт пересказывал мне странное и, по-видимому, мелкое обстоятельство, которое возвело французского маршала Бернадотта на шведский престол. Граф был некогда австрийским посланником в Стокгольме и слышал эти подробности от многих достоверных государственных людей. Во время наполеоновских нашествий на Европу в числе разнородных пленников оказался и шведский офицер. Бернадотт всегда обращался с пленными внимательно и кротко. Он отличался от своих сослуживцев, французских военачальников, уважением к личному достоинству человека, бескорыстием и, по возможности, облегчением повинностей и пожертвований, возлагаемых на жителей тех мест, которые подвергались военному постою.
Когда вследствие разных событий и переворотов шведский сейм рассуждал об избрании наследника престола и колебался между разными именами, упомянутый шведский офицер вспомнил о Бернадотте и сообщил мысль свою одному пастору. Он говорил: «Швеции не знать спокойствия и не оградить себя от русского влияния, если не прибегнет она к французскому покровительству и не примет из рук Франции наследника престола. Сей наследник налицо, и неминуемо быть им должен Бернадотт».
Пастор подался на это мнение, и оно разошлось по городам и селам. Сказано и сделано. Молодой офицер скачет в Париж и является к Бернадотту, удостоверяя, что Швеция желает иметь его будущим властителем своим. Маршал отвечает, что делаемое ему предложение очень лестно, но что он желал бы видеть свидетельство уполномочия, данного ему его согражданами на подобное предложение.
Офицер, убедившись в согласии Бернадотта, обращается к шведам из знатнейших фамилий и сообщает им дело, которое затеял. Большинство одобряет это предположение. Наконец шведская депутация отправляется к Бернадотту и приглашает его принять титул наследника шведского престола. Отселе начинаются официальные и дипломатические переговоры, и вот француз, сын адвоката, является впоследствии Карлом XVI, основателем новой династии, – единственный уцелевший обломок от огромного революционного корабля, который был после окрещен именем Наполеона. Он пережил и события, в которых участвовал, и порядок, который они устроили. После он сам содействовал сокрушению этого порядка. Впрочем, Бернадотт никогда вполне не ладил – ни вначале с Бонапартом, ни позднее с императором Наполеоном. Оба они друг друга опасались.
* * *
В.Л.Пушкин любил добродушно оказывать внимание и поощрение молодым новичкам на поприще литературном. Он по вечерам угощал их чаем, а нередко приглашал к себе обедать. Один из таких новобранцев был в Москве частым посетителем его.
– А к какому роду поэзии чувствуете вы в себе более склонности? – спросил его однажды Пушкин с участием и некоторой классической важностью.
– Признаюсь, – отвечал тот смиренно, – любил бы я писать сатирические стихи, да родственники отсоветовали, говоря, что такими стихами могу нажить врагов себе и повредить карьере своей по службе.
– А скажите мне что-нибудь из ваших сатирических стихов.
– Вот, например, эпитафия —
Под камнем сим лежат два друга:
Колбасник и его супруга.
* * *
В минуты хандры своей NN говаривал в Швейцарии: «Ну что же есть такого особенного и пленительного в Женевском озере? Огромного размера лохань воды, вот и только!»
* * *
В записной книжке русского путешественника прошлого столетия записано: «Счастье минувшее есть несчастье настоящее».
Он же рассказывает, что в молодости своей, путешествуя в Португалии, рассердился на почтаря, который вез его очень медленно. В старые годы от русской досады до русской ручной управы было недалеко: русский путешественник оттузил португальца. Тот, не говоря ни слова, ушел и оставил путешественника посреди дороги с коляскою и лошадьми. Тут этот последний догадался и заключил, что есть некоторая разница между португальской и русской ездой.
* * *
Русские люди выводятся. Выражаем здесь сетование и укоризну вовсе неславянофильские. Напротив, мы говорим о средневековом поколении нашего общества, о современниках Екатерины, которые носили еще отпечаток предыдущих царствований и духом и влиянием которых пропитались некоторые лица позднейшего времени. Ничего нет тяжелее и скучнее русских по обязанности, русских, сделавшихся русскими вследствие и на основании какой-нибудь исторической или философической системы: под гнетом системы стирается, убивается вся свежесть, вся краска, вся поэтическая своеобразность русской натуры. То ли дело чистокровный русак, который не добивается казаться русским, не хвастается тем, что он русский, и даже будто не догадывается, что он русский.
Федор Петрович Опочинин был одна из этих личностей. Он был еще не стар, а на нем как будто легли многие слои русских преданий. Он бессознательно закалил себя в русском горниле, заматерел в русской закваске. Разумеется, всё это понимаем мы и принимаем в хорошем значении. Есть худая закваска, но есть и вкусная, лакомая. Ум Опочинина был совершенно русской складки и русского содержания. В нем были и тонкость, и сметливость, и наблюдательность; была русская шутливость, которая вообще отличается от инонародной. По-русски говорил Опочинин превосходно, мастер был рассказывать, а запас рассказов его был неистощим. Рассказы, когда они кстати уместны и удачны, имеют особенную прелесть. Они драматизируют разговор. Они жизнь и действие его. Философические, отвлеченные беседы хороши в кабинете, с глазу на глаз, или с кафедры, но в приятельском, откровенном кружке они утомительны.
Одним летом сошлись мы с ним в Ревеле. Тогда записал я некоторые из сказаний его. Вот, между прочим, следующие.
Какой-то боярин послан был, помнится, царем Алексеем Михайловичем в Китай с дипломатическим поручением и сворою отличных собак, легавых и борзых, в подарок правителю Небесной империи. Однажды просит он одного приближенного к царю мандарина узнать, как понравились собаки его величеству.
– Собаки были очень вкусны, – получил он в ответ, – особенно зажаренные на касторовом масле.
– Злодей! – воскликнул ошеломленный боярин, – он съел царем пожалованных ему собак! И охота нашему государю связываться с таким поганым народом!
* * *
Мы говорили об одном барине, приехавшем в Ревель. «Кажется, этот барин (сказал Опочинин) ума твердого, но не быстрого» (забавно ударяя на последние слоги). Нельзя шутливее и вежливее высказать, что человек туповат.
* * *
Упомянутое выше посольство в Китай напоминает другое посольство, также замечательное, по следующему обстоятельству. Боярин с каким-то поручением отправился из Москвы к одному из европейских дворов. Он приехал к назначению своему, когда король был болен, и приема быть не могло. Проходят дни, недели, а король всё нездоров.
Потеряв терпение, боярин объявляет, что далее ждать не может и что получил приказание возвратиться в Россию. На настоятельные и упорные требования его получить перед отъездом аудиенцию дают ему знать, что король примет его, но в постели, с которой, по болезни своей, он встать не может.
«Хорошо, – отвечает боярин, – но в таком случае приготовьте и мне кровать, возле королевской. Мне, уполномоченному представителю русского царя, неприлично было бы стоять или сидеть, когда король лежит».
* * *
Говорили однажды о звукоподражательности, о собрании некоторых слов на разных языках, так что и незнающему язык можно угадать приблизительно, по слуху, к какой категории то или другое слово должно принадлежать.
В Москве принимал участие в этом разговоре приезжий итальянец. Для пробы спросили его:
– Что, по-вашему, должны выражать слова любовь, дружба, друг?
– Вероятно, что-нибудь жесткое, суровое и, может быть, бранное, – отвечал он.
– А слово телятина?
– О, нет сомнения, это слово ласковое, нежное, обращаемое к женщине.
* * *
ВЫДЕРЖКИ ИЗ РАЗГОВОРОВ
1. Политического
X.: Сомневаться нечего. Пальмерстон ведь не глуп, и вот что на это сказал бы он…
Д. (прерывая его): Нет, воля твоя, если на то пошло, то Пальмерстон не может никогда сказать то, что ты скажешь.
2. Литературного
Н.: Всё же нельзя не удивляться изумительной деятельности его. Посмотрите, сколько книг издал он в свет!
NN: Нет, не издал в свет, а разве пустил по миру.
3. Служебного
Чиновник: Я пришел всепокорнейше просить ваше превосходительство уволить меня на год в заграничный отпуск.
Директор департамента: Что это вам вздумалось?
Чиновник: Да так-с, нынешний год не хорош для чиновников.
Директор: Как не хорош?
Чиновник: В нынешний год почти все табельные дни приходят на воскресенья, так что мало остается неприсутственных дней. Поэтому и желаю я воспользоваться этим годом.
4.
Докладчик: Такой-то чиновник просит о дозволении вступить ему в законный брак.
Министр Вронченко (письменно изъявляя согласие): Не имею чести знать его, а должен быть большой дурак.
Эта формула неизменно и стереотипно повторялась в продолжение многих лет при каждом подобном докладе.
5.
Директор департамента: А ваша невеста хороша собой.
Жених-чиновник: Совсем не гнусна, ваше превосходительство. С позволения вашего, она несколько похожа на вашу супругу.
6. Филантропического
Л.: Подпишитесь на выдачу какой-нибудь ежегодной суммы в пользу заведения для раскаявшихся грешниц.
М.: Покорнейше благодарю! Я и так уже издержал довольно денег в пользу их до раскаяния, а теперь ни денег, ни охоты нет на новые издержки.
7. Супружеского
Жена (в провинции): Ты верно забудешь меня в Петербурге.
Муж: Как не стыдно тебе подозревать меня. Ты знаешь, что я тебя без памяти люблю.
8. Дружеского
В Таврическом дворце, в прошлом столетии, князь Потемкин, в сопровождении Левашева и князя Долгорукова, проходит через уборную комнату мимо великолепной ванны из серебра.
Левашев: Какая прекрасная ванна!
Князь Потемкин: Если берешься ее всю наполнить (это в письменном переводе, а в устном тексте значится другое слово), я тебе ее подарю.
Левашев (обращаясь к Долгорукову): Князь, не хотите ли попробовать пополам?
Князь Долгоруков слыл большим обжорой.
9. Министерского
Граф Канкрин: А по каким причинам хотите вы уволить от должности этого чиновника?
Директор департамента: Да стоит, ваше сиятельство, только посмотреть на него, чтобы получить к нему отвращение: длинный, сухой, неуклюжий немец, физиономия суровая, рябой…
Граф Канкрин: Ах, батюшка, да вы это мой портрет рисуете! Пожалуй, вы и меня захотите отрешить от должности.
* * *
Имя графа Александра Ивановича Остермана-Толстого принадлежит военной летописи царствования императора Александра I, богатой многими блестящими именами.
Почти все они, более или менее, вышли из военной школы, имевшей преподавателями своими Румянцева, Суворова, Репнина, Долгорукова-Крымского. В числе своих знаменитых сверстников и сослуживцев граф Остерман умел себя выказать. Рыцарское бесстрашие в сражении, отвага, когда была она нужна, и неодолимая стойкость, когда действие требовало упорно отстаивать оспариваемое место, были, по словам сведущих людей, отличительными принадлежностями военных способностей его.
Но здесь нам дело не до воина. В далеко не полном очерке мы хотим припомнить здесь отрывочные черты, которые могут дать понятие об этой замечательной и своеобразной личности; хотим передать впечатления, которыми врезалась она в памяти нашей.
Граф Остерман-Толстой был высокого роста, худощав; смуглое лицо его освещалось выразительными глазами и добродушием, которое пробивалось сквозь оттенок наружной холодности и даже суровости. Ядро, оторвавшее руку его до плеча, запечатлело внешний вид его еще большим благородством и величавостью. Что ни думай о войне и об ужасах этого человеческого самоуправства, но раненые ветераны, эти живые памятники народных событий, опаленные и раздробленные грозою, всегда поражают зрителей почтительным вниманием и сочувствием.
Нравственные качества графа, более других выступавшие, были прямодушие, откровенность, благородство и глубоко врезанное чувство русской народности, впрочем, не враждебной иноплеменным народностям. Тогда было время уживчивое: врагов знали только на поле битвы, а в мирное время люди умудрялись как бы не питать и не поддерживать междуплеменные предубеждения и недоброжелательства.
Воинское рыцарство имело в графе Остермане и нежный оттенок рыцарства средневекового. Он всегда носил в сердце цвета возлюбленной госпожи своей. Правда, и цвета, и госпожи по временам сменялись, но чувство, сердечное служение оставались неизменными посреди радужных переливов и изменений. Это рыцарство, это кумиропоклонение перед образом любимой женщины было одной из отличительных примет русского или по крайней мере петербургского общества в первые годы царствования императора
Александра. Оно придало этому обществу особый колорит вежливости и светской утонченности. Были, разумеется, и тогда материалисты в любви, но много было и сердечных идеологов. Золотой век для женщины и золотой век для образованного общества. Женщина царствовала в салонах не одним могуществом телесной красоты, но еще более тайным очарованием внутренней, так сказать, благоухающей прелести своей.
Нелединский был первосвященным жрецом этого платонического служения, а Остерман – усердным причастником этого прихода. Говоря просто по-русски, он был сердечником. Одним из предметов поклонения и обожания его была варшавская красавица, княгиня Тереза Яблоновска, милое, свежее создание. Натура вообще, и польская натура в особенности, богато оделила ее своими привлекательными дарами. Польша много издержала, растратила сил своих невоздержностью по части политической гигиены, но две силы, если не политические, то поэтические, два неотъемлемых сокровища, два победоносных орудия остались при ней: женщина и мазурка.
У графа Остермана был прекрасный во весь рост портрет княгини Терезы. Он всегда и всюду развозил его с собой, и это делалось посреди бела дня общественного и не давало никакой поживы сплетням злословия. Во-первых, граф был уже не молод, и рыцарское служение его красоте было всем известно; во-вторых, княгиня принимала клятву его в нежном подданстве с признательностью, свойственной женщинам в этих случаях, но и со спокойствием привычки к взиманию подобных даней. Нужна еще одна краска для полноты картины. Заметим, что в то время граф был женат, но не слышно было, что романтические похождения его слишком возмущали мир домашнего его очага.
Вот, впрочем, образчик супружеских отношений его. Графиня была болезненного сложения и приехала однажды в Париж искать облегчения у французских врачей. Муж был тогда в Италии, но, по непредвидимым сердечным обстоятельствам, вынужден был и он приехать в Париж в то же самое время, что и графиня. Он скрывался в отдаленной части города, под чужим именем, и в своей потаенной засаде продолжал переписываться с женой из Италии.
После всего сказанного не для чего прибавлять, что Остерман был великий оригинал, чудак во всех действиях и приемах своих. Некоторые боялись оригинальности его, многие сочувствовали ей и любовались ею. Оригинальные личности бывают и анекдотические. Человек, за которым нельзя закрепить ни одного анекдота, есть человек пропащий: это, по выражению поэта, лицо без образа. Он тонет в толпе. Мы говорили, что Остерман разъезжал с портретом красавицы. Иногда разъезжал он и с другими предметами своей приверженности: позднее, когда командовал корпусом, кажется, гренадерским, в дороге следовали за ним два или три медвежонка, которые имели свою особенную повозку и свои приборы за столом, когда граф останавливался обедать на станции. Можно представить себе переполох станционных смотрителей, когда граф наезжал со своими попутчиками.
Однажды явился к нему по службе молодой офицер. Граф спросил его о чем-то по-русски. Тот отвечал на французском. Граф вспылил и начал выговаривать ему довольно жестко, как смеет забываться он перед старшим и отвечать ему по-французски, когда начальник обращается к нему с русской речью. Запуганный юноша смущается, извиняется, оправдывается, но не преклоняет графа на милость. Наконец граф его отпускает, но едва офицер выходит за двери, граф отворяет их и говорит ему очень вежливо по-французски: «У меня танцуют по пятницам, надеюсь, вы сделаете мне честь посещать мои вечеринки».
Один новопожалованный генерал говорил безрукому герою:
– А вам, граф, должно быть страшно в толпе; неравно, кто-нибудь толкнет вас, и вам будет больно.
– Меня не толкнет, – отвечал наш герой хладнокровно и сурово и тут же спиной повернулся к нему.
Графу понадобился кучер – на выезд явился к нему парень видный собой, с хорошими рекомендациями и с окладистой рыжей бородой.
– Охотно взял бы я тебя, – сказал Остерман, – но я рыжих терпеть не могу.
– Чем же виноват я, – говорит кучер, – что я рыжим родился? И что же мне тут делать?
– А идти к генералу С., который чернит себе волосы, – продолжает граф, – и попросить его научить тебя, как себя очерноволосить.
Кучер, принимая эти слова буквально, отправляется к помянутому генералу и докладывает ему:
– Граф Остерман приказал кланяться вашему превосходительству и пожаловать мне рецепт для крашения волос.
Легко понять, как генерал принял эту просьбу и как досадовал на Остермана, подозревая его в умышленной насмешке.
С царствованием императора Александра кончилась, так сказать, и русская жизнь графа Остермана. С этой поры он исчезает для России. Прискорбные ли недоразумения, действительные ли неприятности по службе или просто причудливость нрава его – решить положительно не беремся, но как бы то ни было, что-то совратило графа со стези и положения, на котором занимал он видное и почетное место. Говорили (но не всегда говоренному можно безусловно верить), что, в противность обязанности своей и даже приличию, не явился он к торжественному обряду, при котором должен был присутствовать по званию генерал-адъютанта и как один из старейших и почетнейших генералов русской армии. Говорили, что, вместо того чтобы приехать в Москву в назначенное время, он отправился в Италию, куда влекла его могучая любовь. Если всё это так, то, разумеется, последствия должны были несколько неблагоприятно отразиться на высших отношениях к нему.
Как бы то ни было и какие бы обстоятельства не оторвали его от России, но с того времени Остерман в ней уже не живал. Он много путешествовал, объездил, кажется, Восток, и только изредка доходили о нем до Отечества отдельные и смутные слухи. Когда праздновалась годовщина Кульмской битвы, император Николай, желая видеть на этом историческом празднике Кульмского героя[22]22
В сражении под Кульмом, 29 августа 1813 года, русская гвардия под управлением графа Остермана одержала тяжелую победу над втрое превосходящими силами генерала Вандама. – Прим. ред.
[Закрыть], повелел пригласить его к назначенному торжеству. Но граф под разными предлогами отказался от приглашения. Не обращая внимания на странность подобного поступка, помня и признавая одни боевые заслуги и блестящее участие его в знаменитом Кульмском деле, государь прислал ему знаки ордена Святого Андрея Первозванного – прекрасная черта и благородное, так сказать, отмщение за выходку довольно неприличную. Уверяют, что пакет, заключавший в себе эти знаки отличия, остался у него до кончины нераспечатанным!..
Последние годы жизни своей провел Остерман в Женеве или в предместье города. Тут увиделся я с ним, лет двадцать и более спустя после прежних свиданий наших.
– Что делаете вы, граф, в Женеве? – спросил я его.
– Сижу спиною к Монблану, – отвечал он.
И в самом деле, кресло, на котором сидел он целый день почти неподвижно, упиралось в простенок между двух окон, из которых открывался великолепный вид на Монблан. Граф был уже утомлен жизнью и дряхл, но память его была еще бодра и свежа.
Впрочем, и о памяти его можно сказать, что она остановилась на исторической странице, которой замыкается царствование императора Александра Павловича; далее не шла она, как остановившиеся часы. Новейшие русские события не возбуждали внимания его. Он о них и не говорил и не расспрашивал. Не слыхать было от него ни слова теплого участия, ни слова сожаления, ни слова укора. Но если в нем не было христианского смирения и прощения действительным или мнимым оскорблениям, то не было и тени злопамятства, по крайней мере на словах. Он просто в отношении к России заживо замер и похоронил себя в дне 19 ноября 1825 года.
В прежние годы рыцарь красоты, ныне принес граф Остерман обет рыцарской верности памяти Александра. Кабинет его в Женеве был как бы усыпальницею покойного императора. Все возможные портреты его, во всех видах и объемах, бюсты, статуэтки, медали – всё, что только могло напоминать его, было развешено по стенам, расставлено на столах. Граф был окружен этими воспоминаниями; он хранил их с нежным благоговением. Он жил в них и в минувшем, которое они изображали. На столе его постоянно лежало собрание стихотворений Державина. «Вот моя Библия», – говорил он.
Жаль, если Лажечников, бывший долгое время при нем адъютантом, не собирал и не записывал по горячим следам любопытные проявления этой своеобразной личности: она и везде была бы на виду, а у нас, при некоторой бледности общего колорита, она поражала яркостью красок своих и выпуклостью очертаний.
Мы пользовались приязнью графа, но никогда не были с ним в коротких и постоянных сношениях. Встречались мы урывками, время от времени, и опять надолго расставались. А потому сказанное здесь о нем далеко не портрет, разве легкий очерк; ближе знающие его могут пополнить этот черновой набросок.
* * *
Старик Бенкендорф постоянно пользовался особенным благоволением и, можно сказать, приязнью Павла Петровича и Марии Федоровны, что не всегда бывает при дворе одновременно и совместно: равновесие – дело трудное в жизни, в придворной – тем паче. Он рассказывал барону Будбергу (от него я и слышал эту историю), о забавном и затруднительном положении, в которое он однажды попал в Павловском или Гатчинском дворце.









































