Текст книги "Записные книжки"
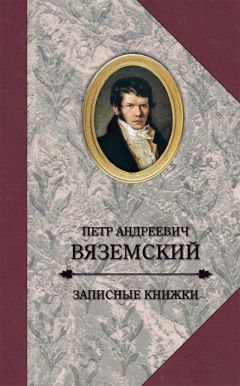
Автор книги: Петр Вяземский
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 37 (всего у книги 42 страниц)
Книжка 23 (1857)
2 октября
Переехали с дачи в Петербург. Вечером был у Норова.
3 октября
Должен был обедать у Тютчевых, а обедал у великой княгини Екатерины Михайловны.
4 октября
Вечером на бале у великой княгини Марии Николаевны.
7 октября
Приехали в Москву в 9 часов утра. У Четвертинских все еще спали, кроме собак, которые бросились на нас. Я переехал к Ковалевскому. Первый мой выезд был в клинику навестить избитых полицией студентов.
9 октября
Обедали у Ковалевского с Шевыревым и Бабстом.
10 октября
Утром был у графа Закревского. Разговор с обер-полицмейстером Берингом.
11 октября
С приезда был на лекциях Бабста, Крылова, Лешкова.
12 октября
Был в клинике у студентов. Был у Сушковых.
13 октября
К прискорбию моему, не был я сегодня у обедни и не знал или забыл, что был крестный ход в память изгнания французов из Москвы.
14 октября
Государь призывал нас в свой кабинет с Ковалевским. Говорил мне о Киевском университете и Черниговской гимназии, после – о здешней полицейской истории, и всё без малейшего предубеждения против студентов.
Был у императрицы. Очень благосклонна, мила и разговорчива. Вечером был у Самариной и не успел выехать.
15 октября
Целое утро продержали меня в плену разные народы. Был у Марии Щербатовой, где нашел еще одного Гагарина, сына князя Григория. Заезжал к Блудову, Шевыреву, Гончаровой. Никого не застал.
16 октября
Были у меня студенты и благодарили за доброе участие. Был у Сибирячки Волконской.
18 октября
Вообще преподавание у нас как-то бездушно, особенно в гимназиях. Всё мертвая буква, а живой мысли нет. Вечером был у Ермоловой. Рассказ о Платоне, сосланном в Кострому.
19 октября
Приехал в Остафьево. Писал жене. Гулял по саженой роще, по берегу замерзшего пруда, на котором мальчишки гоняли кубари. Вечером был у Окуловых. Лунная ночь.
20 октября
Был у обедни. Пили у меня чай Анна и Варвара Алексеевны Окуловы и священник.
Прекрасный день. Опять гулял по саду, роще, вдоль пруда. В три часа отправился в Москву. Приехал прямо к Ковалевскому, а вечером переселился к Владимиру Четвертинскому, в дом княгини Черкасской, на Никитской.
21 октября
Были у меня Сибирский Волконский, Павлов, Шевырев.
22 октября
Вечером у Сушковых: Ростопчина, Лев Толстой, Щебальский, собиратель и литературный сыщик Бартенев, Павлов, Шевырев.
23 октября
Был в клинике. Все немощи и ужасы человеческого рода. У вдовы Киреевской.
25 октября
Поехал в Остафьево. Был у меня Гирт на возвратном пути от Закревского, к которому послал его Норов. Толку было мало. Вечером был у Окуловых и ералашничал до второго часу ночи.
26 октября
Остафьево. Был у обедни. Крестьянская сходка. Гулял, писал стихи, в четыре часа отправился в Москву.
27 октября
Был в Девичьем монастыре. Панихида. После у Погодина.
28 октября
Утром был у племянника Закревского. Вечер с плясками у Закревского. Из новых знакомств: княгиня Черкасская, Викторина, жена того, которого называют здесь, не знаю почему, Чижиком. Зрелая львица, но приятная.
29 октября
Был у меня Константин Аксаков. Ездил на кладбище, на могилу матери. Она родилась в 1762 году, скончалась в 1802-м. Обедал в Кадетском корпусе у Озеровых. Вечер у Кошелева (вторник), не столь славянский, как я боялся. Свербеева, Павлов, Максимович, Крузе, etc.
31 октября
В университете на латинской лекции Клейна. Всего слушателей три студента. Был у Оболенской-Мезенцевой, у Шевырева.
1 ноября
Был у меня Максимович.
2 ноября
Ездил к Филарету, но не видал его. Сказали, нездоров. Вечером был у меня Погодин. После был я у Сушковых.
4 ноября
Были у обедни. Кошелев, Шевырев были у меня. Вечером танцы у графини Паниной.
5 ноября
С Ковалевским ездил в университет. Библиотека, музей. Просить у министерства внутренних дел старопечатных книг. Ездил к Иверской. Уже заперто.
6 ноября
Выехал из Москвы; в вагоне со мной были генерал Астафьев, князь Валериан Голицын. В Москве мороз, в Твери снег, чем ближе к Петербургу, тем теплее.
Благополучно приехали в Петербург.
7 ноября
Полезно было бы в уездных училищах предоставить священникам преподавание и русского языка вместе со славянским, как то делается в Белеве по распоряжению покойного Ивана Киреевского, который был почетным смотрителем.
Нужно по крайней мере отчасти предоставить цензуру некоторым профессорам. Цензурным комитетам выдавать деньги, назначаемые на жалованье цензорам, с тем чтобы комитеты платили каждому по трудам его.
11 ноября
Ночевал в Царском Селе. Обедал у вдовствующей императрицы: Мария Вяземская, Титов, Ахматов. Разговор очень разнообразный и свободный. Ее неверно ценят в публике.
Вечером Титов читал мне проект свой об учении наследника с избранными товарищами.
12 ноября
Норов. Новая цензурная гроза по поводу жалобы Панина на статьи об устном судопроизводстве.
17 ноября
Приглашение в Царское Село на спектакль. Между прочим, давали водевиль «La rue de la lime», довольно неприличный, а особенно для молодых фрейлин. Государыня очень жаловалась на неприличность пьесы.
18 ноября
Обедал у их величеств. Они, проезжая в карете, остановили меня на улице и удостоили приглашением. Обедала Анна Алексеевна Окулова. Много шутили.
19 ноября
Обедал у Авроры. Вечером заезжал к архимандриту Айвазовскому. Утром был в Комитете министров. Много говорили и ничего путного не решили.
20 ноября
Писал возражение на Чевкина, который первый на вызов явился с доносом на цензуру: когда думать ему о путях сообщений, если он роется в старых журналах и вытаскивает из них старые дрязги.
22 ноября
Был у меня профессор Московского университета Майков. Тютчев читал ему свои последние стихи. Изготовил записку для Норова о назначении комитета для пересмотра Цензурного Устава.
23 ноября
Вечером были у меня граф Блудов и Плетнев. Жуковский говаривал о графе Уварове: «Странный человек. Часто подымает нос, а головы никогда не подымает».
30 ноября
Были у меня Батюшков, Анненков, София Щербатова, Аврора Карамзина.
2 декабря
Был у меня Кавелин. Говорил ему о статье Бабста в «Московских Ведомостях».
4 декабря
Перелистывал на днях вышедший 7-й том Пушкина.
5 декабря
Был у меня граф Уваров, отъезжающий в Москву. Вчера читал биографию Маркова, написанную Бартеневым. Надобно отыскать мне мой некролог Маркова, напечатанный в «Телеграфе».
7 декабря
Был я приглашен на вечер к великой княгине Екатерине Михайловне, но не поехал. Сидели у меня веером Плетнев и Казанский Баратынский.
8 декабря
Был восприемником у Рейтерна дочери Марии. Восприемницей была императрица Мария Александровна. Место ее заступила Анна Тютчева.
9 декабря
Обедал сегодня у вдовствующей императрицы: графиня Тизенгаузен, граф Адлерберг, граф Шувалов, Норов. Говорили о смерти Василия Петровского в Алупке и графини Бенкендорф в Дрездене. Государыня говорила о княгине Дашковой и о «Записках» ее, переведенных недавно на немецкий язык. Спрашивала, почему Ванюша Воронцов наследовал имя Дашкова, но никто из нас не умел отвечать.
11 декабря
Обедал у великой княгини Екатерины Михайловны с Титовым. Вечером у Норова.
31 декабря
Кончил год, дома, с Павлом и женой его.
Книжка 24 (1858—1859)
«Друзья мои! (говорит Карамзин в «Письмах русского путешественника») Когда судьба велит вам быть в Лозанне, то войдите на террасу кафедральной церкви и вспомните, что несколько часов моей жизни протекало тут в удовольствии и тихой радости!» Я исполнил желание его.
Когда бываю за границей, беру всегда с собой «Письма» Карамзина и перечитываю многие из них с особенным наслаждением. Люблю отыскивать, угадывать следы его, разумеется, давно стертые с лица земли. Поколения сменили поколение, которое он застал и видел. Гостиницы исчезли. Всё приняло новый вид.
Россия училась читать по этим «Письмам». Они открыли новый мир в области умственной и литературной. Ныне их уже не читают. Так называемые учителя русской словесности считают их устарелыми и предлагают ученикам новейшие образцы. А между тем «Письма» эти должны служить и ныне образцами языка и слога: они не только письма путешественника, но настоящие мемуары, исповедь человека, картина эпохи. Замечательные лица, характеристики, разговоры их передаются в живом зеркале. Ни в котором из творений Карамзина не изображает он себя в такой полноте, как здесь.
Чувствительность, так называемая сентиментальность, пожалуй, даже слезливость, не приторны, потому что не искусственны, не лживы, а истинны. Таков был Карамзин в то время. Таковым он был до конца жизни, разумеется, с изменениями, со зрелостью ума и души, которые пришли с летами. Карамзин навсегда сохранил добросердечную, мягкую, детскую впечатлительность: он до конца любовался живостью первоначальных лет, цветком, захождением солнца, всеми красотами природы; был сострадателен до слезливости; любящая и нежная душа не охлаждалась ни летами, ни опытами жизни, часто отчуждающими душу от ближнего.
Стих латинского поэта «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо» был постоянным лозунгом всей его жизни, всех его действий, чувств и помышлений. Не помещик, он горевал при известии, что в такой-то и такой-то губернии неурожай. Когда Дмитриев заставал его в такую минуту грусти и, узнав о ее причине, говорил: «Полно заботиться, в Москве будет всегда довольно калачей», – Карамзин добродушно смеялся шутке друга своего, но не менее горевал о лишении и нуждах бедных крестьян.
Тому, кто знал его, слышится голос души его в следующих словах, писанных также из Лозанны: «Я сел на уединенной лавке и дождался захождения солнца, которое, спускаясь к озеру, освещало на стороне Савойи дичь, пустоту, бедность, а на берегу Лозанском – плодоносные сады, изобилие и богатство. Мне казалось, что в ветерке, несущемся с противоположного берега, слышу я вздохи бедных поселян савойских». Это не риторическая фигура, не филантропическая фраза, брошенная, чтобы произвести театральное действие на читателей или слушателей. Нет, Карамзин и тогда слышал сердцем вздохи бедных поселян савойских, как лет тридцать или сорок после сострадал он в Москве или Петербурге, в уютном доме и за сытным обедом, жалкой участи поселян Пензенской или Олонецкой губернии.
Сам Карамзин при одной выходке сентиментальности своей прибавляет в примечании: кто хочет, рассмеется. Следовательно, он знал, что подвергается насмешливости некоторых людей, но вместе с тем не хотел из ложного стыда утаивать движения своего сердца и выставлять себя не тем, чем он был в самом деле. Эти выходки, эти сердечные нескромности драгоценны для людей, даже и не разделяющих этого невинного простосердечия, но умеющих сочувствовать всему, что есть выражение искреннего, истинного чувства.
«Писем русского путешественника» теперь не читают, потому что он в них не говорит о железных дорогах, которые никому тогда и во сне не снились; не пускается в исследование и разрешение вопросов статистических, политико-экономических, хотя при случае не забывает и затрагивать их, когда они попадаются ему под руку, и даже первый создал и пустил в ход в этих письмах слово промышленность.
Эти господа, не обращающие никакого внимания на «Письма русского путешественника», похожи на человека, который пренебрегал бы картинами Рембрандта и Ван Дейка потому, что лица, ими на портретах изображенные, не одеты и не причесаны по-нынешнему. Многих не занимает человек, в обширном духовном и умственном значении его. Им, например, нужно, чтобы лицо было современное, нынешнее, то есть чтобы походило на них самих, смотрело на предметы с той точки зрения, с которой они смотрят, говорило их языком, вполне разделяло их убеждения и предубеждения. Одним словом, было не личностью, отдельной, самобытной, независимой, а однообразным отпечатком, одноцветным отблеском общего типа, общей формы. Вот отчего в наше время так редки оригинальные умы и характеры, а литературные произведения вертятся вечно в заколдованном круге, который страшатся переступить угодники века из страха показаться запоздалыми, отсталыми и не имеющими достаточно силы, чтобы достигнуть высоты настоящего и общим аршином определенного уровня.
Знакомства Карамзина со знаменитыми современниками. Он является перед ними выборным человеком возникающего русского просвещения и в этом звании оценивается ими, возбуждает всё их сочувствие, всю их любовь и в лице его – сочувствие и любовь к России. Заслуга неоцененная, которой можем мы гордиться и которую не следовало бы нам забывать. Добро бы еще светским читателям, жадным потребителям всякой новизны, но нам, нашей пишущей братии, непростительно отрекаться в равнодушном забвении от дел и подвигов предка нашего, указавшего дорогу, по которой все мы идем с меньшим или большим успехом; отчеканившего орудие, которым действуем; который не только на родной почве высоко поднял хоругвь русского просвещения, но с честью явил его и глазам образованнейших мужей того времени.
В каком русском писателе найдете вы более глубокое, верное понимание природы, такие живые и красноречивые изображения ее разнообразных и изумительных красот? Сколько разносторонних сведений, сколько любознательности! Какие верные характеристики писателей, в то время едва по одному имени известных России, характеристик, и ныне не утративших свежести и верности своей! Под легкостью, непринужденностью письменной болтовни сколько глубоких наблюдений, чуждых всякого систематического педантства и сухости нравоучения. Какая теплая, неограниченная любовь к человечеству, вера в Провидение и благодарность к нему. Какое искусство, какая простота в рассказах современных событий, дорожных приключений, в исторических воспоминаниях.
В некоторых местах можно уже угадать будущего романического повествователя и будущего историка. Лица, им упоминаемые, живы, встают, движутся, говорят перед нами. Читая эти письма, читателю сдается, что он был знаком с Лафатером и Боннетом, что сидел в их кабинетах, беседовал с ними.
* * *
В Лозанне «Hotel de Gibbon» расположен на том месте или близ тех деревьев, под коими он (Гиббон) писал свою книгу. Портрет его в столовой и из уважения к имени, которым окрещена гостиница. Она отлично содержится.
Вот до этой общественной признательности мы еще не дошли. Улицы и гостиницы не носят имен великих писателей, даже наших, не только что иностранных.
* * *
Руссо не узнал бы своей спартанской Женевы. Новое правительство всё делает, чтобы обратить ее в безнравственные Афины. Театр (правда, плохой), игорный дом, кофейни и погреба, или просто кабаки – на каждом шагу. Стараются обезшеейцаритъ Женеву, поглотить ее народонаселение приливом иностранцев, разноплеменной сволочи, бродяг. Всё это с политической целью укрепить власть свою чуждыми стихиями и легче рыбу ловить в мутной воде. Как Париж, Женеву ломают из края в край и вновь отстраивают. Эта ломка привязывает рабочий класс к диктатуре государственного совета, сосредоточившегося в одной личности Фази.
Нельзя в Женеве не думать о Руссо. Карамзин посвятил ему несколько красноречивых страниц в своих письмах. Не сочувствуя многим политическим и религиозным мнениям Руссо, Карамзин любил его и много имел с ним общего. Гоголь также принадлежал семейству Руссо, с разницей, что он был христианин и усердный православный, а тот деист, тот был ум высшего разряда, а Гоголь – писатель с дарованием и только. Но в том и другом была болезненная организация – галлюцинации.
* * *
В Женеве видел я la maison de detention (дом для задержанных) и la maison penitentiaire (дом для наказанных). В первой содержатся арестованные, подверженные полной келейной системе днем и ночью. Работают в келье, обедают при безусловном молчании; не дозволяют им ни петь, ни свистать. Случаи помешательства редки. Recidives (рецидивисты), в последние годы всё те же лица, числом 5 или 6, возвращались на старое место. Большинство из них иногородние, пограничные французы и савойцы, католики – не потому, что католики более склонны к преступлениям – заключение, которое охотно сделают протестанты, – но потому, что масса контрабандистов-католиков в числах более, нежели протестантов.
По замечаниям директора, в годы, в которые жизненные потребности дешевле, преступлений меньше. Бедность не порок, как говорят, но, по несчастью, вводит в порок.
La maison penitentiaire содержит уже осужденных. Тут келейная система соблюдается только ночью, а днем работа общая по категориям в мастерских, но тоже при соблюдении нерушимого молчания, как в Лозанне. Родители имеют право с согласия городского начальства заключать тут детей своих, даже и малолетних, десяти-двенадцати лет.
Вообще воздух чист, всё опрятно, пища, кажется, достаточная. Два раза в неделю мясо. Движения мало – часа полтора прогулки во дворах. Работа не тяжелая – всё более мастерство. Жизнь сидячая, следовательно, и не нужно очень сытной пищи. Утром кофе с молоком. Здоровье вообще удовлетворительно; даже когда есть эпидемическая болезнь, в тюрьмы она не проникает.
* * *
Мне хотелось быть здесь на выборах, но сказали мне, что иностранцев в залу не допускают; к тому же красноречие может дойти до кулачной свалки. При этом случае вспомнил я свое посещение лекции Лерминье в Париже, когда мы оба с ним, один вслед другому, выскочили в окно, благодаря Бога, из нижнего этажа.
* * *
Русская стихия в Женеве – наша церковь и великая княгиня Анна Федоровна. В разговорах с ней невольно и мимоходом от настоящего перескакиваешь в царствование Екатерины II, которую она застала.
* * *
Швейцария мне не дается. Впрочем, и многое в жизни не дается, может быть, оттого, что я не умел браться. Вероятно, мы часто жалуемся на судьбу, не замечая, что во многом мы сами – своя судьба.
Как бы то ни было, я всегда приезжал в Швейцарию в позднюю пору года, так что не мог проникать во внутренности ее, а довольствоваться должен был опушками.
Не сходил в ледники, не всходил на горы. Всё это видел издали, то с парохода, то с железной дороги, то из мальпоста*.
* * *
Ничто так не служит вывеской ограниченного и пошлого ума, как невежливость, возрастающая в соразмерности возрастающих чинов. В этом высокомерии есть и большое унижение, сознание, что человек сам по себя считает себя ничтожным и придает вес себе только по благоприобретенным или часто злоприобретенным своим принадлежностям.
* * *
Наши писатели беспрестанно пишут о взятках. Но взятки – это один из симптомов общей болезни, и не России одной свойственной, а всем народам, – болезни любостяжания и сребролюбия. Но и эта болезнь не новая; еще Апостол сказал: «Корень бо всем злым сребролюбие есть».
* * *
Леди Вершойль говорила мне, что во время Крымской войны, пред отъездом посольства нашего из Лондона, жена Бруннова в прощальных визитах своих разливалась слезами и с горя Бог весть что за чепуху несла. Герцогиня Глочестер говорила, что сердиться на нее за вранье нельзя, потому что она, вероятно, с горя рехнулась. И вот лица, назначаемые правительством нашим для представления русского достоинства перед европейскими правительствами!
Сам Бруннов, может быть, не плакал, но, без сомнения, унижался перед Английским кабинетом. При всем уме, который ему вообще приписывают и которого не опровергаю, потому что ума его не знаю, Бруннов не может иметь чувства народного достоинства. Он, как всякий выскочка, должен был изгибаться перед лордами и трусить перед ними, потому что он изгибается перед всеми высшими. Я видел его в Ораниенбауме:
Почтовая карета. – Прим. ред.
он был пластроном великих княгинь и фрейлин. Сказывают, что эту же роль играл он в Одессе при дворе князя Воронцова и у князя Орлова.
* * *
Женева, 31 мая
Прочитал в «Православном Собеседнике», издаваемом при Казанской духовной академии, январь 1859, две весьма замечательные статьи: 1) «Общество и Духовенство»; 2) «Голос древней русской церкви об улучшении быта несвободных людей».
В первой основная мысль та, что если справедлива пословица каков поп, таков и приход, то не менее справедливо сказать и наоборот каков приход, таков поп. Автор сознается, что большею частью духовенство наше не то, чем оно могло бы и должно бы быть, сильными красками изображает состояние нашего общества и положение в нем духовенства и остроумно и часто весьма дельно выводит из того, что виновато общество, если духовные лица не вполне отвечают призванию и обязанностям своим.
Кончается статья следующими словами: «Есть еще условия, чрезвычайно важные, которыми определяется значение духовенства, условия жизни его гражданской и государственной; ими не только обозначаются права духовенства по законам, но объясняется и действительное состояние его в обществе, гражданское и государственное. Но об этих условиях, как выходящих из пределов наших суждений, мы говорить не будем».
Не говорим, но из всей статьи слышно, что духовенству нашему недостает независимости, что и весьма справедливо. Духовенство наше на армейском положении. Есть между ними солдаты, обер– и штаб-офицеры, есть даже и генерал-аншефы, но все они без изъятия подчинены светской власти.
Статья написана в ответ на статью, напечатанную в «Журнале землевладельцев» и писанную столбовым дворянином. Ответ написан, кажется, архимандритом Иоанном, в Казани.
Во 2-й статье излагаются сильно и местами особенно резко, что в старину наше духовенство в действиях, проповедях, посланиях своих вступалось за крестьян перед царями и помещиками. Всё подтверждается историческими фактами и ссылками на изданные акты. Особенно на акты Кирилла Белозерского, Сильвестра, автора «Домостроя» и проч.
«В XVII веке совершилось укрепление несвободных людей к земле. В XVIII веке это укрепление возведено в крепостное право и, если можно так сказать, в душевладение. Век этот, столько же, если еще не более, мрачный, сколько и великий в нашей истории, век узурпаторства, преобладания сильных, разрознения сословий, век материализма и чувственных нравов, едва ли не был одним из самых тяжелых веков для нашего народа, для его низших классов. Так ныне об этом веке уже прямо говорят и пишут; нам можно о нем еще одну правду сказать. По идее гражданственности и иноземного просвещения, впрочем, плохо понятых, тогда уничтожено было в обществе духовенство, которое вследствие этого уничтожения стало и нравственно слабеть, упадать, утратило прежнее нравственное влияние на народ, сделалось раболепным, закоснело в школьной рутине, как бы замкнулось в своей касте».
Не как бы, а положительно.
* * *
В Москве приписывают падение Закревского не противозаконным действиям его в браке замужней дочери и в выдаче ей заграничного паспорта на имя княгини Друцкой, а тому, что он отстаивал дворянские и помещичьи права. Вследствие того сделали сильную демонстрацию: тысячи москвичей и иногородних дворян явились к нему в первые два дня отрешения его от должности с изъявлениями преданности, признательности и сожаления.
* * *
8 июня
Заживаюсь в Женеве наподобие того англичанина, который ездил из города в город за зверинцем и укротителем зверей и не пропускал ни одного представления. Он всё выжидал благополучного дня, когда один из зверей съест укротителя, а я всё выжидаю, чтобы очистились и выглянули горы. Вот четвертый раз, что я в Швейцарии, а гор всё еще не видел, так что начинаю худо им верить.
* * *
Был у меня сегодня Бунгенер. Разделение партий здесь есть разделение вовсе не мнений, а личностей и выгод, которые перетянули на свою сторону радикалы, то есть Фази и клевреты его. Все основные республиканские начала признаются и консерваторами. По мнению Бунгенера, беда консерваторов в том, что нет у них общей главы: при выборах голоса не соединяются на одной личности или на двух, потому что равно достойных и способных насчитаешь десятками. У радикалов одна личность, которая превышает все другие, – это Фази, и потому все выборы падают на него.
* * *
Бунгенер проповедовал нынешним летом в Голландии. Он говорит, что голландцы недовольны тем, что при совершеннолетии наследного принца слишком его эмансипировали. У него свой дворец, свой двор, свои доходы; он кутит, играет. Однажды в субботу вечером собрал он друзей на пирушку, и пропировали они до следующего утра, до 10 часа, а в Голландии уважается воскресный день.
* * *
Приезжие из Петербурга рассказывают, что появились там остроты по поводу памятника, воздвигаемого Николаю I. Это у нас в обычае. Известны стихи в царствование Павла на Исаакиевский собор… Граф Ф.А.Толстой (отец Закревской) уверял Карамзина, что эти стихи сочинены им, но Карамзин этому не верил, равно как не поверят все знавшие Толстого. Между тем рассказывали, что Павел приказал непременно сыскать виновного. Искали, но не могли найти; наконец, чтобы удовлетворить требованиям и гневу императора, представили какого-то несчастного, совершенно постороннего этому делу: ему вырезали язык и сослали на каторгу. Надобно надеяться, что этот рассказ – городская сплетня.
В элементарных китайских школах нужно затвердить азбуку из 700 букв, чтобы читать самую простую книгу. Для правительственной и дипломатической переписки употребляется до 7000 букв. Вообще в языке не менее 70 000 письменных знаков, и китайский словарь составляет 70 томов in folio.
* * *
Вот вопрос: какое право имеет Европа вмешиваться в дела Китая и навязывать ему торговые и политические договоры, когда Китай не хочет знать варварской Европы? Это просто разбой во имя цивилизации.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































