Текст книги "Записные книжки"
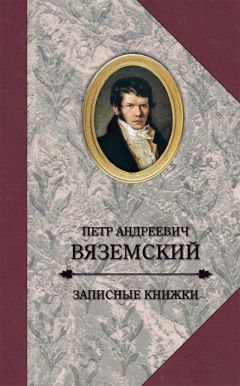
Автор книги: Петр Вяземский
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 32 (всего у книги 42 страниц)
Вечером ходил по берегу Эгера через деревню Драховиц на панораму. Дорога очень приятная, полями и огородами, и совершенно сельская. Хотя бы в Остафьеве с той только разницей, что остафьевские картины не окаймлены, подобно здешним, горами.
25 июня
Опять тревожная ночь со всеми припадками и взрывами прежних бессонниц. Опять принялся я за ночного товарища своего Шишкова. Несмотря на тоску свою, мне почти забавно было видеть, как бедный моряк с трудом уживался с военными тревогами главной квартиры. То объезжает он большие дороги, чтобы не попасться в плен французам, то по проселочным дорогам боится, чтобы не опрокинули его с коляской. И всё это рассказывает Шишков с каким-то ребяческим простосердечием. Вообще, все его путевые впечатления и замечания совершенно детские. А между тем на досуге сочиняет он манифесты не только по заказу императора, но иногда и для своего собственного удовольствия на всякий случай.
Как государь ни безразлично и слепо подписывал подобные бумаги, но случалось, что и он догадывался иногда о неприличии и невозможности говорить то, что заставлял его говорить Шишков. Один из таких несостоявшихся манифестов, после Лейпцигского сражения, Шишков кончает следующими словами: «Сего ради повелеваем. Да отворятся во всем пространстве области нашей все Божественные храмы, etc., etc, да прольются от всего народа горячие слезы благодарности, и проч., и проч». Довольно забавно заставлять государя говорить повелеваем плакать.
26 июня
Здесь получен русский манифест. Он очень хорошо принят нашей колонией и шевелит струнами русского сердца. Я подумал бы, что он писан Блудовым, но одно выражение меня сбивает. Юрист Блудов не позволил бы себе сказать вручить престол. Вручается то, что принимаешь в руки.
Вечером ездил я в коляске с Трубецким в Шлакенверт – первую станцию от Карлсбада и поместье герцога Тосканского, которое дает ему до 35 тысяч (франков) дохода. Всё в упадке и запустении, но старинный сад прекрасен и очень тенист. Писали к Павлу.
* * *
Давно не принимался я за свой дневник. Постараюсь хотя наскоро собрать свои воспоминания.
Немножко от жаров, немножко от бессонниц, которые начинали меня тревожить, немножко от Карлсбада, который начинал мне надоедать, немножко от именин своих, чтобы не разыгрывать здесь торжественную и праздничную роль именинника, решился я съездить в Мариенбад.
28-го числа, около пяти часов после обеда, сели мы с женой в свою коляску, запряженную четверкой почтовых лошадей, и пустились в путь. Только успели мы доехать до Гаммера, как погода переменилась, воздух охладился и полил дождь. Можно сказать, что дорога слишком живописна для проезжающих: всё горы да горы. Шагом или въезжаешь на гору, или с горы съезжаешь. Тормоз наш был в таком употреблении, что скоро прорвался; надели запасный крючок, да и он протер колесо до дерева, и хорошо еще, что без беды доехали.
Нам говорили, что до Мариенбада не более пяти часов езды, но надобно всегда придать несколько часов к сказанному, и доехали мы не ранее полуночи. Разумеется, весь Мариенбад давно уже спал. Долго стучались мы в двери нескольких гостиниц, но никуда нас не впускали и говорили, что всё занято. Наконец нашли мы гостеприимную гостиницу, где и приютились в трех хороших комнатах.
Ночь провел я очень хорошо. Мариенбад мне очень понравился своей красивостью, миловидностью и опрятностью. Тут всё свежо, всё с иголки: дома, галереи, прогулки, источники с красивыми навесами и пр. Вообще более простору и дышишь свободнее. Природа не так грандиозна, как в Карлсбаде, но зато более удобна для ежедневного употребления.
29 июня
Ходил я по городу и близким окрестностям. Видел источник Kreuzbrunn, который более всех употребляют, Karolinen-brunnen и пр. Ездили мы на завод, где выделываются глиняные кувшины для отправления воды в разные края. Выделка очень легка и скоро изготовляется. Работник кладет на маленький станок кусок глины, и в две минуты ручной работы кувшин готов. Тут их выделывают до 700 тысяч в год.
Мариенбад, собственность духовенства, в медицинском отношении слывет холодным Карлсбадом (das kalte Karlsbad). Тут я нашел из русских московского Боде с петербургской дочерью, которой удаление из Петербурга толкуют различным образом, Ивана Фундуклея, которого знал губернатором в Киеве и который ныне сенатор в Варшаве, Ломоносова с женой, урожденной Щербатовой (он оправляется от своего паралича, начал ходить, двигать рукой и говорить довольно внятно), Абрамовых, которых мы знали в Дрездене, и сестру, молоденькую и хорошенькую вдову. Есть и другие русские, но я их не знаю; между прочими – сибирский генерал-губернатор Муравьев.
30 июня
Часу в третьем, после обеда, оставили мы Мариенбад и отправились в Кёнигсварт, замок и летнее пребывание князя Меттерниха. Довольно красивое и лесистое местоположение. Парк и дом очень хорошо содержатся. В доме много картин, фамильных и царских портретов, мраморная статуя Кановы, изображающая Историю. При замке музей с разными древностями, редкостями естественными и современными знаменитостями: рукомойник Наполеона на острове Эльба и другие принадлежавшие ему вещи, а также разные мелочи, принадлежавшие многим знаменитым лицам. Также показывают тут две египетские мумии в их гробах. И сам бедный хозяин не такая же ли политическая мумия, заживо пережившая свою деятельность, свою славу и свою эпоху?.. Самого его в замке не было, а были два сына его, которых, впрочем, я не видал.
Из Кёнигсварта отправились мы в Эгер, где угостили нас по-русски, то есть продержали на станции более трех часов, хотя на глазах наших отправлялись дилижансы и, не знаю, каким образом, но верно с грехом пополам, дали пару лошадей графу Стадиону, который приехал после нас. Граф говорил мне, что ни к чему не поведет жаловаться на неисправность почты, потому что держит ее князь Меттерних. Это тоже по-русски.
Переменили лошадей в Эгере, поехали ночевать в Франценсбад на квартиру Абрамовых, которые нам ее предложили. Приехали туда к полночи и кое-как улеглись спать, но я спал хорошо.
1 июля
Утром походил я немножко по городу и по проулкам около источников и отведал воду Salzquelle, которую пил в Петербурге, довольно безуспешно, при начале болезни моей. О Франценсбаде нечего сказать особенного: довольно опрятно, площадки, обсаженные деревьями, где гуляют и пьют кофе, укрываются от зноя.
В Эгер приехали мы в полдень. Пошел я смотреть в доме бургомистра комнату, в которой был убит Валленштейн[80]80
Альбрехт Венцель фон Валленштейн (1578—1634) – адмирал, выдающийся полководец Тридцатилетней войны, был убит по приказу императора Фердинанда, по подозрению в измене. – Прим. ред.
[Закрыть]. Тут сохраняется оружие, которым он был убит, и несколько резных шкафов, ему принадлежавших. Теперь комната завалена канцелярскими бумагами.
Осмотрел я развалины старого замка, в котором хорошо сохранились церковь с красивыми мраморными колоннами и одно окно, также с маленькими мраморными колоннами.
Затем возвратились мы к почтовому двору и отправились обратно в Карлсбад чрез Элбоген, где обедали на террасе, любуясь прелестями окрестной картины.
Жаль мне, что я поздно узнал в Карлсбаде от графа Палена о существовании в Эгере знаменитого палача, который, оставив ремесло, посвятил себя собранию различных древних и новых орудий казни и вообще всяких древностей: монет и проч. Сказывают, что он участвовал в приведении в порядок и устройстве музея Кинжварт.
При въезде нашем в Карлсбад торжественно проехали мы шагом при музыке сквозь толпу гуляющего народа. Вообще я очень доволен своей поездкой и ночами своими, которые пришли в порядок.
8 июля
Утром был я у патриарха австрийских сербов. Он сказывал мне, что получает из России, особенно из Москвы, много пособий для своих православных церквей: церковные книги, утварь и платья для духовенства. Он хвалится покровительством молодого австрийского императора в пользу православной церкви.
По журналам всё идет к миру и восточный вопрос приближается к развязке. Даже и маркиза Кастельбажак гораздо спокойнее, а доныне восточный вопрос, то есть страх лишиться посольского места в Петербурге, гораздо более тревожил ее, чем карлсбадские воды.
10 июля
Вечером все наши знакомые русские и немцы, а некоторые и незнакомые, были у нас на прощальном чае и кофе. Все изъявляли большое сожаление о нашем отъезде. Всех гостей заставил я записать свои имена в книге. Чарльз Ротшильд, вероятно, опасаясь, чтобы как-нибудь не воспользовались и не употребили во зло его подпись, теснился насилу между двумя уже готовыми подписями.
11-го утром, в седьмом часу выехали мы из Карлсбада, приехали в Прагу и остановились в гостинице «Zum Englischen Hof». Первый раз ехали мы довольно хорошо, безостановочно и даже скоро, по немецкому покрою. Природа по дороге довольно красива, но уже не так величава, как в Карлсбаде.
Прага, 12 июля
Не думал я дожить до нынешнего дня. Сегодня день моего рождения и стукнул мне 61-й год. Был я у Ганки и у баронессы Котц. Ошибкой попал я к президенту здешней полиции Захару, вместо того чтобы попасть к майору и коменданту пражской военной полиции Альбинскому, к которому имел письмо от Фридланда. Президент сказал мне, что открыты заговоры в Париже, Вене и Берлине и что одна надежда на императора Николая, чтобы установить порядок.
Обедали мы в гостинице довольно порядочно. После обеда ездили с комендантом и с женой его в Waldgarten и на Josephineninsel. Везде очень хорошая полковая музыка, венгерская и итальянская. Нельзя не подумать, с грустью глядя на это: неужели Бог всё так устроил, что венгерцы и итальянцы должны быть не дома, а в Богемии? Город прекрасен и древними и новыми зданиями своими. Мосты на Молдове очень красивы и живописны. Вечером был я в театре. Венская певица Вильдауэр в опере «Цыганка».
13 июля
В 10 часов утра отправились мы с Ганкой в университет. Шафарик показывал нам библиотеку. Особенных редкостей, кажется мне, нет. Впрочем, я в этом деле профан и смотрю на всё только из приличия и для очистки совести. Я обещал Шафарику прислать из Петербурга полную историю Карамзина, которой у них только восемь томов, подаренных императрицей Марией Федоровной или Елизаветой Алексеевной[81]81
Павел Йозеф Шафарик (1795—1861) – славист, поэт, хранитель и директор библиотеки Пражского университета. – Прим. ред.
[Закрыть].
После отправились мы в Страговский монастырь и бегло осмотрели библиотеку, потому что было уже около двенадцати часов и патер Адольф Фишер, добрый и веселый старичок, боялся опоздать к трапезе. Несколько раз с хохотом повторял он мне, что помнит Суворова.
Осмотрели церковь. Отправились в St. Veits Kathedrale в Градшине. Серебряная гробница Святого Непомуцена, подсвечник из храма Соломонова и проч., и проч. Во дворце древняя зала Wratislava, заново подготовленная и устроенная, с трибунами и лавками, в ожидании конституции, которая при рождении своем умерла. Испанская и немецкая залы. Замок Валленштейна с садом и гротом, в котором Валленштейн купался.
Обедали в Cafe Francais с Ганкой и комендантом. После обеда осматривали Museum, находящийся под ведением Ганки. В отделении естественной истории между прочим – собрание 30 тысяч разнородных жуков. Митрополит Амвросий мог бы остаться довольным; когда Александр Тургенев представлял ему Жуковского, он приветствовал его следующим образом: «Дай нам Бог поболее таких жучков».
Ездили в сад князя Кинского. Вечером в театре.
14 июля
Ездил я с Ганкой осматривать разные храмы и, между прочими, die Teynkirche (от слова тына, забор), вероятно, древнейшую церковь в Праге. Жаль, что теперь загорожена она не тыном, а домами. Ездили в мастерские ваятелей братьев Максов. Эммануил Макс работает теперь над колоссальной статуей Радецкого, которая будет воздвигнута в городе. Надгробный камень (памятник), представляющий спящую женщину, также очень замечателен. Были и у третьего ваятеля, молодого чеха, которого имя я, к сожалению, забыл. Он был пастухом и для забавы занимался резьбой из дерева. Эти опыты попались в руки Шванталера, который их оценил и призрел и образовал молодого художника. Мало заказывают ему работ потому (по словам Ганки), что он чех, а не немец. Те же жалобы, что и у нас.
Были в типографии Гаазе, одной из величайших на твердой земле. Работают до 700 человек. Русские и славянские шрифты очень хороши.
После с женой и с Лизой ездили в Градшин. Обедали дома с Ганкой.
Вечером в театре, в ложе баронессы Котц. Певица Вильдауэр в опере «Дочь полка». После театра ездили в зал Sophieninsel, где была музыка и освещение по случаю праздника. В числе городских украшений замечателен памятник императору Францу II, сооруженный одним из братьев Макс. Тут представлены в виде фигур разные области Богемии, каждая со своей особенной чертой.
Мало трех суток для осмотра Праги, которая прекрасна и любопытна во многих отношениях. Лучшего путеводителя не мог я иметь. Ганка был неразлучно со мной во всё это время[82]82
Вацлав Ганка – чешский филолог и поэт, деятель национального возрождения. – Прим. ред.
[Закрыть].
15 июля
В начале 11 часа утра отправились мы по железной дороге и благополучно прибыли в Дрезден в 5 часов пополудни. Эта поездка – лучшее доказательство, что мое здоровье поправилось и духом я ободрился. В прошлом году не мог я без ужаса думать о железной дороге и всюду разъезжал в допотопной карете, на удивление почтарям и лошадям, которые уже отвыкли возить проезжающих. Сторона от Праги по берегу Молдовы почти вплоть до Боденбаха довольно плоская и маложивописная. Но после природа оживляется, а Саксонская Швейцария разливает картины чудесной красоты, которыми любуешься на лету. Остановились мы в «Britisch Hotel». Писал Лизе Карамзиной.
А вот что я вписал и Ганке в его памятную книжку:
«Слово дано от Бога человеку на благо и с тем, чтобы люди друг друга разумели и вследствие того друг другу сочувствовали и помогали. Слово должно быть орудием мира и братского дружелюбия между народами и между правительствами. Горе тем, которые употребляют этот дар во зло и обращают его в орудие вражды, ненависти, зависти и междоусобий. Мы, славяне, дети слова, расторгнутые ошибкой, чтобы не сказать преступлением истории, – всё еще родные братья по крови, по слову. Этой живоначальной и неистребимой силе обязан я наслаждением, которое здесь встретил и с которым беседовал на родном языке с просвещенным и добродушным хозяином этой книги. С радостью и благодарностью вписываю в нее имя свое.
На добрую память P.W.»
21 июля
С Дрезденом уживаюсь я, как со старым приятелем. С удовольствием вижу снова знакомые лица и знакомые места. Почти каждый день, часу в восьмом утра, начинаю прогулкой в Grosse-Garten, который великолепно зелен и тенист. 20-го отправился я с Видертом во Фрайберг, за отысканием следов Ломоносова. Но и эта моя экспедиция, кажется, останется безуспешной. Ледяные горы немецкой флегмы загородили путь к желаемой цели, хотя и обещали мне порыться еще в старых бумагах покойного профессора Хенкеля, на которого указал мне Погодин.
Дело в том, что во время Ломоносова Горная академия еще не была устроена и, следовательно, в официальном архиве ничего отыскать нельзя. Странно, что имя Виноградова, товарища Ломоносова, осталось в памяти, а следы Ломоносова совершенно простыли. Вот тебе и слава!
Главным начальником в Фрайберге – фон Бейст, брат министра, который мне дал письмо к нему. Горный музей показывал мне Август Брейтхаупт, директор его и профессор минералогии, который недавно был в Петербурге и с большой похвалой отзывается о нашем Горном корпусе. На фрайбергских заводах около 8000 работников, а чистого дохода, за вычетом издержек, выручается, кажется, до 80 тысяч талеров.
Во Фрайберге жил недавно служивший по горной части Гердер, сын знаменитого писателя, и оставил по себе прекрасную память. На дороге из Дрездена во Фрайберг воздвигнут ему памятник, а сам, по собственному желанию своему, похоронен он вблизи одного из заводов. (Сын Шиллера также где-то каким-то ратом, но говорят, вовсе не в отца[83]83
Фридрих Шиллер какое-то время служил советником (нем. Rat – совет) при веймарском дворе. – Прим. ред.
[Закрыть].)
Книжка 18 (1853, 1854, 1856)
Венеция, 25 октября 1853
Продолжаю прерванный мой дневник. Первую книжку кончил я 19-го октября. В течение этих дней был я с Стюрмерами в Palazzo Albrizzi. Замечательны потолки с изваяниями гениев и амуров во весь рост (из terra cotta), которые в разнообразных положениях поддерживают, развертывают draperies, также из штукатурки. Работа очень художественная и грациозная. Удивительно, как эта штукатурка не обваливается. Вероятно, стоило больших денег.
Из комнаты перекинут мостик через узкий канал в сад. Дворец не на Большом канале. Хозяйка дома славилась своей красотой и любовными похождениями и ныне еще, говорят, красавица. Дочь ее, графиню Гальвани, которая пошла в матушку, показывают иностранцам на Piazza как первую венецианскую львицу. В литературных и светских преданиях Венеции хранится имя другой графини Albrizzi.
После пошел я через разные мытарства на знакомые мне Zattera. Один из нищих спросил меня, не был ли я болен, что давно не видать меня. Теперь, после того как переехали мы на полканала, прогулки и нищие мои переменились.
Напрасно полагают, что Венеция не пешеходный город, не экипажный, там и ходить есть где: улицы преоригинальны, иногда узки, как ружейный ствол, площади, площадки, кое-где довольно широкие набережные. Я очень люблю проникать в эти кишки, в эту довольно животрепещущую внутренность Венеции, где жизнь простонародная круговращается во всей своей деятельности и простоте. В Венеции, как и в прочих городах Италии и Востока, люди разве только ночуют в домах и то не все и не всегда, а все домашние дела, упражнения и испражнения производятся обыкновенно на улице.
Дурасов, сын петербургского сенатора, давал вечером серенаду. Одни чужестранцы и проезжие возобновляют этот старинный обычай и оглашают и освещают струи канала давно умолкшими песнями и погасшими фонарями. Певцы не очень хороши, но всё есть какое-то наслаждение лежать в гондоле под сводами Риальто, особенно для русского, в ноябрьскую ночь, и слушать созвучия итальянского языка, который уже сам по себе – пение и мелодия.
Проезжая мимо дома бывшей госпожи Бенцони (умершей в 1839 году), певцы неминуемо затягивают известную и знаменитую баркаролу «La biondina in gondoletta», которая в честь ее была сочинена. Вот также бессмертие! Впрочем, она оставила по себе и предание умной и любезной женщины.
Кажется, не вынесу из Венеции никакого личного воспоминания, заслуживающего особенной отметки в записной книжке собственных имен. Смерть и революция последних годов всё очистили; тем чище и любовь моя к Венеции, в любовь мою не вмешивается никакое личное пристрастие. Любил бы я ее и живую, но люблю ее, голубушку, и мертвую.
Рядом с Ботаническим садом церковь S. Giobbe. В ней богатый надгробный памятник графа Аржансона, картины Бордоне, Беллини. В каждой из церквей есть какое-нибудь богатство. Нет сомнений, что Римская церковь была вдохновительницей искусств.
Боюсь, что дела наши на Востоке портятся. Греческий архиерей, который обыкновенно в честь русских богомольцев читал «Верую» или «Отче наш» по-русски, сегодня прочел их на одном греческом, чтоб не компрометироваться. Да простит мне Господь мое прегрешение, если несправедливо клеплю на доброго старца. Но греки – все-таки греки: они за нас, когда Бог за нас, но если сила перейдет на сторону турок, они – полумагометане.
Каша и бестолковщина продолжаются пуще прежнего. Дошло уже до драки, но не поймешь, война это или фантасмагория; облако, как в битвах Гомера, объемлет ратующих, и не знаешь, кто побил и кто побит. Политика есть, разумеется, особенная наука, и со стороны, не знающему всю подноготную, трудно судить о явлениях ее. А простым рассудком никак не поймешь, как остается наш посланник в Англии, когда не журналы одни, но и члены правительства явно говорят при всяком случае, что русский царь поступает несправедливо, хищнически. Какие же это мирные и дружелюбные сношения? И частному лицу не следует пропускать такие речи о себе, а представителю могущественного государства и подавно. Франция так же действует. Всё это, может быть, очень тонкая политика, но не надобно забывать, что где тонко, тут и рвется.
Журналы всё дивятся, что восточный вопрос ежедневно видоизменяется. Но не сами ли они пустыми и лживыми известиями путают его? Биржа и журналы ловят рыбу в мутной воде и не хотят, чтобы она устоялась и очистилась, чтобы видно было в ней насквозь. Я уверен, что французское правительство принимает большое участие в лихорадочном треволнении биржи и Жилблаз-Наполеон имеет тут свои выгоды.
Французы и англичане беспрестанно сваливают на нашего царя ответственность за европейскую войну и все гибельные для общественного порядка последствия, которые влечет за собой возбуждение восточного вопроса. Но кто, если не они, обратил в общеевропейский вопрос вопрос исключительно частный, кто дает поединку между двумя спорными противниками обширные размеры всенародной, всеевропейской битвы? Они подняли гвалт, да они же теперь говорят, что мы зачинщики. О лондонских и парижских ротозеях речи нет, но правительства очень хорошо знают, что Россия не хочет завладеть Царьградом, по крайней мере в настоящее время. Россия не хочет покорить Турции, но не хочет и того, чтобы нравственно Франция и Англия владели ею.
О независимости, о самостоятельности Турции толкуют одни дураки или недобросовестные публицисты. Турция стоять сама собою не может; она может только падать. В ней одна сила тяготения. И видимое назначение Провидения – когда пробьет ее роковой час, привести ее в объятия России. А до того времени лучший ее союзник, вернейший страж ее – Россия. Но для этого нужно, чтобы другие не мешались в эти сношения. Вмешательством своим они только раздражают Россию и ускоряют день падения Турции, собирая на ее голову горячие уголья.
Свидетели спора, возникшего между двумя противниками, западные державы, Франция и Англия, могли сказать под рукой России: «Кончайте спор свой как хотите, но знайте, что мы добровольно не согласимся на новые завоевания и Царьграда без боя вам не отдадим, если сами турки не будут уметь отстоять себя».
Да и чего бояться нам, если дело на то пойдет, передряги, которую могут поднять недовольные при разгаре общеевропейской войны? Французам она опаснее, нежели нам. Могут вспыхнуть частные беспорядки в Польше, но Польша теперь не восстанет, как в 1830 году. Мятеж в Россию не проникнет. Революционные начала могут возмутить существующий порядок, но установить враждебного порядка не могут. Мы видели на опыте в 1848 году, какова зиждительная сила революции. О гибельных последствиях войны думать не нам, а им, и в особенности французам. Красные страшны более им, а не нам, и если из глупого самолюбия и из зависти к нам они вооружатся за турок и, ослабив внутреннюю вооруженную силу, очистят место для Ледрю-Роллена[84]84
Левого республиканца, деятеля времен Второй республики. – Прим. ред.
[Закрыть], то можно будет сказать Наполеончику: «Tu l’as voulu, George Dandin (ты сам этого хотел, Жорж Данден)».
Для России, впрочем, не знаю, что лучше: торжество революции в лице Наполеона или в лице какого-нибудь Ледрю-Роллена. Нельзя же назвать порядком то, что теперь господствует во Франции: примером своим этот беззаконный порядок гораздо опаснее судорожного беспорядка торжествующей черни. Чернь опасна дома, а если захочет она разлиться за границы, то благоустроенное, твердое правительство всегда совладает с нею. Пока Франция не возвратится к прежнему дореволюционному порядку, она всегда будет враждебной всем другим законным правительствам. Пускай же ее бесится и сама поглощает силы и достоинства свои. Нельзя же не убедиться, что нравственно она упала. Народы, или по крайней мере здравомыслящие в народах, согласны в этом мнении. Одни кабинеты из страха всё еще обходятся с ней почтительно. Еще две-три революции, которые неминуемо ожидают ее впереди, и она вся расслабнет и обвалится.
27 октября
Вчера были со Скьявони: много хорошего, много подлинников, но много и посредственного и поддельного. Портрет кипрской королевы Корнаро Тициана, картины Джорджоне, картина Рембрандта, произведения которого редко встречаются в Венеции. Скьявони говорит, что знает одни те картины, которые ему особенно нравятся, другие же известны ему только мимоходом, и с самого детства он был исключителен в выборе своих сочувствий.
Наш двор был бессовестно обманут и ограблен в покупке галереи palazzo Barbarigo della terrazza. Картины, не стоящие и золотого наполеона, были куплены по 100 наполеонов. Во всем собрании только несколько хороших подлинников. В подобных заочных покупках как не обратиться правительству к лучшим художникам и не составить из них подобия присяжного суда? Но Бруни был прислан в Венецию для укладки картин, когда покупка была уже совершена[85]85
Федор Антонович Бруни (1799—1875) – живописец, хранитель картинной галереи Эрмитажа. – Прим. ред.
[Закрыть].
Картины в галерее Mantrini так дурно развешены, залы такие темные, что большей части картин разглядеть невозможно. После были мы в Академии и наскоро обежали некоторые залы. Скьявони отправил великому князю Михаилу Павловичу в подарок портрет великой княгини и никогда не имел известия о получении портрета, хотя другая картина, вместе с портретом отправленная, кажется, к графу Толстому, – дошла до своего назначения. Об отправлении портрета известно адъютанту великого князя, бывшему в Венеции. Не Путята ли? Справиться в Петербурге.
28 октября
Меншиков подлинно на первую аудиенцию великого визиря в Порте ездил в пальто. Но более всего раздражило визиря и министров, что в назначенный для переговоров день, когда все высшие лица ожидали Меншикова, он мимо них на пароходе своем пронесся и неожиданно отправился к султану. Всё это хорошо, когда имеешь за собой армию и флот, которые при первом несогласии готовы заступить место несостоявшихся негоциаций. Но пристать с пистолетом к горлу, требуя кошелька или жизни, и говорить при этом: «Впрочем, делайте, как хотите, призовите на помощь своих друзей, а мы готовы обождать и дать вам время справиться с силами», – это уже чересчур по-рыцарски и простодушно. С самого начала этой проделки я говорил и писал, что если мы надеемся на успех своих негоциаций, то останемся в дураках. Наши негоциации с турками – после первого слова, не получившего удовлетворительного ответа, – хвать в рожу и за бороду. Вот наша дипломатика. А не то сиди смирно и выжидай верного случая. С турками и Европой у нас один общий язык: штыки. На этом языке еще неизвестно, чья речь будет впереди. А на всяком другом нас переговорят, заговорят, оговорят и, по несчастью, уговорят.
29 октября
Вчера был в мастерских ваятелей Дзандоменеги, у сына умершего скульптора. Известнейшие произведения сына: надгробный памятник доктору Аглиетти – группа Лаокоона, – еще недоконченный, не копия с древнего, а собственное изобретение; «Меланхолия» – памятник отцу семейства (две дочери оплакивают его, в одежде нынешнего покроя). У Дзандоменеги колоссальные статуи для какой-то церкви, изображающие разные христианские добродетели.
Вообще, не люблю аллегорических изображений: гений поэзии, ваяния, живописи… Почему живописи? Потому что держит в руках альбом. Почему та же фигура не будет изображением музыки, математики и проч.?
Вечером был у Стюрмера. Нашел у них венецианца кавалера Scarella (кажется, так); много рассказывал о нашем министре Мочениго, не здешней знаменитой фамилии Mocenigo, а грек, кажется, Ионических островов. Имел какую-то неприятную историю в Неаполе, вышел в отставку и поселился в Венеции. Нажил большое богатство. После смерти его и жены, бывшей красавицы, вся фортуна, по назначению его, перешла в собственность воспитательным заведениям, кажется, на Корфу. Всегда повязан был огромным галстуком. Многие полагали, что этим он скрывает какой-нибудь недостаток: нарост на шее или тому подобное, но дело в том, что изъяна не было, а кутался он просто из удовольствия. Вообще, был очень странен и смешон. Прозвали его Monsieur Nigaud (Mocenigo)[86]86
Nigaud (франц.) – болван. – Прим. ред.
[Закрыть].
Помнится, по поводу его какой-то англичанин спрашивал Александра Булгакова, есть ли у нас дураки в России. И на ответ его, что, как везде, и у нас, вероятно, сыщутся дураки, заметил: «А зачем тогда ваш император прибегает к услугам иностранных?» Этот Scarella, кажется, хороший знаток в искусствах, и он подтвердил мне, что продажа русскому правительству галереи Barberigo – неслыханное воровство.
Любопытно быть на Piazzetta, когда разыгрывается лотерея. Народ всех званий и всех возрастов толпится, лица озабоченные, ожидание, надежда выигрыша, страх проиграть; на других лицах, у зрителей, не участвующих в лотерее, одно любопытство; все с бумажкой в руке для записывания провозглашаемых номеров, друг друга ссужают карандашом, а за неумением грамоты иной просит записать на его клочке счастливый номер, потому что после по улицам разносят эти клочки и собирают деньги за сообщение прохожим вышедших номеров. На час или на два площадь оживает, как в блаженные времена.
Ни Вимпфен, ни Горшковский не отплатили мне карточками за мои визиты. Не в силу ли осадного положения? Или просто от сродной им невежливости? Эту отметку хоть бы Вигелю вписать в свой дневник. Сегодня были в palazzo графини Вимпфен. Много богатства и вкуса. Она в нем почти никогда не живет. Вечером был у графини Воронцовой.
31 октября
Сегодня в десятом часу утра отправился на остров Торчелло. Утро свежее, но прекрасное и светозарное, вода блестит, а вдали, в тумане, Тирольские горы под снежными шапками напомнили мне горы Ливанские со своими снежными нахлобучками; или правильнее – здесь нахлобучки, а там венцы. Собор, или Dome, начатый при епископе Орсеоло, в 1008 году, – удивительное богатство мраморов, мозаик, лучше сохранившихся, нежели в S. Marco, остаток идолопоклонства – мраморная эстрада со ступенями и посреди епископальным седалищем, в окнах мраморные ставни. Рядом церковь S. Fosca, составленная из развалин и обломков римских зданий. Сансовино и Скарпаньино любовались этим храмом и, по мнению графа Чиконьяры, частью подражали ему. На площадке пред церквами стоят кресла каменные – это, по народному преданию, престол Атиллы, который был в Торчелло. В городе было, сказывают, до 80 тысяч жителей. Теперь нет и ста. Трава растет по площадям и улицам. Жители – рыболовы и охотники-егеря.
После поехал в Мурано, известное своими бусами, стеклянными и зеркальными изделиями. Производство не то, что в старину, когда бусы, фальшивый жемчуг были общим женским нарядом, но для бездеятельной и праздной Венеции оно и ныне довольно значительно. Церковь Св. Петра и Павла с картинами Виварини, Пальмы, Тинторетто. Церковь Св. Доната, известная под названием Le dome de Murano, архитектуры греко-арабского XII века. Пол мозаичный, колонны греческого мрамора, деревянный резной и раскрашенный образ (Гапсопе еп bois), изображающий епископа св. Доната, с двумя фигурами (подесты Меммо и жены его) – образ 1310 года.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































