Текст книги "Записные книжки"
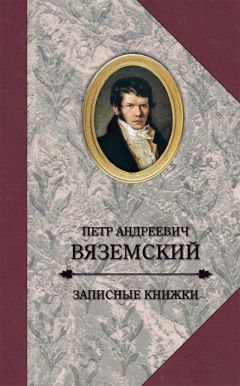
Автор книги: Петр Вяземский
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 42 страниц)
На беду нашу попали мы на сочельник. Печь была худо натоплена, и ничего в печи не было, а мы, полагая, что будем несколько часов в езде, не взяли с собою запаса. Вот что значит ездить по степям. Здешние жители, пускаясь и на малую дорогу, берут с собою не только провиант, но и дрова на всякий случай. Застигнет их ночь и метель, они приютятся к стогу сена, разложат огонь и бивакируют. Мы были взяты врасплох, как Наполеон русскою зимою.
Проведши около пятнадцати часов в избе холодной, но дымной, в обществе телят, куриц (не говоря уже о мелкопоместных тараканах) и родильницы, лежащей на печи с трехдневным младенцем, пустились мы на другое утро в Пензу. Мороз не слабел, но погода была тише. В девятом или десятом часу приехали в Пензу, остановились на въезде города у Сушковой. Я отправился в собор. Теплая церковь – темная как пещера. Верхняя, летняя, говорят, хороша. Оттуда на Иордань.
Архиерей Ириней. Отец его – серб, мать – молдаванка. Воспитан был в Киеве. Прекрасной наружности и что-то восточное: в черных глазах и волосах, в белых зубах и в самых ухватках. Выговором и выражениями напомнил он мне Василия Федоровича Тимковского, с которым он учился и коротко знаком. Он был в Яссах и в Кишиневе, скоро вышел в архиереи. Обращения приятного. В разговоре предавал проклятию Вальтера Скотта, в особенности за роман «Крестовые походы».
Губернатор не любим. Идет молва, что потакает ворам и не из простоты. Человек умный, хотя, вероятно, ума не открытого и не возвышенного. В старые годы перевел «Телемака» и напечатал его. Несколько лет тому принялся за исправление перевода, но за делами службы не успевает кончить труда. Дела у него идут поспешно и все собственноручно. Перевел также несколько мистических книг. Выдал свое путешествие, которое, если не именным указом, то министерским приказом (Кочубея) было раскуплено начальствами и в губерниях, так что собрал довольно значительную сумму в то время, когда авторы лучшие писали у нас только из чести.
Пензенский театр. Директор Гладков; Буянов, провонявший чесноком и водкой. Артисты крепостные, к которым при случае присоединяются семинаристы и приказные. Театр как тростник от ветра колыхается, ветхий и холодный, род землянки. В ложи сходишь по лестнице крючковатой. Освещение сальными свечами, кажется, поголовное по числу зрителей. На каждого зрителя по свечке. В мое время горело или лучше сказать, тускнело свеч тринадцать.
Я призвал в ложу мальчика, которого нашел при дверях, и назначил его историографом и биографом театра, артистов и содержателя. Кто эта актриса? – Саша, любовница барина. Он на днях ее так рассек, что она долго не могла ни ходить, ни сидеть, ни лежать. – Кто эти? – Буфетчик и жена его. – Этот? – Семинарист, который выгнан был из семинарии за буянство. – А этот? – Бурдаев, приказный, лучший актер. – А этот? – Бывший приказный, который просидел год в монастыре, на покаянии. Он застрелил нечаянно на охоте друга своего, Монактина, также приказного.
По несчастью, Гладков имеет три охоты, которые вредят себе взаимно: охоту транжирить, пьянство и собачью. Собаки его не лучше актеров. После несчастной травли он вымещает на актерах и бьет их не на живот, а на смерть. После несчастного представления он вымещает на собаках и велит их убивать. Вторая охота его, постоянная, служит подкреплением каждой в особенности и совокупно. Актер недурен. Давали «Необитаемый остров», «Казачий офицер» и дивертисмент с русскими плясками и песнью «За морем синичка не пышно жила». Вообще мало карикатурного, и нужно сказать правду, в московском театре, в сравнении столицы с Пензою и прозваньем Императорский в сравнении с Гладковским, больше нелепого на сцене, чем здесь.
Больнее всего, что пьяный помещик имеет право терзать своих подданных за то, что они дурно играли или не понравились помещику. Право господства не должно бы простираться до этой степени. При рабстве можно допустить право помещика взыскивать с крепостных своих подати деньгами или натурою и промышленностью, свойственные их назначению и включенные в круг сродного им действия, и наказывать за неисполнение таковых законных обязанностей. Но обеспечить законной властью и сумасбродные прихоти помещика, который хочет, чтобы его рабы плясали, пели и ломали комедь без дарования, без охоты, есть уродство гражданское, оно должно быть прекращено начальством, предводителями как злоупотребление власти. И после таких примеров находятся еще у нас заступники крепостного состояния.
Лубяновский рассказывал мне о возмущении крестьян Апраксина и Голицыной в Орловской губернии числом 20 тысяч душ, когда по восшествии Павла приказал он и с крестьян брать присягу на верноподданничество. Крестьяне, присягнув государю, почитали себя изъятыми из владения помещичьего. Непокорность их долгое время продолжалась, и Репнин ходил на них с войском. Лубяновский служил тогда адъютантом при князе.
У крестьян были свои укрепления и пушки. Присланного к ним для усмирения держали они под арестом. Репнина, подъехавшего к селению их со словами убеждения и мира, прогнали они от себя, ругали его. Репнин велел пустить на них несколько холостых выстрелов, но сия ложная угроза пуще их ободрила, и они бросились вперед. Наконец несколько картечных выстрелов привели возмущенных к покорству.
Происшествие, похожее на происшествие 14 Декабря, только последствия были человеколюбивее. Зачинщиков не нашли и не искали. Репнин велел похоронить убитых картечью и поставил какую-то доску с надписью над ними. Дело это казалось так важно, что Павел писал Репнину: «Если мой приезд к вам может быть нужен, скажите, я тотчас приеду». Возмущения нынешние в деревнях приписывают проделкам либералов. Кто из либералов тогда действовал на крестьян? Рабство – состояние насильственное, которое должно по временам оказывать признаки брожения и, наконец, разорвать обручи недостаточные.
Пенза полна пребыванием Голицына, флигель-адъютанта. Он всех привел в трепет и тем более нравился обществу, что, сказывают, осадил губернатора, которого не любят. Приезжает он к Васильеву, советнику, известному знанием в делах и взяткобрательством. Увещевает его: как не стыдно ему, при его способностях для службы, бесчестить себя корыстием. Тот уверяет в своей чистоте. «Как же вчера взяли вы с того-то триста рублей?» Васильев, пораженный всеведением архангела с мечом и пламенем, клянется на образе, что вперед брать не будет.
Принесут ли пользу эти архангелы, носящиеся по велению владыки из конца в конец земли? Невероятно. Как буря они подымут с земли сор и пыль, но сор и пыль после них опять сядут. Буря не чистит земли, а только волнует. Могут ли Голицыны и все эти флигель-архангелы способствовать к благодетельному преобразованию? Непосредственнейшим и неминуемым воздействием их появления должно стать ослабление повиновения и доверенности управляемых к правящим. На что же генерал-губернаторы, губернаторы, предводители, прокуроры, если нельзя на них положиться? На что Сенат Правительствующий блюстительный, если не ему поверять надзор за исполнением законов? Скорее же из Сената отделять ежегодно ревизоров по всем губерниям. Должно употреблять орудия, посвященные на каждое дело, а не прибегать к перочинным ножичкам потому только, что они ближе и под рукою. Вы оказываете недоверчивость к генерал-губернатору, а облекаете доверенностью гвардейского офицера, который созрел для государственных понятий в манежах или петербургских гостиных. Не пошлете же вы советника губернского правления произвести военное следствие?..
Пенза – город, довольно хорошо выстроенный, и летом должен быть живописен.
Книжка 5 (1825—1831)[36]36
Тексты из «Книжки 4» не публикуются, так как она содержит лишь выписки из исторических и литературных документов. – Прим. ред.
[Закрыть]
И.И.Дмитриев бранил меня за выражение казенный. Чувствую и сам, что оно не авторское. Но как же выразить d’office, de rigueur obligé?
Трюбле говорит, что достоинство иных стихов заключается, как достоинство многих острых слов, в особенном выговоре; так и мысль иная требует особенного выражения, чтобы тотчас подстрекнуть внимание.
В слоге нужны вставочные слова, яркие заплаты, по выражению, кажется, Пушкина, но в каком смысле, не помню. Эти яркие заплаты доказывают бедность употребившего их и не имевшего способов или умения сшить всё платье из цельного куска, но привлекают взоры проходящих, а это-то и нужно нашей братии.
* * *
Вот что пишу сегодня к Николаю Муханову о смерти графа Григория Владимировича Орлова.
«В нем была европейская благонамеренность в уме и обращении. Пожалуй, говори, что не он писал свои книги. Спасибо ему и за то, что русский граф и русский барин нескольких тысяч душ искал отличия авторского и, следовательно, признавал его в душе; а большая часть наших баричей презирает ум и чванится презрением своим. Лучше же быть Чупятовым в каталоге, чем в списке государственных вельмож и кавалеров…[37]37
Чупятов – чудак екатерининских времен, прикидывался легко-помешаным, устраивал мистификации в обществе. – Прим. ред.
[Закрыть]
Орлов за деньги покупал звание автора. Право, честнее быть в его коже, чем в другой. Кто-то сказал, что лицемерие – это дань, которую порок платит добродетели. Лицемерие графа Орлова было данью, которую тщеславие, знающее себе цену, платило уму. Впрочем, перевод басен Крылова есть его творение. В этом предприятии есть ум и чувство, и патриотизм, и европейская замашка.
* * *
«Император Александр переходил от увлечения к увлечению и от культа к культу. С 1803 по 1807 годы у него был культ Екатерины и ее образа правления, отвергнутого Павлом I; с 1807 по 1811 – культ Наполеона, его славы, его завоевательных идей; с 1812 по 1815 год у него, совместно с испанскими кортесами, немецкими студентами, польскими сеймами и французскими конституционалистами, возник культ либеральных принципов, как это подтверждают его прокламации к народам; с 1815 по 1825 год возник культ власти и Священного союза».
(«Le Courier Francais», 25 декабря 1825 года)
* * *
В «Morning Post» уверяют, что Александр умер насильственной смертью, и к этой сказке припутывают и цесаревича, и прогулку по Азовскому морю, и проч., и проч.
В «Morning Chronicle» сказано: «Мы слышали несколько времени тому назад, что рассудок императора Александра был поврежден, но не могли удостовериться в истине этого слуха».
* * *
9 июля
Смешно читать глупости, коими наполнены французские ведомости, современные смерти государя.
* * *
10 июля
Сегодня писал Тургеневу о его печали: «Такое несчастье эти ассигнации! Они имеют ход дома, но за границей теряют всю свою цену и делаются белой бумагой… Жизнь может принести вам еще несколько вкусных плодов. Плодов волшебных ждать уже нечего. Драконы существенности поели все гесперидские яблоки нашей старины, и мы остаемся при одном яблоке, начатом Евой, и которого по сию пору не переварил еще желудок человеческого рода. Мы все изгнанники и на родине. Кто из нас более или менее не пария! А лучше же быть парией под солнцем, чем под дождем и снегом».
* * *
13 июня
Сюлли говорил: «Пашня и пастбище – два сосца государства».
В царствование Людовика XI святой Франсуа де Поль вывез из Италии новый вид груши, которую король из уважения к святости его назвал именем bon chretien (добрый христианин). Генрих IV ревностно покровительствовал успехам земледелия и садоводства. Как наш Петр, он имел время на всё. Мы не только покоимся под сенью славы, им насажденной в России, но и под тенью деревьев, насажденных им. Новая, то есть настоящая Россия, есть точно творение его мысли всеобъявшей. Царствование Екатерины способствовало созреванию.
Другие царствования ничего не насадили, а разве только простригли чащу. Иное очистили, но зато и многое погубили и извели самые соки. Теперь во многом нужен новый Петр, то есть новый зиждитель. После Екатерины след был еще горячий; теперь остыл.
* * *
Генрих, желая основать благоденствие на земледелии, предписывал Сюлли оказывать небрежение к дворянам, приезжавшим в Париж, чтобы величаться своей роскошью. Он хотел, чтобы они жили по своим поместьям и занимались ими. «Счастлив, – говаривал он, – кто имеет 10 тысяч ливров годового дохода и никогда не видал короля!»
* * *
Ньютон родился в самый год кончины Галилея, достойный наместник вакантного места! Не родится ли и у нас тот, который в мире литературном заместит Галилея нашей словесности и истории?
* * *
19 июля
Не знаю, справедлива ли догадка моя, изъявленная выше, по крайней мере 13-е число[38]38
13(25) июля 1825 года состоялась казнь пяти приговоренных к смерти декабристов. – Прим. ред.
[Закрыть] жестоко оправдало мое предчувствие! Для меня этот день ужаснее 14-го.
По совести нахожу, что казни и наказания несоразмерны преступлениям, из которых большая часть состояла только в одном умысле. Вижу в некоторых из приговоренных помышление о возможном цареубийстве, но истинно не вижу ни в одном твердого убеждения и решимости на совершение оного.
Одна совесть, одно всезрящее Провидение может наказывать за преступные мысли, но человеческому правосудию не должны быть доступны тайны сердца, хотя даже и оглашенные. Правительство должно обеспечить государственную безопасность от исполнения подобных покушений, но права его не идут далее.
Я защищаю жизнь против убийцы, уже поднявшего на меня нож, и защищаю ее, отъемля жизнь у противника, но если по одному сознанию намерений его спешу обеспечить свою жизнь от опасности еще только возможной лишением жизни его самого, то выходит, что уже убийца настоящий не он, а я. Личная безопасность, государственная безопасность — слова многозначительные, и потому не нужно придавать им смысл еще обширнейший и безграничный, а не то безопасность одного члена или целого общества станет опасностью каждого и всех.
Правительство имело право и обязанность очистить, по крайней мере на время, общество от врагов его настоящего устройства, и обширная Сибирь предлагала ему свои безопасные заточения. Других нужно было выслать за границу: и Европа, и Америка не устрашились бы наводнения наших революционистов. Не подобными им людьми совершается революция, не только на чужбине, но и дома.
Пример казней как необходимый страх для обуздания последователей есть старый припев, ничего не доказывающий. Когда кровавые фазы Французской революции, видевшей поочередную гибель и жертв, и притеснителей, и мучеников, и мучителей, не служат достаточными возвещениями об угрожающих последствиях, то какую пользу принесет лишняя виселица? Когда страх казни не удерживает руки преступника закоренелого, не пугает алчного и низкого корыстолюбия, то испугает ли он страсть, ослепленную бедственными заблуждениями, вдыхающую в душу необыкновенный пламень и силу, чуждые душе мрачного разбойника, посягающего на вашу жизнь из-за ста рублей?
Плаха грозит и ему так же, как государственному преступнику, но ему она является во всем ужасе позора, а последнему – в полном блеске апофеоза мученичества. И если страх не действует на порок, всегда малодушный в существе своем, то подействует ли он на фанатизм, который в самом начале своем есть уже исступление, или выступление, из границ обыкновенного?
Одни безумцы могут затеять революцию на свое иждивение и для своих барышей. Рассудок, опыт должны им сказать, что первые затейщики бывают первыми жертвами, но они безумцы, в них нет слуха для того, чтобы внимать голосу рассудка и опыта! Следовательно, и казнь их будет бесплодной для других последователей, равно безумных. А для того, кто замышляет революцию в твердом и добросовестном убеждении, что делает должное, личный успех затмевается в ложном или истинном свете того, что он почитает истиной!
…Закон может лишить свободы, ибо он ее и даровать может, но жизнь изъемлется из его ведомства. Смерть – таинство, никто из смертных не разгадал ее. Как же располагать тем, чего мы не знаем? Может быть, смерть есть величайшее благо, а мы в святотатственной слепоте ругаемся сею святыней! Может быть, сие таинство есть звено цепи, нам неприступной и незримой, и мы, расторгая его, потрясаем всю цепь и расстраиваем весь порядок мира, запредельного нашему.
Сии предположения могут быть приняты в уважение и не одним суеверием. Конечно, они сбиваются на мечтательность, но чем доказать их неосновательность, какими положительными опровержениями их низринуть?
Человек, закон не могут по произволу даровать жизнь, следовательно, не властны они даровать и смерть, которая есть ее естественное и непосредственное последствие.
* * *
20 июля
Если смертная казнь и в возвышенном отношении есть мера противоестественная и нам не подлежащая, то увидим далее, что как наказание не согласна она с целью своей. Может ли смерть, неминуемая участь каждого, быть почитаема за верховное наказание, которое в существе своем должно быть чем-то отменным, изъятым из общего положения? Может ли мысль о смерти остановить того, кто не уверен ни в одном часе бытия своего? Сколько людей хладнокровно разыгрывают жизнь свою в разных опасных испытаниях, в поединках, в предприятиях дерзновенных? Если страх насильственной смерти был бы так действителен над человеком, то из кого вербовалась бы армия?
Говорю здесь об одних политических преступниках, коих единственное преступление во мнении, доведенном до страсти. У других преступников – и другие страсти; но во всяком случае мысль о смерти никого испугать не может. Человек, рассуждающий хладнокровно, скажет: «Я могу только ускорить час свой, но всё пробить ему должно! Сколько раз висела жизнь моя на волоске от неосторожности моей, от прихоти. Кто уверит меня, что завтра не постигнет меня смертельная болезнь, которая повлечет меня к гробу томительной и страдальческой кончиной, или что сегодня не обрушится на меня смерть нечаянная?» Человеку в жаре страстей своих, порочных или возвышенных, всё равно, ему не нужно ободрять себя рассуждениями. Он в слепом отчаянии ничего не видит, кроме цели своей, и бешено рвется к ней сквозь все преграды и мимо всех опасностей. Страх смерти может господствовать в душе ясной, покойной, любующейся настоящим, но не такова душа заговорщика. Она волнуема и рвется из берегов. Мысль о смерти теряется в буре замыслов, надежд и страстей, ее терзающих.
Карамзин говорил, гораздо прежде происшествий 14 Декабря и не применяя слов своих к России: «Честному человеку не должно подвергать себя виселице!»
* * *
22 июля
В 1797 году Карамзин сказал:
Тацит велик; но Рим, описанный Тацитом,
Достоин ли пера его?
В сем Риме, некогда геройством знаменитом,
Кроме убийц и жертв, не вижу ничего.
Жалеть об нем не должно:
Он стоил лютых бед несчастья своего,
Терпя, чего терпеть без подлости не можно.
Какой смысл этого стиха? На нем основываясь, заключаешь, что есть же мера долготерпению… Был ли Карамзин преступен, обнародовав свою мысль, и не совершенно ли она противоречит апофегме, приведенной выше? Вот что делает разность мнений!
Несчастный Пущин в словах письма своего (Донесение следственной комиссии, стр. 47) говорит: «Нас по справедливости назвали бы подлецами, если бы мы пропустили нынешний единственный случай», и так дает знать прямодушно, что, по его мнению, мера долготерпения… переполнена и нельзя было не воспользоваться пробившим часом.
Человек ранен в руку, лекари сходятся. Иным кажется, что антонов огонь уже тут и отсечение члена – единственный способ спасения; другие полагают, что еще можно помирволить с увечьем и залечить рану без операции. Только последствия покажут, которая сторона была права; однако различность мнений может существовать в лекарях равно сведущих, но более или менее сметливых и более или менее надеющихся на вспомогательство времени и природы.
Разумеется, есть мера и здесь. Лекарь, который из-за царапки на пальце поспешит отсечь руку по плечо, – опасный невежда и преступный палач. Революционеры Англии и Франции (если они существуют), которые, раздраженные частными злоупотреблениями, затевают у себя пожары, так же нелепо односторонни в уме или преступно себялюбивы в душе, как и эгоист, который поджигает дом ближнего, чтобы спечь себе яйцо…
* * *
Вот стихи Батюшкова, подражание Байрону, писанные им в чужих краях, и едва ли не последние:
Есть наслаждение и в дикости лесов,
Есть радость на приморском бреге,
И есть гармония в сем говоре валов,
Дробящихся в пустынном беге.
Я ближнего люблю, но ты, природа-мать,
Ты сердцу моему дороже;
С тобой, владычица, я властен забывать
И то, что был, когда я был моложе,
И то, что ныне стал под холодом годов.
С тобой я в чувствах оживаю;
Их выразить язык не знает стройных слов,
И как молчать о них не знаю!
Шуми же ты, шуми, огромный океан!
Развалины на прахе строит
Минутный человек, сей суетный тиран;
Но море чем себе присвоить?
Трудися; созидай громады кораблей…
Не лучше бы:
И то, что был, как был моложе,
а то стих не равен с прочими.
Кажется, так же легко было бы исправить и рифму в прекрасной строфе прекрасного перевода из Касти:
Сердце наше – кладезь мрачный,
Тих, спокоен сверху вид,
Но спустись ко дну, ужасный
Крокодил на нем лежит.
Вставить бы темный и огромный. Неисправная рифма как разноцветная заплатка рябит в глазах. Рифма и так уже есть вставка; так по крайней мере подберите оттенок к оттенку.
* * *
Умел же и осмелился же Верховный уголовный суд предписывать закон государю, говоря в докладе: «И хотя милосердию, от самодержавной власти исходящему, закон не может положить никаких пределов; но Верховный уголовный суд приемлет дерзновение представить, что есть степени преступления столь высокие и с общей безопасностью государства столь смежные, что самому милосердию они, кажется, должны быть недоступны».
Тут, когда закон говорит, что значат ваши умствования и ваши предложения? Когда дело идет о пролитии крови, то тогда умеете вы дать вес голосу своему и придать ему государственную значительность… А в докладе следственной комиссии не хотели и побоялись оставить вопль жалости, коим редактор хотел окончить его, чтобы обратить сострадание государя на многие жертвы, которые обречены всей лютости закона буквального, но должны бы быть изъяты из списка, ему представленного, по многим и многим уважениям.
Как нелеп и жесток доклад суда! Какое утонченное раздробление в многосложности разрядов и какое однообразие в наказаниях! Разрядов преступлений одиннадцать, а казней по-настоящему – три: смертная, каторжная работа и ссылка на поселение. Все прочие подразделения мнимые или так сливаются оттенками, что не различишь их! А какая постепенность в существе преступлений! Потом, какое самовластное распределение преступников по разрядам! Капитан Пущин в 10-м разряде осужден к лишению чинов и дворянства и написанию в солдаты до выслуги, а преступление его в том, что знал о приготовлении к мятежу но не донес А в 11-м разряде осужденных к лишению токмо чинов, с написанием в солдаты с выслугой, есть принадлежавший к тайному обществу и лично действовавший в мятеже.
Тургенев, осуждаемый к смертной казни отсечением головы в 1-м разряде, – не изобличенный в умысле цареубийства; зато и в 6-м разряде осуждаемых к временной ссылке в каторжную работу на шесть лет, а потом на поселение – участвовавший в умысле цареубийства.
Еще вопрос: что значит участвовать в умысле цареубийства, когда переменой в образе мыслей я уже отстал от мысленного участия? И может ли мысль быть почитаема за дело? Можно ли наказывать как вора человека, который лет десять тому помышлял, что не худо было бы ему украсть у соседа сто рублей, и потом во всё продолжение этих десяти лет бывал ежедневно в доме соседа, имел тысячу случаев совершить покражу и не вынес из дома ни полушки…
Что за верховный суд, который, как Немезида, хотя и поздно, но вырывает из глубины души тайны и давно отложенные помышления и карает их за преступление налицо! Неужели не должно здесь существовать право давности? Например, несчастный Шаховский! Что могло быть общего с тем, что он был некогда, и тем, что был после? И один ли Шаховский? Зачем так злодейски осуществлять слова? Мало ли что каждый сказал на своем веку… Неужели несколько лет жизни покойной, семейной не значительнее нескольких слов, сказанных в чаду молодости, на ветер?
* * *
Вихтерпалу. Я поехал туда 27 июля 1826 года и возвратился в Ревель 28-го. Дорога каменная там, где кончается городская земля или, правильнее, городской песок. В Вихтерпалу есть шведские селения.
Шведы, говорят, живут чище туземцев и лучше строят свои избы – окна больше. Шведки отличаются от чухны уборкой волос, которые прибраны и заплетены на маковке полосатыми лентами. В Вихтерпалу каждый крестьянин работает два дня в неделю. Кнорринг очень доволен новым распоряжением, освободившим крестьян. Деревню свою ценит он в 100 тысяч рублей серебром, а дает она ему дохода тысяч 20.
В Падис-Клостере[39]39
Одно из древнейших христианских поселений Эстляндской губернии, близ Ревеля. – Прим. ред.
[Закрыть] крестьяне также в хорошем состоянии. Нравы вообще непорочные. Девочку проступившуюся наряжают в женский головной убор. Строгость в таких случаях опасна, но между тем детоубийство редко, потому что и самая вина очень редка.
* * *
4 августа
То, что я принял вчера (и описал в письме к жене) за облако особенного вида и свойства, была настоящая тромба (по словам морских офицеров), тайфун. Она поднялась на море близ гавани, сорвала лайбу (чухонское судно с дровами), крепко укрепленную, и повалила ее, вскинула и раскидала купальные будки, сорвала дорогой шляпу с едущего кучера и закинула ее в Катеринентальский сад[40]40
Екатериненталь, Кадриорг – дворцовый комплекс в Таллинне. – Прим. ред.
[Закрыть], а там, переломав и вырвав с корнем несколько старых деревьев, укротилась.
Говорят также, что мимоездом досталось и корове, которую подняло с земли и швырнуло далеко. На море тромбы разбиваются ядрами, единственным спасением, а то не может судно устоять. Мне говорили моряки, что однажды у них пустили с корабля до сорока ядер и совершенно разбили тромбу. Счастливо, что вчера в этот час никто не купался.
* * *
6 августа
Я писал сегодня Жуковскому:
«Чувство, которое имели к Карамзину живому, остается теперь без употребления. Не к кому из земных приложить его. Любим, уважаем иных, но всё нет той полноты чувства. Он был каким-то животворным, лучезарным средоточием круга нашего, всего Отечества. Смерть Наполеона в современной истории, смерть Байрона в мире поэзии, смерть Карамзина в русском быту оставили по себе бездну пустоты, которую нам завалить уже не придется.
Странное сличение, но для меня истинное и не изысканное! При каждой из трех смертей у меня как будто что-то отпало от нравственного бытия моего и как-то пустее стало в жизни. Разумеется, говорю здесь как человек – часть общего семейства человеческого, не применяя к последней потере частных чувств своих. Смерть друга, каков был Карамзин каждому из нас, есть уже само по себе бедствие, которое отзовется на всю жизнь; но в его смерти как смерти человека, гражданина, писателя, русского есть несметное число кругов, всё более и более расширяющихся и поглотивших столько прекрасных ожиданий, столько светлых мыслей».
* * *
8 августа
Вчера ездили мы с Карамзиным-младшим в Тишер, любимое место мое в окрестностях Ревельских. За Титером располагается мыза какого-то Будберга. Сей (прости мне, Боже, прегрешение) полусумасшедший и полупьяный барон принял нас очень ласково и даже трогательно. Узнав, что с нами дети Карамзина, заплакал он и с чувством подходил к ним, говоря, что никогда не забудет удовольствия, принесенного чтением его сочинений.
Будберг этот пленился моей зрительной трубой – просил меня, чтобы я по смерти своей завещал ему ее, хотя, между прочим, он и теперь лет шестидесяти. Вот и предсказание мне на раннюю смерть! Вино и безумие внушают дар истины и пророчества! Как бы то ни было прошу наследников моих исполнить данное мной обещание и по смерти моей отослать зрительную трубку, оправленную в перламутр, к Будбергу, живущему за Тишером.
Тишерская скала в руках богатого человека была бы местом замечательным, то есть со стороны искусства, потому что теперь, обязанная одним рукам природы, она уже – местоположение прекрасное. Начать бы с того, чтобы устроить хорошую дорогу от города, пробить несколько дорожек по скале с верха до низа, построить несколько красивых домиков, чтобы населить пустыню жизнью.
Громады камней на скале образуют разные виды: здесь высовываются они карнизами, тут – впадинами вроде ниши, здесь поросли частым лесом – живописной рябиной и орешником. Русский Вальтер Скотт мог бы избрать окрестности Ревеля сценой своих рассказов.
* * *
12 августа
Вчера ездили мы на Бумажное озеро. Слева от него род башни, в которой по преданию были заложены монах и монахиня, убежавшие из монастырей своих и пойманные на этом месте. Основанием башни служит огромный дикий камень. Посередине в башне, в рост человеческий, два камня с изображением на каждом грубо вырезанного креста.
Не доходя до этого места, близ озера, нашли мы нечаянно эхо удивительной звучности и верности: я закричал к коляске, отставшей доехать до нас, и слова мои с такой ясностью и твердостью были повторены, что Катенька (Карамзина), которая была в нескольких шагах от меня, думала, что не расслышала ответа кучера. На стих:
Je ne m’attendais pas, jeune et belle Zaire
(Я не ожидал, юная и прекрасная Заира)
Je пе m’attendais pas, jeune et belle Zaire (Я не ожидал, юная и
эхо без малейшего изменения отвечало последнее полустишие. Барышни перекликались с ним тонкими голосами, и эхо точно передразнивало их. Всё выражение, все ударения, переливы голоса передаются нам в неимоверной точности. Вот романтические материалы: озеро, закладенная любовь монаха и монахини и эхо самое предательское.
* * *
Может быть, Вальтер Скотт – превосходнейший писатель всех народов, всех веков. Карамзин говаривал, что если заживет когда-нибудь домом, то поставит в саду своем благодарный памятник Вальтеру Скотту за удовольствие, внушенное им в чтении его романов.
* * *
Дрезден, 20 августа 1827
Выписка из письма А.И.Тургенева.
«Пробежал сегодня акафист Иванчина-Писарева нашему историографу. И за намерение отдать справедливость спасибо. Но долго ли нам умничать и в словах, и полумыслями? Жаль, что не могу сообщить несколько строк сравнения Карамзина с историей Вальтера Скотта и изъяснение преимуществ пред последним. Они перевесили бы многословие оратора.
Но спасибо издателю за золотые строки Карамзина о дружбе, а Ивану Ивановичу (Дмитриеву) – за выдачу письма его. Я как будто слышу его, вижу его говорящего: «Чтобы чувствовать всю сладость жизни…» Одно чувство и нами исключительно владеет: нетерпение смерти. Кажется, только у могилы Сережиной может умериться это нетерпение; этот беспрестанный порыв к нему. Ожидать, и ожидать одному, в разлуке с другим, тяжело и почти нестерпимо. Ищу рассеяния, на минуту нахожу его, но тщета всего беспрерывно от всего отводит, ко всему делает равнодушным. Одно желание смерти, то есть свидания, всё поглощает.
Вижу то же и в письмах другого, но еще сильнее, безотраднее. Приглашение Катерины Андреевны (Карамзиной) возвратиться огорчило, почти оскорбило меня. Или вы меня не знаете, или вы ничего не знаете.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































