Текст книги "Записные книжки"
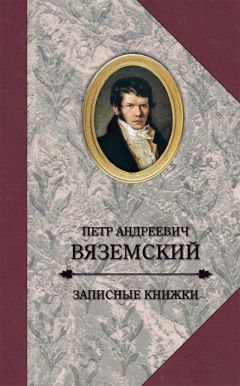
Автор книги: Петр Вяземский
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 30 (всего у книги 42 страниц)
Тезоименитство австрийского императора. Обедня с музыкой и в присутствии властей в церкви S. Marco. Полу-торжество, главный праздник – день рождения. Не было парада и даже войска. На piazza мало народа.
23—25 сентября
Встреча и знакомство с отставным палачом, которого принимал я за нищего и которому давал милостыню. Впрочем, он точно беден, стар и дряхл. Надобно с ним короче ознакомиться и проведать его подноготную.
Видел я в S. Marco отпевание священника, которого после понесли в гробе на гондолу и отвезли на кладбище на остров. Последняя прогулка венецианцев в гондоле.
От Адлерберга получил я ответ с разрешением государя остаться за границей. Говоря о вечном восточном вопросе, Стюрмер сказал мне, что Орлов, вероятно, лучше, нежели Меншиков, уладил бы дело. Он турок хорошо знает, говорил Стюрмер. Не знаю, как с англичанами и французами, но с турками я сам согласен, что лучшего полномочного, во всех смыслах полномочного, придумать нельзя.
С турками должна идти у нас дипломатика азиатская, которая, впрочем, нам очень сродни. А мы отказываемся от своей полуазиатской природы и дипломатизируем на французский и английский лад, отчего и действуем несвободно и вяло и уступаем первенство англичанам и французам. Недаром есть у нас татарщина, которая должна была бы сблизить нас с турками. Русская тонкость, лукавство, сметливость, сами собою из каждого умного русского делают дипломата.
А мы свою дипломатию вверили совершенно антирусским началам. Что может быть противоположнее русскому какого-нибудь тщедушного Бруннова[66]66
Эрнст Филипп фон Бруннов (1797—1875), русский дипломат из курляндского дворянского рода. – Прим. ред.
[Закрыть]? Ни капли русской крови, ни единого русского чувства нет у него в груди. Может быть, он не продаст Россию, но верно выдаст ее, частью ведением, частью неведением. Неведением потому, что он не понимает России, что никакая русская струна не звучит в сердце его. Неведением потому, что где ему отгрызаться зуб за зуб с Пальмерстоном, который должен давить его и сгибать в три погибели своим барством и высокомерием. Ему ли передавать звучный и богатырский голос русского царя, например, в настоящем восточном вопросе? Что поймет он в чувстве народного православия, которое может ополчить всю Россию? Всё это для него тарабарская грамота. И во всем восточном вопросе неминуемо, невольно видит он одно опасение лишиться своего посланнического места. Это натурально, и винить его в том было бы несправедливо… У Нессельроде, хотя и нельзя сказать Нессельрода, есть по крайней мере русские мериносы на Святой Руси; стало быть, он прикреплен к русской земле. Но у этого бобыля Бруннова нет…
30 сентября
Вчера был в Арсенале с Завадовскими. Модель bucintoro (бучинторо) имеет десятую часть подлинника. Обманчивость глаз. Не верится, чтобы модель, помноженная и десятью, могла бы на деле быть такого размера[67]67
Длина венецианской церемониальной галеры составляла 30 метров, ширина – 6 метров. – Прим. ред.
[Закрыть]. Вооружение Генриха IV, подаренное им Республике. Орудия пытки, принадлежавшие Франческо Карраре, падуанскому тирану. Щит, простреленный цесаревичем в 1838 году одной из арбалет, которая участвовала в Лепантском сражении.
Вчера в «Сан-Самуэле» был «Цирюльник». Что за молодость, веселость, увлекательность в этой музыке! Россини переживет в потомстве своих современных львов: Наполеона и Байрона. Было время, когда наше поколение ими бредило. Мы все глядели в Наполеоны и Байроны, и многие довольно удачно их корчили. Но никто не попал в Россини.
1 октября
На днях прочитал книгу молодого Адлерберга «Из Рима в Иерусалим». Ничего.
Я очень люблю это простосердечное русское выражение. Иван, какова погода? – Ничего-с! Ямщик, какова дорога? – Ничего-с. Что, каков ваш барин, хорошо ли вами управляет? – Ничего-с.
2 октября
Вечером был Строганов. Сегодня в церкви Maria del Rosario был я на отпевании 80-летнего священника, основателя или одного из двух основателей Scuole di Carieta Marco. Во времена Республики он принадлежал к магистратуре и после падения республики принял духовный сан. Он был очень любим в народе, и церковь была полна. Произнесенное в память надгробное слово, сколько мог я понять, было не без достоинства и во всяком случае красноречиво, ибо слова оратора часто прерывались его же слезами и рыданиями. Кажется, упомянул он, что был учеником почившего.
Во второй раз присутствовал на последней прогулке в гондоле венецианца. Здесь нет особенного экипажа для мертвецов. Они отъезжают домой на одном и том же извозчике, который служит и живым. Некоторые путешественники говорят о красных гондолах, которые здесь будто заменяют наши похоронные дроги, но по моим справкам оказывается это ложным. При церемонии бывают церковнослужители в красных рясах, которые несут церковные фонари, но бывают они и при других обрядах.
4 октября
Был у обедни в греческой церкви. Более порядка и благочиния, нежели на Востоке. Подходил к благословению архиерея, который промолвил мне невнятно несколько русских слов.
6 октября
Венеция под дождем и в ненастье – то же, что красавица с флюсом, который кривит ее рожу. Поневоле изменишь ей, как прежде ни любил ее. Вчера были у княгини Васильчиковой. Грустно видеть дочь ее. Заезжали к графине Эстергази.
7 октября
Был у меня наш египетский генеральный консул Фок, на днях выехавший из Александрии. Между Александрией и Триестом четырехдневное плавание. Соблазнительно. Кажется, умный человек, обхождения приятного, но больной и довольно мрачного духа. Не любит Востока, в котором долго жил. Выехал он из Египта не по обстоятельствам политическим, а по болезни.
В Египте, по словам его, в самом деле довольно возбужден фанатизм против нас. Я не думал бы того. Стало быть, в Турции и подавно. Разумеется, фанатизм не внутренний, не самородный, а внешний и взбитый революционными выходцами и бродягами. Фок говорит, что лучшая книга о Египте – Рафаловича[68]68
«Путешествие по Нижнему Египту и внутренним областям Дельты». – Прим. ред.
[Закрыть]. В книге Ковалевского[69]69
«Путешествие во внутреннюю Африку». – Прим. ред.
[Закрыть] много вздора и собственноручного шитья.
10 октября
Вице-библиотекарь в Дукальной библиотеке – православный грек. Доктор Намиас возил меня в свой госпиталь. Прекрасное заведение. До 1000 кроватей, а в случае нужды есть место и на 2000. В Венеции всё имеет вид грандиозный и артистический, потому что все эти помещения были в старину или палаццы, или храмы, или монастыри. Величина, высота зал такого обширного размера, везде такой простор, что нигде не пахнет госпиталем. Везде воздух свежий и чистый. Правда, и климат тому способствует. Здесь очищают воздух не можжевельным курением, а открывают окна, впуская солнце и воздух.
Госпиталь основан для городских бедных и общин, которые и содержат его определенным ежегодным взносом. Есть отделение для мужчин и отделение для женщин, подразделенные на больных, требующих лечения, и больных, требующих хирургических операций. Есть отделение и для больных, платящих (большая часть даром) по 2 цванзигера с половиной в комнатах, где несколько больных, и по 4 цванзигера для больного в особой комнате, с особой прислугой. Отделение еврейское и отделение детское, что, кажется, редко где встретишь. Смертность умеренная. Около седьмой части болезней – грудные.
Ныне больных привозят в гондолах на площадь церкви Santi Giovianni е Paolo и переносят в больницу в виду толпы народа, которая обыкновенно собирается поглазеть на это зрелище так же, как на всякое другое. Есть проект прорыть новый канал, который войдет во внутренний двор здания.
Рядом с больницей дом умалишенных, для женского пола, до 300 человек. Всё это помещается в большой зале Scuola di S. Marco и бывшем монастыре доминиканцев. Двенадцать подлекарей, из них одна часть получает по 600 цванзигера в год, а другая – только квартиру в госпитале и обед в дни дежурства. Есть сады, дворы и большие крытые галереи для прогулки выздоравливающих.
В Венеции до 40 тысяч бедных, записанных в приходах, а жителей всего до 110 тысяч. Намиас говорил мне, что чем долее доктор обходится с больными, чем долее практикует, тем менее делает, а содействует природе. Большая деятельность, большая медикаментация означают молодость науки и врача.
11 октября
Был у обедни в греческой церкви. Архиерей из внимания к русским посетителям читал «Верую» и «Отче наш» по-русски. Предпочитаю чтение этих двух молитв пению их по нашему обряду. Был в хранилище церкви: три древнегреческих Евангелия и хартии на папирусе на латинском языке – кажется, VI века. Содержание: запись в пользу Равенской церкви. Римский археолог Марини написал рассуждение о сей рукописи. Заходил к архиерею, говорит немного по-русски. В церкви погребена Воронцова, урожденная Сенявина, мать нынешнего князя Воронцова.
Ездили в Армянский монастырь. На возвратном пути вода была так прозрачна и зеркальна, что небеса, деревья, дома отражались в ней как живые. Больница умалишенных на острове Сан Серволо висела вверх дном в водном пространстве, как головы несчастных ее жильцов.
12 октября
Всходил на самый верх Campanile di S. Marco. Горизонт был чист. Великолепная панорама Венеции с ее роскошным поясом островов. Вдали Падуя. Виченские горы – Тирольские с их снежными кокошниками.
Не позволяют всходить на башню поодиночке, и все отверстия разделены железной палкой, вследствие нескольких самоубийственных низвержений с высоты. На Вандомской колонне в Париже по той же причине приняты подобные же предосторожности. Видно, это чувство желания спуститься с высоты – довольно натуральное.
Радецкий приехал в Венецию. Стюрмер обещал представить меня ему.
13 октября
В «J. de Debats», 20 октября, фельетон какого-то Пьера Дюшена (вероятно, псевдоним) о русском театре, извлеченный из Арапова, Милюкова, Зеленецкого, Греча, Кони.
Нельзя тут сказать ученье – свет, а неученье – тьма. Здесь тьма от учения.
Был в «Аполло». Давали «Итальянку в Алжире». Так и обдавало меня московской стариной и первыми моими итальянскими музыкальными впечатлениями. После революции гауптвахты загорожены железной решеткой, за которой находятся солдаты. Неблаговидно.
14 октября
Рад едкий дал знать графине Стюрмер, что будет к ней, а она о том уведомила меня и пригласила к себе. От часа до пяти ждали мы его, но не дождались. Вероятно, какое-нибудь недоразумение, потому что старик очень вежлив и точен. На днях минет ему 87 лет, а он еще очень подвижен и начал опять ездить верхом. Император дал ему близ Лайбаха поместье, которое он устраивает себе на старость, когда выйдет в отставку.
Между тем он, перебирая со Стюрмером всех действователей великих войн наполеоновских и поминая всех умерших, сказал: «Мне стыдно, что я живу так долго». У Стюрмера есть несколько замечательных автографов. Несколько строк к нему написаны султаном с французской собственноручной его подписью. Письмо Марии-Луизы к Наполеону за несколько дней до первого падения его, с переводом ее собственноручным немецкого письма ее к отцу, где она говорит, что Наполеон не может согласиться на мир, если не оставят ему Антверпена, и мимоходом пугает папеньку, что если войска его побьют (а весьма вероятно, потому что император сильнее, нежели когда-либо, и весь народ одушевлен мужеством и патриотизмом), то это будет погибель Австрийской империи.
Стюрмеры были на Св. Елене в числе охранителей Наполеона. Графиня говорит, что много преувеличений и пристрастий в рассказах о притеснениях, терпимых Наполеоном, но что, впрочем, было много неприятного и оскорбительного по необходимости в надзоре за ним. Нашего комиссара Бальмена он, вероятно, допустил бы до себя охотно, но сэр Хадсон Лоу не дозволил того, потому что Наполеон не хотел видеть его самого.
Наполеон пил одно шампанское, частью цельное, частью с водой. По примеру его и вся его французская свита не пила ничего, кроме шампанского, так что по обыкновенному расчету вся заготовленная провизия скоро истощилась и Наполеон остался без шампанского. Тогда сообщения были долговременны, и, пока не выписали новой провизии, прошло несколько месяцев. Французы ужасно возмущались жестокостью австрийского правительства, которое жаждой морит Наполеона.
Всё черное белье и дамское тут же перебиралось английскими офицерами. Новые крики и нарекания на дикость и варварство англичан.
Однажды Наполеону захотелось подшутить над сторожевым офицером, который следовал за ним в прогулках верхом. Он уловил минуту, в которую тот с кем-то заговорил, пришпорил коня своего и скрылся в крутизнах и извилинах скалы. Не видя пред собой пленника своего, офицер обмер, пустился во все закоулки ущелий, но нигде не нашел и следа его. Тревога, повсеместные поиски, пальба пушек, чтобы возвестить, что пленник спасся; а между тем пленник благополучно возвратился домой, смеясь над погоней. С той поры были приняты новые предосторожности, которым Наполеон не поддался. Он отказался от своих верховых прогулок и под конец ограничил выход свой из дома окрестностями.
15 октября
Одни дожившие до нынешних дней потомки древней Венецианской республики – это голуби piazza di S. Marco, которые и теперь на иждивении правительства. Но эти республиканцы вовсе не дикие и не кичливые, а напротив, ручные и общительные. Они гуляют по площади и, встречаясь с вами, чуть-чуть отходят в сторону, чтобы дать вам пройти. Но не улетают и нимало не пугаются.
Вечером Радецкий был в «Сан-Самуэле». Сказывают, что, когда вошел он в ложу, человек двадцать в партере начали хлопать и бедный старик раскланивался пред почтеннейшей публикой. Но почтеннейшая публика была весьма немногочисленна: случайно или оппозиционно, но театр был пустее обыкновенного. Большею частью были австрийцы, проезжающие дамы.
Радецкий казался довольно пасмурен. Впрочем, может быть, и усталость одолела его: утром делал он смотр войскам в Тревизо, а возвратившись в Венецию, давал большой обед. Адъютант его граф Тунн обещал представить меня фельдмаршалу в проезд мой чрез Верону.
16 октября
Был в музее «Коррер». Теодоро Корреро, любитель и собиратель редкостей и древностей, завещал собрание свое городу. Много любопытного и драгоценного во всех возможных родах: оружие, галлебарды, служившие в старину на праздниках духовных, обломки, принадлежности бученторе, картины известных мастеров, медали Кановы, резцы его, портрет несчастного дожа Франческо Фоскари, прекрасный портрет Гольдони, блюда по рисункам Рафаэля, выделанные ныне уже потерянным способом, стрелы, шкапы, баулы отличной древней работы. (Нынешнее столярное искусство имеет свою красоту, но оно не живуче и до потомства не дойдет.) План Венеции 1500 года, не имевшей еще ни Моста Вздохов, ни каменного моста Риальто, ни церквей della Salute и Redentore.
Был в церкви degli Scalzi. Построил ее архитектор Лонгена, соорудивший и della Salute. Пуристы критикуют школу его и относят ее к временам упадка. Но для нас, невежд, эта величавость не без достоинства и производит желанное действие и вызывает изумление. Внутреннее богатство мраморов во всех деталях, от колонн до дверей и канделябров, неисчислимо. Несколько приделов один богаче другого, сооруженных знаменитыми фамилиями Венеции и, между прочими, семейством «последних венецианцев», дожа Манини.
Церковь на одном из побочных каналов Св. Иакова daU’Orio славится отличной вышины колонной зеленого мрамора и картинами Паоло Веронезе, Бассано, Пальмы, etc.
Вечером был у Кассини и видел там Зайцевского, переселившегося в Италию, когда, казалось бы, России почва совершенно по нем. В русской судьбе много таких странностей. Бедный Пушкин не выезжал из России, а Зайцевский не выезжает из Италии.
Тициан умер 99 лет от чумы 1575 года. Мертвых зарывали тогда в известку, но по особенному повелению сената, останки его были спасены от общего поглощения.
17 октября
Palazzo Mocenigo, в котором жил Байрон; сохраняется письменный стол его. Тут же картина Тинторетто, служившая моделью большой его картины «Рай», хранящейся в большой зале Дукальной библиотеки. Бюст сына графини Мочению: прекрасная голова и хорошая работа. После были в Ботаническом саду, я не
Князь Федора племянник,
Не химик, не ботаник
и потому я не могу оценить богатств этого сада, но, кажется, в нем довольно много замечательных растений. Между прочими дерево смерти: дотронешься до него – опухнешь и умрешь; остановишься под ним – задохнешься до смерти. Под стать этому дереву хранятся в саду бомбы и ядра, которые долетали до него во время осады 1849 года.
Гетто – старое, новое и новейшее; день был субботний, потому синагоги и лавки были заперты.
18 октября
Обедня в греческой церкви. Евангелие читается с кафедры посредине церкви. Это гораздо лучше и слышнее, чем у нас, и к тому же диакон не ревет, не мычит, не рыкает. Щегольское чтение Евангелия казалось мне всегда у нас совершенно неприличным и гораздо менее внятным, чем обыкновенное и умеренное громогласное чтение. Вход в алтарь мирянам воспрещен канонами.
Вечером на piazza совершенно пусто. Ужасно заживаюсь в Венеции. Я всегда и отовсюду тяжел на подъем, но отсюда особенно тяжело выплывать. Меня удерживает благодатный штиль. Эта бесплавная, бесколесная, бессуетная, бесшумная, бездейственная, но вовсе не бездушная жизнь Венеции имеет что-то очаровательное.
19 октября
Были с графиней Орловой-Денисовой в лавках Гетто. Много хламу, но, вероятно, есть кое-что и стоящее внимания, хотя, впрочем, туристы и антикварии давно уже обобрали Венецию. Некоторые старые зеркала, фар-форы, баульчики. Но надобно знать цену этим вещам, а то легко попасть в дураки.
Дом англичанина Уильямса с собранием редкостей, картин, старинных шкапов, etc. Против дома – Palazzo Taglioni, в котором живет сама Тальони, когда бывает в Венеции. В одном из салонов картины во всю стену служат обоями. Архитектура внешняя очень красива.
Вечером был у Стюрмера.
Разнесся слух о стычке между нашими и турецкими войсками. Все явления этой восточной драмы с ее начала двусмысленны и двуличны. Союзный флот перешел Дарданеллы, но в Босфор не вошел, а остановился на половине дороги. И хочется и колется. И война и не война, с турками союз, но с нами не разрыв. Читая газеты, не знаешь, кто безалабернее: правительства или газетчики. «Times» двух дней сряду не говорит одного, день за турок и день против них. Кроме русского правительства, которое может ошибаться, ибо оно человек, все другие правительства ослабли и сбились с толку.
После был у Кассини. Утром был у нас греческий архиерей.
Книжка 16 (1853)
Венеция, 18 августа Что вы нам поете про баденский жар? Попробуйте венецианского, и тогда вас дрожь проймет и вы велите затопить у себя камин. Днем жарко, а ночью душнее. И старожилы здешние не запомнят такой осени. Каково же нам, новичкам? У вас еще есть деревья, есть тень. И не забывайте, что Венеция, как она ни прекрасна собою, – все-таки лысая красавица, и нам, бедным, некуда приютиться. Я только и делаю, что потею. Все мои способности телесные и душевные вытекают потом.
Вечером Piazza di S. Marco, душная зала, душный раут: невольно думаешь, нельзя ли как-нибудь раскрыть окно, чтоб освежить воздух. Признаться, раут этот довольно и скучноват, одно мороженое меня туда привлекает. Площадь довольно плохо освещена, а впрочем, не на кого и смотреть – все по деревням. Женский пол очень некрасив. Музыка постыдная, особенно для музыкальной и поэтической Италии.
Со всем тем здесь хорошо и на жар не жалуюсь. Я еще не начинал похождений своих по здешним палаццам и церквам, ожидаю, чтобы жар спал. Видел я только кое-что мимоходом. Наслаждаюсь этой независимостью от повинностей, которым подлежат обыкновенные путешественники.
Между тем почти каждый день захожу в базилику S. Marco – и каждый раз с новым наслаждением. Во-первых, там довольно прохладно, а во-вторых, и в десятых, и в сотых, там столько богатств, столько изящного и примечательного, что каждый раз любуешься чем-нибудь новым.
Физиономии площадок, рынков очень напоминают Константинополь. Крики торговцев зеленью, фруктами совершенно одни и те же.
Мы переехали на другую квартиру. Домик наш в саду, если можно назвать это садом, а киоск – на берегу здешнего Босфора, Canal Grande.
* * *
25 августа 1853
Мы уже не в Венеции, а в полном Петербурге. Вот третий день, что совершилось это превращение. Со дня на день погода круто переменилась. Сегодня вода выступила из каналов на мостовую, ни дать ни взять Черная речка.
Венеция не миловидна в ненастную погоду. Этой красавице нужно быть убранной и разодетой блеском солнечным или месячных лучей. Под дождем и под тучами она не гордая львица, а просто мокрая курица.
* * *
ГРАФУ БЛУДОВУ
Венеция, 1 сентября 1853
Приношу вам, почтеннейший и любезнейший граф Дмитрий Николаевич, мою живейшую благодарность за ваше обязательное письмо и ваши дружеские хлопоты о моем «Рекруте» («Ратнике»). Хотя он и завербован под знаменем Булгарина, которое не так чтобы совсем без пятна, но все-таки я рад, что его завербовали и он успел явиться до распущения милиции. Как знать, мой константинопольский приятель лорд Рэдклифф, может быть, предчувствуя мое желание, загнул новый узел в восточном вопросе, чтобы дать мне время справиться, поставить и снарядить моего «Ратника». Теперь мое дело сделано, и я могу спокойно ожидать развязки.
Ваше письмо от 7 августа только на днях дошло до меня. Оно бегало за мной по разным царствам и государствам и, наконец, отыскало меня в Венеции, куда отправил меня доктор Геденус. К сожалению, вследствие невольных задержек, приехали мы сюда несколько поздно. Я еще успел довольно воспользоваться морскими купаниями и теперь продолжаю их в ванне.
Вполне наслаждаюсь пребыванием своим в этой столице тишины и благодатного тунеядства. Чувствую, как нервы мои растягиваются и успокаиваются. И, чтобы не растревожить себя и не разбудить засыпающей кошки (которая так долго царапала меня своими язвительными когтями), чтобы не уставать от лишних и многообразных впечатлений, я только исподволь знакомлюсь со здешними замечательностями и редкостями. Не рассыпаюсь мелким бесом или дородным англичанином по всем храмам и всем палаццам. Хожу или, вернее, плыву куда глаза глядят, и всегда наткнусь на что-нибудь достойное внимания. Более глазею, чем пялюсь, чтобы ничего не пропустить и не остаться в долгу пред какою-нибудь картиной или статуей.
Совесть моя не столь щекотлива и боязлива. Кажется мне, что даже грешно переносить в Венецию тревожное и задыхающееся любопытство обыкновенных путешественников. Этой молчаливой и спокойной красавицей должно и любоваться молча и созерцательно.
Мы здесь живем в одном доме с Пашковой-Барановой. На днях приехала и княгиня Васильчикова. Мы в Венеции не заживемся и в виду имеем еще недели три виноградного лечения в Швейцарии или в Германии, а там… а там…
Сердечно желаю возвратиться домой, хотя доктора опасаются за меня после столь многих лечений, петербургской осени и зимы. Не знаю, право, на что и решиться.
Увольнение мое от управления банком несколько развязывает мне руки и совесть. Явка моя на службу теперь уже не такая повелительная обязанность и необходимость. Впрочем, что будет и что скажет мой оракул Геденус. Но в случае нужды, вы, надеюсь, позволите мне снова обратиться к вашему дружескому ходатайству, которое при добром содействия графа Киселева было уже для меня так существенно.
Кстати, при сей верной оказии потрудитесь передать графу мой усердный и признательный поклон. Охотно разделю с вами грустную обязанность изготовить новое издание творений нашего незабвенного друга (Жуковского). Но, вероятно, и последнее еще не раскуплено. Не лучше ли повременить? Желательно было бы собрать и напечатать письма его, в которых так живо запечатлелись ум и дух его, в разных их видоизменениях, от высокого до площадного, от умилительного и религиозного до буффонства и карикатуры. Жаль, что не сохранить полной физиономии характера его. Из Москвы пишут мне, что вдова его всё нездорова. Признаюсь, грустно и страшно думать о позднем переселении ее на чужую сторону и в таких печальных обстоятельствах.
Замечаю, что я очень переступил за законную грань английского письма. Виноват. Впрочем, в нынешних обстоятельствах не грешно сделать что-нибудь и в пику Пальмерстону. А знаете ли вы, что мой «Ратник» не только в «Северной Пчеле», но и в «Times», разумеется, в переводе прозой?
* * *
ИЗ ПИСЬМА К СВЕРБЕЕВОЙ
Теперь Венеция опять смотрит Венецией, то есть ненаглядной красавицей, днем блистающей в золотой парче солнца, ночью – в серебряной парче луны. И не знаешь, в каком наряде она красивее. «Во всех ты, душенька, нарядах хороша!»
Но не буду говорить вам о Венеции. Вы ее знаете, и к тому же ненавижу les lieux communs[70]70
Избитые места (франц.). – Прим. ред.
[Закрыть], а говоря о ней, мудрено не впасть в избитую колею, которую все путешественники прорыли своими фразами об Адриатической Венере, развенчанной царице и проч., и тысячу проч. Только скажу вам, что почти каждый день захожу в базилику S. Marco, и всегда с новым удовольствием, и всегда с новым удовлетворением любопытства и внимания.
* * *
ИЗ ПИСЬМА К ВОЕЙКОВОЙ В ЛОНДОН
Что вы изволите так спесивиться, гордая и коварная островитянка? Вам пишут милое и остроумное письмо, вам посылают прекрасные стихи (которые даже и «Times» ваш перевел и напечатал), а вы на всё это ни ответа ни привета. Ни головой не кивнете, ни плечом не тряхнете. На что это похоже? Завеселились вы, запировали, забылись в чаду. Пожалуй еще, чего доброго, сила крестная с нами, вы даже, может быть, кокетничаете с лордом Пальмерстоном и заразились его мерзким тоном, отказались от людей и от нас, варваров православных.
Но сделайте милость, нечего вам с нами зазнаваться. И мы также почти соленые островитяне, не хуже вашего. Наш хотя и уснувший лев, право, стоит вашего жадного и лукавого кота, которого из тщеславия вы пожаловали в леопарды. Наше солнце посветлее вашего, наша луна почище вашей. И не отдам я моей гондолы, в которой в лунную ночь плыву мимо великолепнейших дворцов и храмов, за весь ваш флот, как он ни хорохорится в Безике и в Спитхеде.
Но дело не в том, и, чтобы не баловать вашу гордость, скажу вам откровенно, что пишу вам вовсе не для вас, а для себя. Не подумайте, что
Moi, qui Vous aime tendrement,
Je n’ecris, que pour vous le dire,
(Любя вас, я пишу, чтобы сказать вам это)
тем более что уже никак нельзя мне сказать вам:
Vous n’ecrivez, que pour ecrire,
C’est pour vous un amusement.
(Вы пишете не любя, а чтоб поиздеваться.)
Об этом нет ни речи, ни помышления, а я только обращаюсь к вашей совести, если она не совершенно опальмерстонилась, и убедительно прошу вас сказать мне, получили ли вы мое письмо из Дрездена.
Вот и всё. А теперь Бог с вами и с Пальмерстоном. Будьте здоровы, торжествуйте, веселитесь, кушайте roast-beef и запивайте его стаканом ale (только берегитесь слишком растолстеть), но чтобы не поперхнуться от упрека совести, дайте мне знать.
Как я на вас ни сердит, а все-таки целую безграмотную ручку вашу.
* * *
Французы и англичане в своих дипломатических сношениях всегда двусмысленны и двуличны, потому что боятся журнальных толков, биржи, политических партий. Наша дипломатика одна может говорить прямо, потому что она есть выражение личной воли, особенно в обстоятельствах, когда личная воля сходится с народным сочувствием, как то оказывается ныне в отношении к так называемому восточному вопросу.
* * *
БУЛГАКОВУ
Венеция, 7 сентября Io sudo – io ho sudato – io sudero! (Я потею, я потею, я потный.) Вот всё, что в первые две недели нашего здесь пребывания мог бы я тебе сказать и что, между прочим, доказало бы тебе, что кроме общего пота я еще особенно и в придачу потею над итальянской грамматикой. Я изнемогал под влиянием внешнего и внутреннего scirocco и del dolce far niente[71]71
Сладкого ничегонеделанья (итал.) – Прим. ред.
[Закрыть]. He писал ни журнала своего, ни стихов, ни, словом сказать, даже писем к тебе. Я так потел днем и ночью, что боялся сделаться сам лагуною.
После того вдруг в одну ночь погода переменилась. Мы были уже не в Венеции, а в Питере, не на Canal Grande, а хотя бы на Мойке! И сыро, и свежо, и пасмурно, и ветрено. Венеция, как я говорил, уже была не красивый и стройный лебедь, а просто мокрая курица. Итальянцы перепугались, запрятались, сняли купальни, повязали свои cache-nes, перестали есть мороженое и проч., и проч.
Перепугался и я и говорил себе: не стоило же выезжать из России, чтобы встретиться с суровой осенью в последних числах августа. Но страх мой недолго продолжался. Всё пришло в надлежащий порядок. Жара поумерилась, погода прекрасная.
Что сказать тебе о Венеции, чего бы ты не знал, чего не знал бы каждый? Мне она нравится. Я наслаждаюсь тишиной ее, болезненным видом, унылостью. Пышная, здоровая, могучая, шумная, может быть, менее нравилась бы она мне. На праздник можно заглянуть мимоходом и порадоваться, но вечно праздновать – скука смертельная. Я почти благодарен австрийцам, которые угомонили этого льва и эту львицу. Париж несносен мне своим ежедневным тезоименитством, вечным именинным пирогом и вечными шкаликами в изъявление всеобщей радости. Там нет будней, а будни нужны моим нервам, нужен отдых, полусвет. Здесь есть праздник, но праздник природы: небеса и море, живые картины, а для охотников – и мертвые, которые стоят живых. Для меня они не очень доступны, потому что я близорук глазами и художественным чутьем живописи. Она меня вообще мало удовлетворяет, предпочитаю ей скульптуру и зодчество. Тут глазам моим есть за что ухватиться.
Каждый день захожу в базилику S. Marco и любуюсь ею. И что за богатство во всех других церквах! Можно бы вымостить весь мир их мраморами и драгоценными камнями. Как я ни плох по части живописи, а советую тебе, если будешь в Венеции, сходить в мастерскую Скьявони-отца (и сын отличный художник, но, как это часто встречаешь, молодой гораздо степеннее и строже старика. Не подумай, что я говорю это обиняком о тебе и о Косте).
Старик Скьявони – большой охотник и большой мастер представлять женщин аи naturel. Между прочим, есть у него нагая красавица, только с необходимым виноградным листком, то есть слегка накинутым легким покровом, чтобы не застудить и не застыдить (что, впрочем, одно и то же: студ и стыд) нежную часть тела. Особенно рекомендую тебе лядвею и колено этой красавицы. Я ничего подобного не видал. Так и выходит, так и округляется, так и дотрагивается до тебя из рамы своей. Мне, право, было совестно, и я всё пятился и отходил в сторону, чтобы как-нибудь неосторожно не столкнуться коленом с коленом. Но проклятое колено так и подвигалось на меня, так меня и задевало нагостью и наглостью своей. Уж я говорил ему: «Да сгинь, окаянное, что ты привязалось ко мне, что ты меня приводишь в смущение и в соблазн! Оставь меня в покое! Вот я тебе пришлю приятеля своего Булгакова, его не испугаешь, он, пожалуй, готов сыграть коленце с тобой, но я никуда не гожусь». Ничто не помогало, и я наконец опрометью выбежал из дома. Во всю ночь, во сне, это колено, как домовой, упирало меня в грудь и теперь еще, наяву, мерещится мне.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































