Текст книги "Крест поэта"
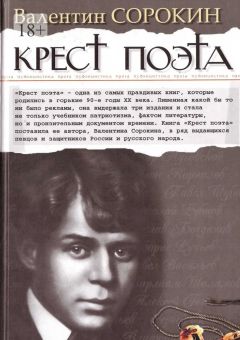
Автор книги: Валентин Сорокин
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 37 страниц)
ГОНИМАЯ ДУША
Теперь, когда улеглись наши страсти вокруг имени Николая Рубцова, а стихи его «обвыклись» в литературной и житейской среде, – утишилось и само отношение людей, почитателей поэта, к нему. Началось утоление: талант Николая Рубцова, как родной пронзительный всполох, затрепетал и, золотея, ровно засветился…
Идущий видит, соизмеряет между ним и собою расстояние, собираясь превозмочь дорогу, радуется и грустит. Радуется – впереди пульсирует извечный голос крови человечества – искра ожидания, теплота встречи, свет любви. Грустит – томит преодоленное, оставленное, тревожат предчувствия неясностей, неустройств и случайных размолвок:
Погружены в томительный мороз,
Вокруг меня снега оцепенели.
Оцепенели маленькие ели,
И было небо темное, без звезд.
Какая глушь! Я был один живой.
Один живой в бескрайнем мертвом поле!
Конечно, и в шестидесятых, и в семидесятых годах потребность в более широком и глубоком самовыражении наций не была незаметной, не была примитивной и поверхностной. Мир бурлил. Век, так мне казалось, разворачивался и, пыльный от индустрий и войн, уходил в племена, народы, в страдания и трагедии наций, будя их, будоража страны, державы, континенты, беспокоя этим предгрозовым гулом чуткое сердце пахаря и сталевара, философа и поэта. «Я был один живой…» Один ли?
Философ думает. Поэт страдает. Пахарь латает рубаху. Сталевар не в силах понять: куда деваются моря пламенного железа? Трактор есть, а молока детишкам не хватает. Танки и корабли есть, а границы постоянно требуют зоркости. Философ размышляет, сопоставляет, накладывает эпоху на эпоху, изучает ситуацию политик, принимает меры правитель. А у поэта что? Поэт страдает, видя плохо одетого пахаря, недокормленных его детей. Страдает, видя длинную очередь, если не за продуктами, то за водкой. Страдает, видя в очереди – сталевара, колыхающего морями стали, морями огненного железа.
Поэту, наверное, тяжелее всех, никто за него не скажет:
Тихая моя родина!
Ивы, река, соловьи…
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои.
– Где же погост? Вы не видели?
Сам я найти не могу. —
Тихо ответили жители:
– Это на том берегу.
Что-то похожее на «Стой», «Остепенись», «Замолчи». Или – на шепот: «Вот она, могила!», «Пришел?», «Нашел», «Узнал»… соседи разговаривают о чем-то вместе, а думают врозь – философы. А поэт и разговаривает один. С самим собою разговаривает. Ищет. Не находит. Опять страдает.
Николай Рубцов – ярко один. Одиночество думающего, одиночество страдающего горит, как тот дорожный свет, над его коротким заботливым творчеством, напоминающим северную церковь с положенными ей селами и городами.
Но это – «на том берегу», как ответили жители. Между поэтом и народом такая река непокоя! Как расстояние – между идущим и между золотым всполохом… Мы наелись революциями. Наелись войнами. Нагоревались могилами. Владимир Маяковский надоел. В те годы водка была дешевая, а жизнь дорогая. А сегодня жизнь дорогая, а водка еще дороже… В те годы выпьет рабочий класс – слушает Маяковского: «Я радуюсь маршу, с которым идем в работу мы и в сраженье!»
Слушает-то слушает, но сквозь марш и саженьи шаги нет-нет, да и кольнет в грудь кукушечий голос, крик задушенного поля, истоптанной и взрытой синевы – Сергей Есенин. Что-то случилось с Владимиром Владимировичем Маяковским, что-то случилось с народом, что-то случилось с Есениным: он возвращается – народ опамятовывается, Маяковский каменеет.
Тачанка Революции остановилась. Кони в пене. Анка, пулеметчица, – бездетная вдова… Лихие рубаки растворились в степных травах и сгинули в скифских курганах. Что же случилось? Что же случилось? Если:
Пришел октябрь. Пустынно за овином.
Звенит снежок в траве обледенелой,
И глохнет жизнь под небом оловянным,
И лишь почтовый трактор хлопотливо
Туда-сюда мотается чуть свет,
И только я с поникшей головою,
Как выраженье осени живое,
Проникнутый тоской ее и дружбой,
По косогорам родины брожу
И одного сильней всего желаю —
Чтоб в этот день осеннего распада
И в близкий день ревущей снежной бури
Всегда светила нам, не унывая,
Звезда труда, поэзия покоя,
Чтоб и тоща она торжествовала,
Когда не будет памяти о нас…
Только ли Николай Рубцов задумался? Задумалось прежде всего – его поколение. А поколение задумалось потому, что уже давно-давно задумались деды и отцы: куда скакала тачанка? Почему у Анки, храброй и красивой, детей на свете не осталось? Зачем в России так много одиноких братских могил? Братский труд – понятно. Братская песня – понятно. Но – братская могила? А их у нас – тысячи, миллионы. А туруханские могилы? А колымские могилы? И тоже – братские, братские.
Вот и «глохнет жизнь под небом оловянным. И лишь почтовый трактор хлопотливо туда-сюда мотается»… А ныне в знакомом «грязном бездорожье» и трактор не нужен. Деревня вымерла. Она сперва постарела, постарела, ссутулилась, ослепла и замолкла: могил много, особенно – братских!.. А древние погосты, обычные погосты, и прибрать некому. Сиротские погосты. Брошенные погосты. Ничьи погосты.
По моим наблюдениям – Николай Рубцов сдержанно любил поэтов: трудно, осмысленно. Не любил – без неприязни: тоже трудно и осмысленно.
Так вправе ли мы винить Маяковского за безоговорочную взвинченность восторга, если пуля депрессии унесла его жизнь? Вправе ли мы боль Есенина считать «окончательно верной», если «С того и мучаюсь, что не пойму, куда несет нас рок событий» и сейчас – вопрос?
Поэт Николай Рубцов напоминает мне честного печника, кладущего печь. Каждый кирпич поднят и «пригнан» с крестьянским терпением, ладом и тайной мечтою: вот затрещит лучина, загудят своды, потеплеет в дому, испарится иней с бревен и рам, послышится в горнице речь, русская, не охрипшая от холода, голода и заварухи.
* * *
Лишь наивно оценивающий прошлое критик утверждает «независимую, подспудную» способность Николая Рубцова – не впасть в «совриторику», в скудобокую, худоребрую трибунщину и лозунговость. Талант поэта не бывает независимым от времени, истории, событий. А способность поэта, да еще такого, по-лесному настороженного, как Николай Рубцов, вся – в шелесте, в шорохе, в громе дня, вся.
Необходимость высказаться, вскрикнуть, позвать, отринуть, рождаемая в народе, охваченном социальным движением, реализуется поэтом, громким, как Владимир Маяковский, или нежным, как Сергей Есенин, не важно: принцип «реализации» един – детали истинны.
Чуткий, музыкальный, медленно смежающий веки, как мудрый токующий глухарь, – поэт Николай Рубцов! Да, Рубцов. Я заявляю: Николай Рубцов среди нас, поющий – очень думающий, декламирующий – очень думающий, спорящий – очень думающий, даже когда смеялся – думал… Гитара его не долбила по нервам, не изнывала, а тревожно уводила к памяти, к лугу, к погосту, к реке, где за туманом еще помигивал пароходик детства и надежды. Голос, жесты поэта чуть притормаживались, как будто чего-то немножко опасались, и потом – обретали ритм, свойство общения.
За Николаем Рубцовым – стоит, безусловно, ближе всех к нему, Сергей Есенин. Но, пусть меня опровергнут, и Маяковский рядом, тем паче в зачине творческого слога:
Я весь в мазуте, весь в тавоте,
Зато работаю в тралфлоте!
Не спеши, критик, «разнести» меня за эти «открытия». Мое поколение росло под назидательным «прессом» Маяковского, потому оно молитвенно тянулось к Есенину. Но «пресс» Маяковского – «пресс» партпрограмм и прочих «исторических» манифестов, использовавших гранитный огонь Маяковского, огонь горлана-главаря. Я не хочу, нет нужды, задерживать Николая Рубцова на «пролетарской» лесенке, он быстро ее миновал и забыл.
Вернувшись из-за морей, отштормившая юность поэта расширенными глазами, полными слез признания, слез разлуки, как бы заново «осела», вникла, внедрилась, вплакалась в родной край, вологодские деревни, села и города. Даже холмы и взгорья Вологодчины, как живые, она взяла на руки, тяжело подержала, показывая народу, и принесла их в Москву.
Николай Рубцов – редкий поэт. Тончайшие, почти еще блестковые, лишь еле-еле проносящиеся в душе и в голове наития, ощущения, сомнения, завязи догадок и порывов, он умело закреплял, соединял в хрупкий многозначный рисунок, наслаивал на этот рисунок робкую, почти неуловимую подтекстовую вязь, дополнял, наделял острыми приметами, и под сердцем, под сердцем, наедине со своими страстями и муками окрыленного вдохновения, лепил образ, и музыка находила музыку, дума находила думу:
Взбегу на холм и упаду в траву.
И древностью повеет вдруг из дола!
И вдруг картины грозного раздора
Я в этот миг увижу наяву.
Пустынный свет на звездных берегах
И вереницы птиц твоих, Россия,
Затмит на миг
В крови и жемчугах
Тупой башмак скуластого Батыя…
Но вот – первая часть стихотворения, вводно-общая. Хотя и тут двуединое упоминание через «из дола»: «И древностью повеет вдруг из дола! И вдруг картины грозного раздора» – «вдруг» и снова – «вдруг», на весьма маленькой «площадке», есть – динамит поэта, магия взрыва. А вторая часть? Где:
Россия, Русь – куда я ни взгляну…
За все твои страдания и битвы
Люблю твою, Россия, старину,
Твои леса, погосты и молитвы,
Люблю твои избушки и цветы,
И небеса, горящие от зноя,
И шепот ив у смутной воды,
Люблю навек, до вечного покоя…
Россия, Русь! Храни себя, храни!
Смотри, опять в леса твои и долы
Со всех сторон нагрянули они,
Иных времен татары и монголы.
Они несут на флагах черный крест,
Они крестами небо закрестили,
И не леса мне видятся окрест,
А лес крестов в окрестностях России.
Пишешь о поэте – цитируй его! Иначе – немота, предвоенная немая кинокартина: герои нравятся, а речь их не слышна. Цитировать замечательных поэтов это – петь, это – плакать, это – смеяться. Цитируйте. Живите страстями поэтов! Не ошибетесь.
Смотрите, началось колдовство-доказательство – что ему дорого, что ему – главное, до смертного часа, до могилы?!
Началось, началось перечисление, бабушкинское, дедовское, сказочное, былинное, ворожейное: «Люблю твою, Россия, старину, твои леса, погосты и молитвы», и далее – избушки, цветы, смутная вода, ивы и вечный покой, и снова: «Россия, Русь! Храни себя, храни», и – жесткое, сумасшедшее, беспощадное – «кресты», черная тень пожаров, черная тень бредущих из павших пращуровых крепостей.
Неба нет. Доли нет. Синевы нет. Огонька того нет. И дороги нет. Небо «крестами закрестили» и «лес крестов» тут, в «окрестностях России»… Образ опустошенной дали. Образ опустошенного, дрожащего от набегов края. Пепел. Черный ветер.
И толстый, красный столб огня – Батый. Он вырастает. Дышит. Сопит. Вокруг него движется все, что было погостом, селением, холмом, городом. Вот как разговаривает поэт наедине с предками, как он реально бедует! Николай Рубцов бывает предельно жестоким в стихах, но не жестокостью человека, а жестокостью бессонного мастерства, жестокостью кары призвания. Ведь призвание карает поэта священной ревностью непокоя! Смотрите:
Кресты, кресты… Я больше не могу!
Я резко отниму от глаз ладони
И вдруг увижу: смирно на лугу
Траву жуют стреноженные кони.
Заржут они—и где-то у осин
Подхватит эхо медленное ржанье,
И надо мной – бессмертных звезд Руси,
Спокойных звезд безбрежное мерцанье…
Третья часть стихотворения. Но опять – кресты, кресты! Опять – «вдруг увижу», опять – трава, кони жуют, эхо; домашнее почти, и выход, внезапный, огромный, вечный, с молниеподобным звуком: «бессмертных звезд Руси, Спокойных звезд безбрежное мерцанье», физически «з» мерцает, звезда всходит из молитвы, из бездонья, из вечности, обнимающей Россию и нас.
К Пушкину, Лермонтову, Тютчеву, Некрасову, Блоку, Есенину пришел поэт от рублено-пролетарского:
Забрызгана
крупно
и рубка,
и рында…
* * *
Среди пьющих непьющий – подозрителен. А среди некурящих курящий – противен. Хорошо чувствует себя в любой «испорченной» компании человек, умеющий выпить без «акцента» на частоту тостов, умеющий курить невредно для окружающих. Но у поэта так не получается. Поэт пахнет ветром поколения, как бетонный тракт гарью, и никуда от этого не увернуть.
Даже Рубцов, выросший из травяных лугов и туманных речек Вологодчины, вымокший в клюквенных болотах северного края, не избежал – и это не худо – зависимости от «пролетарского покроя», хотя сознательно пробовал избежать. Чем нежнее в слове Николай Рубцов, тем сердечнее его повествование, тем очаровательнее его неизбежная позиция гражданина в деревне и в городе.
Несоответствия между газетчиной и жизнью, лозунгами и действительностью обострили поэта, разгневали и унизили его исконную роль. Поэт начал азартно сопротивляться демагогии и догматизму, псевдорумяности, благополучию хозяев-вожаков. И, беру смелость заметить, Николай Рубцов здесь прекрасно публицистичен, отважно решителен, неповторим осязанием:
Бессмертное величие Кремля
Невыразимо смертными словами!
В твоей судьбе – о, русская земля, —
В твоей глуши с лесами и холмами,
Где смутной грустью веет старина,
Где было все: смиренье и гордыня —
Навек слышна, навек озарена,
Утверждена московская твердыня!
Эти стихи были напечатаны в журнале «Молодая гвардия», где я, в конце шестидесятых годов, заведовал отделом поэзии. Сейчас иные молодые стихотворцы «шарахаются» от гражданственности, от нисходящей публицистичности, полагая: отстраняясь от нее, спасешься от слабостей и просчетов в творчестве… Смешно. Поэт выигрывает и побеждает – лицом ко времени, к его дерзостям и заботам. Другого пути, над которым вспыхивает и золотеет свет судьбы, нет для поэта и быть не может. Ныне завелось «травяных», «грибных», «дождевых», «земляных» поэтов больше, чем было недавно – «военных», «интеллектуальных», «крестьянских», «рабочих», «партийных» и пр. и т. п.
Николай Рубцов поэт – край, поэт – церковь, из окон ее видно государство. Под куполом церкви – колокол. Набат – на случай…
Травоядие, водопитие, листошумие – не его атрибуты. Он – поэт широкий, с ответным размахом далей, с высокими небесами над собою. Продолжающий Есенина, он «деликатнее» Павла Васильева, этого Ильи Муромца. Продолжающий Есенина, он, Николай Рубцов, разноцветнее Бориса Корнилова, сосредоточеннее Клюева, но все, названные мною поэты, – его любимые поэты. Сергея Есенина, Павла Васильева, Бориса Корнилова, Николая Клюева он знал подробно по биографиям, знал наизусть по стихам.
Опыт народа – его постоянное нормальное переосмысление и переоценка «побед в труде», «достижений в космосе», «величия в эпохе» и т. д. Опыт поэта – опыт народа и своя стезя, ныряющая то в глупость и сумятицу быта, то в грубость и никчемность литературной атмосферы, то в смятение и стыд за свою бестолочь, за свое никому не нужное существование и дар. На такие «угрызения» Богом отпускаются минуты. Отпускаются они талантливому Рубцову и Рубцовым, а их, Рубцовых, мало!..
Недаром у Рубцова попадаются стихи – изучение вчерашнего Рубцова, стихи – покаяния, стихи – кручина о непонятном, озарившем и промелькнувшем. Поэт жил невероятно сложно, невероятно собранно. Каждая промашка его взрывала в нем и удесятеряла муки:
Когда стою во мгле,
Душе покоя нет, —
И омуты страшней,
И резче дух болотный,
Миры глядят с небес,
Свой излучая свет,
Свой открывая лик,
Прекрасный и холодный.
Да, вечное недостижимо, а близкое невидимо! «Прекрасный и холодный» пугает вас тем предчувствием, той трагедией, какую «отводят» люди мысленно, «про себя», до скончания дней. А «свой излучая свет» читается жутко, ранит, как внезапный окрик во глубине храма, во тьме ожидаемого несчастья…
Николай Рубцов – мастер по изучению и подаче темы. Он от темы, из темы, за темой берет все, что можно взять, что можно показать своим и чужим страстям, своим и чужим взорам. Мастер он и по определению мелодии и размера стиха, его завершенности. Единство внутреннего содержания и внешней отшлифовки произведений Николая Рубцова завидно оригинально, естественно и ненавязчиво – удачное сочетание смысла и формы.
Да, он – Церковь. Церковь, встроенная в плечо храма над деревней, над селом, или – прямо возносящаяся на площади изъеденного пылью и обозленного грохотом города. Церковь. Храм. Тянет – войди и помолись. Не тянет – не заходи. Но мимо этой церкви, мимо этого храма разумный человек не пройдет, не «зацепившись» за жизнь и смерть, за совесть и долг… Я много лет дружил с Николаем Рубцовым. Его мировоззрение и его творчество не отмечены устойчивой религиозностью, не отмечены и бессознательной верою в реальность вечной материи, вечного обновления.
Но, будучи глубоким, с космическим воображением поэтом, Николай Рубцов нигде ни в одной строке не омрачил великую тайну властной красоты мироздания грубым несогласием с нею, с тем, что проницательный осязает, талантливый чувствует, гений пророчит: он сам был тайной, сам был красивым, сам был вечным…
Среднего роста. Худой. Небольшое, чуть удлиненное лицо. Глаза небольшие. Умные. Фиксирующие все. Высокий лоб, незаметно переходящий в лысину. Клетчатая рубашка. Неопределенного рисунка и цвета костюм. Темное пальто, легкое, осеннее. Кепка. Потрепанные ботинки, узконосые… Серо-белый шарф на шее. Голос глуховатый. Слова редкие. Больше молчит, чем беседует. Иногда поет под гитару. Но поет редко. Гитара – фон для растяжного чтения своих стихов. Любит слушать чужие стихи. Никогда не критикует. Молчит.
Таким я его помню. Таким и пишу. Кто знает другого – пусть даст другой портрет. Не может быть человек, тем более поэт, всегда в одинаковом расположении, в одинаковом состоянии. В доме Литературного института, общежитии, на ул. Добролюбова невозможно долго сохранить хорошее или плохое настроение. Гости идут, едут. Знакомых – уйма. Гениев некуца девать… Встречи ежедневные, если не за столом, так на кухне, если не на кухне, так в аудитории.
Но гении – богаты и надменны. Гении известны, как в ту пору депутаты брежневского Верховного Совета, а в нашу пору – Алла Пугачева… Николай Рубцов в «гениях» не ходил, но студенты института и слушатели Высших литературных курсов, уважающие поэзию, ценили Рубцова.
Даже через много лет я и покойный ныне прозаик Иван Акулов «подключились» к Виктору Астафьеву:
В горнице моей светло.
Это от ночной звезды.
Матушка возьмет ведро,
Молча принесет воды…
Поскрипывали переделкинские сосны. Потрескивал в ночи мороз. Седой фронтовик пел нежные строки Рубцова. Что-то трагическое заложено в них от всех нас, переживших кровавые смуты, коллективизации, индустриализации, блокады и войны.
* * *
Трагично то, что рядовой смысл, вложенный Рубцовым в слова, казался нам, огрубленным призывами и заветами «корифеев», нам, приученным работать и работать, воевать и воевать, – слишком волнительным, слишком размягчающим нас, до слез, нас, оторванных от Есенина годы и годы:
Красные цветы мои
В садике завяли все,
Лодка на речной мели
Скоро догниет совсем.
Но не личная безвыходность, не зимняя морозная ночь вползала в окно, когда пел Виктор Астафьев, а – великая боль великого, обреченного на нищету и братские могилы народа. Так это было. За «матушка возьмет ведро, молча принесет воды…» стояла револьверная Лубянка, барачная Магнитка, стоял сражающийся Сталинград, стояла родная Россия, а пел ее седой воин.
Николая Рубцова признали не критики и не сильные мира сего, нет, его признали одногодки, ровесники, близкие и дальние друзья, так же бедно одетые, как бедно одет он, так же безденежно «счастливые», как безденежно «счастлив» он. А это признание – лучшее и самое надежное признание среди общих признаний столицы.
Его стихи-песни, до их публикации, шли, ехали, летели по России не через «телерадио», а через память, через душу людей. Не было в его стихах-песнях ни наглой бравады, ни тюремного заблатнения, ни расхристанного обвинительства, ни хулиганской прыти – держите меня! Не было. А была – русская печаль. Русская доля. Русская тоска по свету в пути…
Рано зануждясь, поэт вынянчил любовь к матери, к дому, к ласковому уюту родительства. Сергей Викулов сказал: «Деревенский мальчишка, он перед войной лишился матери, а тут – война, и на фронт уходит отец. Сиротство – не сладко и в мирное время, а в войну тем более. И кто знает, чем бы все это кончилось, если бы будущего поэта не приютил детдом, расположенный в том же Тотемском районе, Вологодской области, неподалеку от села Никольского, в котором он родился».
Незлобивый, немстительный, но иногда дерзковатый, он был окружен посильным вниманием друзей, сам берег дружбу, не терял чистого человека, если даже и что-то произойдет – недоразумение, вспышка, не терял. И это я подтверждаю.
Однажды я, Николай Ваганов, поэт из Астрахани, и прозаик Григорий Коновалов, из Саратова, допоздна засиделись в общежитии Литинститута. У Коновалова запретили роман «Истоки», набранный в журнале «Волга», а Николай Ваганов по разным делам задержался в Москве. Засиделись мы в «гостиничной» комнате у Коновалова, куда зашел и Рубцов.
Стихи, привычки, проделки поэтов, трагические их судьбы – все имело место в разговоре. Несколько увлеченный беседой, Николай Рубцов попросил тезку, Николая Ваганова, почитать что-нибудь свое. Тот начал читать. Читал монотонно, но достойно. Стихи – о Волге, о молодости. Но Николай Рубцов нервно вскочил:
– Графоман!
– Что? – растерялся я.
– Графоман!
Я дернул его за плечо. Рубцов быстро встряхнулся, смутился и тихо извинился. Так тихо и нежно, что беседа не нарушилась, не уткнулась в обиду, а потекла еще искреннее и обоюднее, к чему, позже, возвращался Григорий Коновалов:
– Ну и ну!..
Воспитанный на бедности и на доброте, мальчик Рубцов, безусловно, тянулся к совестливой, защитительной нашей классике, и это запало в его поведение, в его нравственную натуру. Кое-кто, смакуя, рассуждает о разных «приключениях» и «выходках» молодого поэта. Но, как я вижу, его «приключения» и «выходки» – излишек доброты, излишек энергии. Вот он собрал все портреты классиков из залов общежития и со «вкусом» разместил их в своей комнате: общается с ними на равных…
Вот он, худой и невысокий, один, дерется в фойе Дома литераторов с девятью милиционерами, катается, мелькает, как хоккейная шайба, сшибает их и считает: «Раз! Два! Три! Четыре! Пять!..» Досчитал до девяти – замер. Милиционеры, красные от восхищения, качают его и на ладонях, бережно, уносят в кутузку… Чушь. Сплетни. Банальная молва о поэте.
Мелкие «спектакли» его – смешны, аккуратны и симпатичны. Как-то, улетая в Челябинск, я отдал ему ключ от комнаты. Мы, слушатели Высших литературных курсов, имели на каждого – отдельную комнату, чем вызывали к себе торжественные претензии юных студентов. Николай Рубцов, не сомневаюсь, «специально» не сдавал экзамены то по тому, то по этому предмету: нужна была ему столица, а как в ней подольше задержаться, где найти крышу, если ни денег, ни богатых родственников?..
Возвращаюсь. Поднимаюсь лифтом на седьмой этаж – в моей комнате песня. Первый голос, низкий, буревой, атаманский – донской поэт Борис Куликов басит. Второй голос, повыше, по-убористее – донской поэт Борис Примеров помогает. Третий голос, неуверенный, но очень дружеский, сипловатый – Николай Рубцов поддерживает:
На переднем Стенька Разин
С молодой сидит княжной.
Свадьбу новую справляет,
Сам веселый и хмельной.
Хор запнулся на рефрене «Грянем», братцы, удалую!.. Княжну утопили…”. Посудачили. Обменялись новостями. Примеров лег отдыхать. Куликов и Рубцов удалились куда-то. Часам к одиннадцати вечера открывает дверь Рубцов:
– Валь, включи свет!..
Поднимаюсь. Включаю:
– Ложись, Коля! Коля серьезно интересуется:
– А кто вон тот, на диване?
Отвечаю, мол, Борис Примеров. Рубцов разобиженно вскрикивает:
– Не лягу спать я рядом с этим пьяницей!
Но раздевается. Ложится. Утром увеличиваем вчерашние «концерты», хохочем, радуемся молодости, простому солнечному дню. Ведь не был же никогда Примеров пьяницей. Не был никогда и Рубцов неуправляемо привередливым среди друзей. А что это? Это – мелкая проделка поэтов. Это то, чем отличаются несерьезные поэты от серьезных чиновников.
Разумеется, поэт Николай Рубцов мог и поколючее покуролесить, уставая от безденежья, от клановости газет и журналов, от «волчьего» круга, по коему гонят у нас молодых литераторов до тех пор, пока они не восстанут или не погибнут. Погиб Дмитрий Блынский. Погиб Николай Анциферов. Погиб Иван Харабаров. Погиб Вячеслав Богданов. Им легче – похоронили. А сколько их спилось, сгасло в кошмарах и нищете?
Смерть Николая Гумилева, Александра Блока, Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Николая Клюева, Павла Васильева, Бориса Корнилова, Дмитрия Кедрина, Павла Шубина, Алексея Недогонова – невыносимость социального мрака, подозрительность и нетерпимость вельмож, необъективность и ревностная жестокость исполнителей гнусных сатраповских приказов и повелеваний.
Нельзя облыжно чернить прошлое, нельзя. Чернить годы подъема? Чернить годы романтики? Чернить поколения, прочные целью и здоровьем? Но что-то нас заставляет содрогаться…
* * *
Десять лет кайливший колымский гранит, Борис Ручьев жалкует:
Я не сомну последний цвет на грядке,
усталых птиц не трону на лугу —
и в белых письмах, ласковых и кратких,
не в первый раз, родимая, солгу.
Я напишу, что жду в делах успеха,
живу пока в достатке и в чести,
что собираюсь к осени приехать,
из города невестку привезти.
Но привез он невестку через двадцать лет – добавили ему еще «червонец» ссылки. Привез невестку к могиле отца и матери… А Варлаам Шаламов ругает Бориса Ручьева: дескать, холуйствовал, верил партии, верил советской власти! А во что и кому верить? Верить смерти?
Больно мне за Бориса Ручьева, больно мне за Варлаама Шаламова: два колымчанина, два узника, а кто из них честнее, судить не нам. Мы – сироты. Наши отцы и учителя лежат под обелисками. Лежат под безымянными холмиками. Лежат под колымским грозным льдом.
Николай Рубцов рано понял трагедию народа, трагедию России, трагедию напополам разорванного времени… И «на том берегу» у него осталось многое: Кольцов, Никитин, Суриков, Дрожжин, не говоря о Некрасове:
Заяц в лес бежал по лугу,
Я из лесу шел домой, —
Бедный заяц с перепугу
Так и сел передо мной!
Так и обмер, бестолковый,
Но, конечно, в тот же миг
Поскакал в лесок сосновый,
Слыша мой веселый крик.
И еще, наверно, долго
С вечной дрожью в тишине
Думал где-нибудь под елкой
О себе и обо мне.
Думал, горестно вздыхая,
Что друзей-то у него
После дедушки Мазая
Не осталось никого.
Николай Рубцов – весь в этом стихотворении: чуть лукавый, озорновито добрый и потрясенно печальный от наших русских свар, небрежения, забывчивого колоссального равнодушия. Но он не обрушивает на человека, на простых людей вину, не топчет их «Батыевым башмаком», как некоторые наши лидеры и литераторы, увешанные золотыми дешевыми значками. Поэт знает – кто правил кровавыми маскарадами…
Сергей Есенин физически предчувствовал разорение России, угнетение ее народов, а Николай Рубцов воочию натолкнулся на разграбленные пашни, на отравленные родники, на кукурузную авантюру Хрущева, на колымских рабов, беззубых и опалых от цинги и недоедания на каторгах. Натолкнулся, выйдя в море и в мир, как все мы, оптимистом:
Подумаешь,
рыба!
Треске
мелюзговой
Язвил я:
– Попалась уже? —
На встречные
злые
Суда без улова
Кричал я:
– Эй, вы!
На барже!
Но кто выиграл? Колымчане – без улова? Мы – на кукурузной вакханалии? Кто? Гадаем…
Николай Рубцов лишился в детстве материнской ласки и отцовской опеки. Это можно было заметить в нем скоро. За его легкими шаловливостями не замолкал крик одинокого самозащищающегося юнца, честного, строптиво-безгрешного. Задирался он куражисто, с ленцой и ворчливо, как ветхий дед.
А ненасытная боль по дому, по матери, по отцу звенела в груди, не давала остынуть чувствам, жгла обидой за сорванные в голодную детдомовскую тьму сказки и веселые праздники. Потому в расставании с близкой женщиной, возвратившей ему утраченный в детстве уют, он терзается, тяжело признается, осознавая:
И в затерянном сером краю
В эту ночь у берестяной зыбки
Ты оплачешь измену мою.
Так зачем же, прищурив ресницы,
У глухого болотного пня
Спелой клюквой, как добрую птицу,
Ты с ладони кормила меня.
Николай Рубцов – опрятный поэт. Как все русские поэты, он стыдливо умалчивает о том, чему нет имени в отношениях мужчины и женщины, нет названия, а есть что-то чудесное, ответственное! Нежность, искренность, природность, абсолютная доверительность, даже молитвенность – наша, русская, в нем, наша, тысячелетняя, национальная, как есть и будет у другого народа, – своя, коренная, определенная, понятная человеку:
В медведя выстрелил лесник.
Могучий зверь к сосне приник.
Застряла дробь в лохматом теле.
Глаза медведя слез полны:
За что его убить хотели?
Медведь не чувствовал вины!
Домой отправился медведь,
Чтоб горько дома пореветь…
Куда раненый медведь отправился, в чащобу, в овраг, в тайгу? Нет. Домой. Опять – «домой», опять – тоска детства, тоска бесприютства, желание материнского родного покоя. Поэты – люди, как бы «простреливающие» прожитые годы каплями крови, красными ливнями памяти, потому они – поэты.
Скучно, обидно, горько было жить в канун и в начале семидесятых. Известный ныне деятель, секретарь ЦК КПСС, член Политбюро ЦК КПСС А. Н. Яковлев, а тогда– идеолог, руководитель вдохновений, буквально растирал нас подошвами своей безжалостной марксистской обуви. Журнал «Молодая гвардия» подвергался с его стороны таким Батыевым набегам – головы наши качались.
Он следил за «Молодой гвардией», следил за нами. Когда я перешел в издательство «Современник», яковлевские нукеры раздували слух: молодогвардейщина в «Современнике»! Слова «русский», «Россия», «русские» подсчитывали по страницам книг в больших парткабинетах большие партаппаратчики, такие матерые, как В. Н. Севрук, А. А. Беляев, М. В. Зимянин. Подсчитывали и выдавали нам, производственникам, олухам слабомарксистским, наотмашь.
Яковлевский марксизм тех времен – китайское дацзыбао: везде обязательно должно сильно веять коммунизмом. Ни молитвы, ни храма, ни кладбища, ни креста – яковлевский гололобый марксизм, и точка! А мы сборником стихотворений Николая Рубцова занялись, неграмотные русские слепцы, тупые русофилы.
Яковлев направлял луч марксизма из ЦК, с башни КПСС, а внизу марксизм подхватывали Севрук и Беляев. Иногда, хватая марксизм, они урчали, рычали, перекатывались на первом этаже партийного здания, рвя друг друга, доказывая друг другу свою преданность линии Ленина, свою озлобленность и умение рвать нас, им подчиненных, с остервенением и неукоснительностью. В такие моменты я напивался: пережду – они утомятся.









































