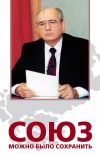Читать книгу "Крест поэта"
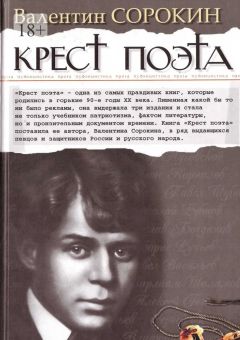
Автор книги: Валентин Сорокин
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
А знания и опыт, приобретенные в цехе и помноженные на знания и опыт духовного лада, безусловно, дают писателю то, что не даст ему ни одна академическая аудитория. Вячеслав Богданов быстро шел к своему призванию, зорким глазом оценивая расстояние, которое он обязан «обжить» вдохновением:
Ржавый берег травою окутан,
Здесь ничьи не остались следы.
Я не знаю,
Он взялся откуда,
Этот камень у черной воды.
Посмотрите, какая чуткая тяга художника выразилась в строфе? Он словно бы готовит себя душою и сердцем к чему-то сильному и тревожному. Имя этому – природа, дарование, красота, совесть. Главное в поэте – способность к музыке жизни, к ветру Родины:
Камыш и тот, заслушавшись, притих,
Звала меня таинственная сила.
А песня глуше,
Глуше каждый миг,
Как молодость,
Все дальше уходила.
И опять – та же тяга, та же оторопь вдохновения. Вячеслав Богданов все ощутимее «прирастал» к синеве и к раздолью не только потому, что он пришел на завод из деревни, но и потому, даже вероятнее всего потому, что, рано познав железный труд, железный огонь, железное дыхание моторов, не мог не припасть на колени перед бессмертным бегом грозы, перед блеском и шумом резвящегося моря.
Все, что создал человек на земле умного, – все на благо земли, а не на ее разрушение. И железо добыл человек – на благо земли. Свой умный труд на поле или в мартене человек посвящает одному – жизни!
Слово,
Слово – дальняя жар-птица!..
На каком искать ее пути?
И с небес к нему не опуститься,
По земле к нему не подойти.
Такое не скажешь запросто. Такое надо сначала завоевать долгими годами, разочарованно протекшими по огненным желобам домен… На труде замешана человеческая воля, на труде восходит и талант человека. Вячеслав Богданов был очень трудолюбив. Прекрасный слесарь. Мастер. Настоящий, без бахвальства и чумазости, рабочий. Ныне – рано ушедший русский поэт… И не надо «эстетно» кривляться: да, настоящий поэт!..
На Урал он приехал, я уже говорил тебе, мой благородный читатель и сотоварищ, из черноземной Тамбовщины. Худой, тихий, застенчивый. Отец его погиб в бою, танкист. Мать – день и ночь на колхозной работе. Встретились мы с ним, как я сообщал ранее, на пороге школы ФЗО №5 в 1953 году в Челябинске. Сразу подружились, похожие на тебя, мой читатель, биографиями, тягой к стихам, к свету…
Пришли в литературное объединение Челябинского металлургического завода. Мы уважительно относились к творчеству Людмилы Константиновны Татьяничевой и Бориса Александровича Ручьева. Постоянно общались с Михаилом Львовым. Гордились своими земляками. Берегли дружбу с Василием Дмитриевичем Федоровым, чье непосредственное влияние на нас хорошо известно.
Нельзя мять слово наманикюренными ногтями. Вячеслав Богданов был верен призванию, верен его истокам. Он отлично понимал: призвание – серьезное и значительное страдание, необходимость мудреть и лепить в себе личность.
Его стихи стремительно оттачивались, особенно – после учебы в Москве на Высших литературных курсах. Появился новый Богданов: чуточку злой, иронично настроенный к самому себе, к тому лирику, о котором братски писали многотиражные критики…
Не пресловутую рабочесть, а рабочее достоинство и негодование хотел выразить Вячеслав Богданов, не псевдооптимизм, а память и пред начертание:
Я так давно не слышал соловья,
Мной эта птица издавна любима.
Как никогда,
Теперь необходимо
Мне навестить родимые края,
Я так давно не слышал соловья.
Вячеслав Богданов жестко понимал, что быть поэтом – дело чрезвычайно нелегкое. И журчащий родничок, и журавлиный клик, и летящее рукотворное зарево – все, все должно войти в углубленную душу. Только бескомпромиссная память, только бескомпромиссное предначертание поэта смогли подсказать ему такое:
Расцвела агава в южном парке,
Цвет фантаном заструился ярким.
Тридцать лет всего живет агава
И цвести лишь раз имеет право.
Только раз —
Цвести высоким цветом,
Увядая навсегда при этом.
Как ее возвысила планета —
Умереть от собственного цвета!
Слава был действительно единолюбом. А любил он заплетенокосую Тамару. Женился на ней. Из отчей тамбовской земли привез ее в Челябинск. Нежно лелеял ее в мечтах еще со школьной скамьи. Но по причинам нищеты русской и невыносимого быта русского семья распалась. Оба они горько пережили расставание. Оба остались бездетными в дальнейшем…
Как-то мы выпили. Пошумели. А утром Слава прочитал мне:
Ветерочек, резвый, резвый,
Пыль сбивает на ходу,
Я с гулянки, трезвый, трезвый,
Милку пьяную веду.
Вячеслав подтрунивал над поэтом Николаем Валяевым, крепышом малорослым, хотя сам он не выделялся крупностью:
Мы все идем по жизни, не виляя,
И я надеюсь, убедились вы, —
Когда в такси заходит Н. Валяев,
То не склоняет гордой головы…
Никто из нас не обижался. Шутки и остроты, пародии и эпиграммы принимались радостно. Да и не начиняли мы наши «послания» злыми ядами, нет, мы радовались встречам и стихам.
* * *
Но все мы оказались в пустыне Гоби, увы: едешь, едешь – жара и жара. Губы потрескались, душа иссохла, а сердце стучит и тоскует по серебристому русскому туману, опахивающему тебя изморозной свежестью, уроненной на землю синей, синей русской ночью, но где этот воскрешающий нас, погибающих, туман?..
Песок и песок. Барханы и барханы. Скалы, распростертые, как подожженные распятия, над рыжим шумящим океаном, сурово двинутым на азиатский континент. Вот чудится тебе родничок, дымящийся по травам росою, но кинулся к нему – прах умершей влаги на зное ветра. Вот чудится тебе озерцо, зеркально мерцающее в темную даль каменных крепей, а наклонился к нему – алмазные брызги солнца, прожигающие тебя до горла, жалящие и шипящие, как гадюки.,
И вот, развертываясь перед тобою и плеща волнами в скорбное небо, возбужденно заиграло и побежало, побежало к недостижимому горизонту море. Приближаемся, приближаемся, а море лукавит и лукавит: течет от нас, торопится, покидает нас, воя и застилая путь нам колючим, шуршащим песком и песком!..
Где же коммунизм наш? Где же Маркс наш? Где же наш Владимир Ильич Ленин? Где Сталин, генералиссимус? Неужели перед неистовыми пророками и мудрецами русскими, Саровским и Бердяевым, Достоевским и Розановым, Ильиным и Леонтьевым, резвящиеся миражи морей плыли?..
ГРИШКА-БАНДИТ
Под Кабулом уткнулся в песок
Русский парень, а маршал награду
Прицепляет на вялый сосок,
Есть четыре и пятую надо.
Пятизвездный герой на Руси,
Коронованный брат богдыхана,
Проклят всеми, кого ни спроси,
Отвернутся и плюнут погано.
Наконец-то родная земля
Увела его, мрачного бонзу,
И теперь он сидит у Кремля,
Облицованный в мрамор и бронзу.
Туполобый генсек и султан,
Впрямь сумевший лишь тем отличиться:
Измордованный Афганистан
Нашей кровью сегодня сочится.
В Каракумах и в Гоби холмы,
Как могильные – тяжки для взора.
Ну когда ж образумимся мы
И себя оградим от позора?
Не Христа предлагаю распять,
Иль на дверь указать фавориту, —
Неужель нам сгодится опять
Этот памятник Гришке-бандиту?
Брежневу, маршалу и генсеку, сверкать мраморным бессмертием у ворот Спасской башни величавого Кремля, а не полководцу, Георгию Константиновичу Жукову, и не солдату, Александру Матросову, даже не юной партизанке, Зое Космодемьянской, святой красавице, родить не успевшей ребенка для милой России нашей. Зоя распята. И Россия распята. И мы распяты. И сквозь раскаленные миражи пустыни глядит Иисус Христос на нас, иудами распятый…
Возвращался на Урал Слава Богданов трагично. Красный гроб, обшитый черным крепом, погрузили в реактивный лайнер. Во Внуковском аэропорту простился я с другом. Самолет вырулил на бетонную полосу, а я выскочил на автомобиле на окружную дорогу.
Едва приткнулся к барьеру – пронесся реактивный лайнер, ввинчиваясь в настороженную гладь. Заискрились и нервно затрепетали молнии. Дождь хлынул, теплый, струнный. И не мираж в пустыне, а здесь, в центре зеленой России, крест в тучах прорезался, инеем сизым обсыпанный, реактивный серебристый крест распластался в зените Вселенной… А за холмами и рощами гром прокатился, рыдая, и в туман серебристый канул.
Ну выпил в ЦДЛ Слава. Ну лег в комнате общежития Литературного института. Возможно – образы Рахиль Моисеевны или Абрама Ильича Боричко смутили его?.. Или мать на Тамбовщине всплакнула?.. Отец ли, танкист, из пепла показался?.. Тамара ли неслышным прикосновением рубашку распахнула ему, грубому?.. Не проснулся. А со мной попрощался раньше, чем я с ним:
ЖЕЛАНИЕ
В. Сорокину
За какими делами захватит
Час последний в дороге меня?
Я б хотел умереть на закате
На руках догоревшего дня.
Я с рожденья не верю в беспечность.
И за это под шум деревень
Впереди будет – тихая вечность,
Позади – голубеющий день…
Вам на память оставлю заботы,
Я не шел от забот стороной.
И покой на земле заработал —
День последний остался за мной!
И за мной – отшумевшие травы,
И железных цехов голоса…
А во мне эту вечную славу
Приютили душа и глаза.
Приютили, взрастили, согрели
Всем, чем мы и горды и сильны…
И вплели в полуночные трели
Соловьиной сквозной тишины.
По дорогам неторенным,
Тряским
Из-под рук моих песня и труд
Далеко уходили,
Как сказки,
И, как сказки, со мною уйдут!..
Прижизненная последняя книга Вячеслава Богданова «Избранная лирика», выпущенная в Челябинске в 1975 году, заканчивалась мне посвященным стихотворением: Слава предчувствовал смерть… И поставил стихотворение в завершение книги – попрощался.
Но русские поэты умирают не от водки – от горя: трезвость их угнетает пережитым ими, их отцами, их дедами, а водка, болезненно капнувшая поэту на сердце, отяжеляет думу его. Чугунная дума пережитого – ну, кто ее в доброте растворит?
Въехали в запломбированных вагонах к нам чужие, с револьвером на боку вломились в семью русских, в церковь русскую, расстреливая и казня. Чужие – копытнохвостатые… Приглядись к их физиономиям и мысленно рожки над их ушами подрисуй – высокоорганизованные дьяволы!
Сгоняли, мобилизовали нас, побежденных и сломленных, в соседние и в родственные, в межгосударственные и межведомственные конфликты и в свои глобальные коллективизации на оккупированных русских просторах.
Чужая задача. Чужая цель. Чужие руководители. Чужие судьи. Чужие надзиратели. И зарастает Россия бурьяном, полынью и обелисками. Китайцы по русским границам шарят, а в Москве торгаши смуглые на прицел нас берут, как юные хищноклювые троцкисты брали нас на прицел в гимназиях и университетах, на борозде и у станка, в шахте и в храме.
Мы, русские, страдаем бессонницей от крови, пролитой среди нас чужими и своими палачами. Чужие палачи без наших палачей – временные, а вместе с нашими, русскими, – бесконечные… И прежде чем плюнуть в кровавую чахоточную физиономию троцкистскому хищноклювому палачу – плюнь в ражистую магарычную рожу палачу русскому, и тем, брат мой русский, укрепись в борьбе за нашу Россию.
Русская бессонница – слезы прозрения:
МОЙ ДЕД
Памяти Арсения Александровича Сорокина
Не пьяный бред и не возмездья случай:
От давнего до нынешнего дня
Мой дед, ни в чем не виноватый, мучит
Ни в чем не виноватого меня.
Он вроде б мирно говорит мне в полночь:
«Насильственной-то смерти не приму!..»
Кого винить?
Устраивала сволочь
В тех временах кровавицу и тьму.
Над площадью тяжелым флагом флотским
Отхлопал Питер: тишь и благодать.
И заползал под псевдонимы Троцкий, —
Так легче нас крушить и убирать!
Шагала смерть по всей Руси великой,
И стон стоял, и детский плач летел.
А дед мой в простоте открытоликой
Пахать и сеять заново хотел.
Но вызван был… И не вернулся…
Бойко
Весна шумела, хмурился Урал.
Сыра земля взяла его – не койка,
Ведь пулю враг недолго выбирал.
Коль доживу, на праздники большие
Я к вам приду,
а если грянет срок,
Пускай меня застрелят не чужие,
А русские надавят на курок.
Когда сверкнет мое над Русью имя
И зазвенят, ликуя, соловьи,
Я буду знать, что я убит своими,
В своем краю, за муки за свои!..
Не надо, не надо крови: ты, козьекопытный и козьебородый бес, фанатик, чужой и расстрельный палач, остепенись – прощения у нас ты не вымолишь, и ты, единокровный мой негодяй русский, перестань травить, унижать и терзать меня, русского поэта, и нас, нас, витязей русских, идущих на каторгу и на погибель за русскую честь и свободу!
1991—1995
ПРОЩАНИЕ С МИФАМИ
Сергей Есенин искал уюта, покоя просила его душа. Но судьба не пошла на уступки поэту: добиваясь внимания Сергея Есенина, женщины, на радостях от достигнутых целей, забывали, не успевая запомнить, давнюю боль Есенина – тоску по светлому образу матери, желание ласковой тишины, уголка верности и вдохновения. Еще я повторюсь, и еще повторюсь, читатель, повторение – пересказ, тебе посвященный. Повторение – молю Бога стряхнуть с нас, русских, оцепенение.
Не пошла судьба на уступки. Она выстелила перед ним, развернула грустную стезю, словно подтолкнула юного Сергея Есенина «получить» личные драмы своей матери: правда, в роду, даже в многодетной семье, кто-то обязательно повторит кого-то собою, удачами или невезениями, счастьем или бедою. Сергей Есенин – повторил мать. Горе любви ее повторил. И ты не хуже меня знаешь это, читатель, не хуже меня знаешь и горе ее мужа. Оба – царапнуты коварством.
У матери поэта было четырнадцать детей. В живых осталось четверо. Первый ее сын – до Сергея рожденный. Не от отца Сергея. От любимого ею человека. Зачатый до замужества, первенец этот вскоре умер. За свадьбой родителей Сергея Есенина следом… Обстоятельства его смерти обычны и мало известны. При рождении первенца родственники обеих сторон взметнули бурю. Мать и отец Сергея Есенина обожглись пламенем бури, Татьяна Федоровна вынуждена была уйти из семьи, но вернулась, не поборов мешающих ей обстоятельств, навалившихся на нее за решение – развестись. Графиня, фрейлина – разводись, а крестьянка? Крестьянка – ссугобленная рябина.
Второй раз она ушла из семьи после рождения Сергея. Жизнь личная складывалась у нее несладко, а характер ее не потакал ей падать перед невзгодами: прямая стать и красота не советовали ей унизиться и смириться, покорной року сделаться… Устроилась кормилицей в Рязани, в детприюте. И воскресла – влюбилась. И родила Сашу Разгуляева, братика маленькому Сереже. И снова потребовала развода. Распрямилась.
На одной руке в земском суде мать держала Сережу, а на другой держала Сашу, настаивая на законном разводе. Но развода ей не дали. Устроив на воспитание Сашу подруге, она вернулась в свой дом. Когда подруга увозила крохотного Сашу по зимней лунной дороге, мать настигла в степи знакомые дровни. Кормилицу, подругу, догнала мать братика Сергея, раздетая и босая. Я нарочно повторяю ранее сказанное. Закрепляю за собою читателя, и заново туда уношусь…
В зимней серебристой ночи настигла сани, рванула вожжи, загородила путь и, плача, начала рвать на себе волосы. Кровь потекла по лбу. Залила глаза, щеки, волосы, рот. Мать Сергея Есенина клялась не забыть и не бросить Сашу!.. Она виноватилась перед кормилицей, подругой надежной, одинокой русской женщиной, виноватилась перед луною, умной и проницательной, виноватилась перед Богом, в снежном тумане витающем, а главное – виноватилась перед собою. Такие клятвенные раскаяния и трагические душеугрызения можно и сегодня найти, встретить у нас на Урале или в Сибири.
Клятва на крови, исполненная поэтом при прощании с друзьями, есть клятва наших предков, а не элементарный прием, проповедуемый в статьях о Сергее Есенине столичной дамой. Смешно: взрезал бритвочкой кожу на боку – и посвятил стихи грузину или русскому, татарину или еврею. Дескать, Эрлиху посвятил, написал их кровью, дескать, часто поэты прибегали к подобному способу свидетельства дружбы и верности. Наивно это. Это – выше лирической традиции. Это – древнее, это – бессмертное. Речь идет о стихотворении «До свиданья, друг мой, до свиданья…».
Отпускать свою русскую волю далеко-далеко от себя, как песню дерзкую, как ветер буйный, как сокола сизого, как свет родимый, посылать ее, волю, возвращать ее, удивляться ей, гордиться ею и радоваться ей – вот что взял у матери Сергей Есенин, совесть ее, крылатую и неодолимую, принял в наследство поэт, красоту и небо синее, ей, русской песне, подаренное жизнью и Богом. Не спешите качать головою, не соглашаясь: та воля и вас хранит!..
Сергея Есенина арестовывали и допрашивали, под протоколы, одиннадцать раз. И побег его в больницу – побег ради того, чтобы опомниться, успокоиться и обдумать дальнейшее. Есенин не был ни алкоголиком, ни белогорячником, ни больным. Есенин был абсолютно здоровым человеком, высокоорганизованным и сильным, поэтом своего народа, сберегающим себя во имя великой, осмысленной миссии, призвания огненного:
Сестра! Сестра!
Друзей так в жизни мало!
Как и на всех,
На мне лежит печать…
Из больницы Сергей Есенин бежал в Ленинград и погиб там 28 декабря 1925 года. Усталый, разгневанный и до тоски разочарованный судьбою, Сергей Есенин перед побегом зашел к первой своей жене, Анне Изрядновой. Сжег тайные рукописи. Попрощался с Юрой, сыном Георгием, попрощался и с женою. Чуть покаялся. Вздохнул.
Словно Изряднова-то и была у него единственной настоящей женою: ведь Дункан плясала, Райх распивала из совместной чарки новое семейное счастье с Мейерхольдом, Бениславская творила свободную биографию женщины. Вольпин собиралась родить, Толстая затягивала над ним поводья. Исключая Анну Изряднову, все эти женщины, не получившиеся жены поэта – Зинаида Райх, Айседора Дункан, Галина Бениславская, Надежда Вольпин, Софья Толстая, – все – талантливы, Вольпин даже прилежно учила Есенина ассоциативной рифме и честно удивлялась, что Есенин не учитывает ее колоссальный опыт.
Зинаида Райх грозилась лишить Есенина отцовства, по праву требовала денег на двух детей, а Надежда Вольпин объявила Есенину об ожидаемом ею от него ребенке. Галина Бениславская тосковала о Сергее Есенине, заедая тоску поцелуями свежего мужчины. А Софья Толстая исповедовалась в письме в Ленинград Марии Шкапской, как она на собственных дворянских коленях поменяла голову Бориса Пильняка на голову Сергея Есенина. Дункан затеяла воспоминания о поэте. И лишь Изряднова молчала. Любила Есенина и знала – кто он… Те же – петля – я, прости меня, читатель мудрый.
В Сергее Есенине, напоминаю, кричало желание найти уют, семью, тихий уголок света женской души. И он, упрямый и верный, искал этот уголок, оставляя окололитературных дам, вырываясь из их деревянных ладоней, пахнущих вечно холодными котлетами и синими покойничьими чернилами. Какой молодец, ничто его не останавливало! И напрочь от Софьи Толстой успел уйти. Все его уходы от всех женщин – один уход от одной женщины. Лишь от Изрядновой Анны он, поэт, не ушел – прощаться пришел пред смертью.
Конечно, грешно нам вести речь, осуждая женщин, выбранных великим поэтом, потому мы их и не осуждаем, а подтверждаем – какой молодец Сергей Есенин, так и не примирился с их погребальным сине-чернильным бескровным воображением и бытом: искал устойчивой нравственности и материнского взгляда на себя, на мир, на уголок света, потерянный ими в изменах, обменах и небескорыстных прилипаниях к нему. Напомаженные присоски.
Перед смертью дом Есениных в Константинове сгорел. Сестрам нужны деньги. Родителям деньги нужны. Женам – деньги. Господи, и над самим Сергеем Есениным суд надвигается: антисемит, хулиган, забулдыга и к советской действительности весьма неровно относится. Михаил Иванович Калинин при встрече с поэтом пообещал ему квартиру, а Каменев отказал.
Вот и рассказывал Рюрик Ивнев: «Сережа уезжал в Ленинград в тяжелом состоянии, мрачный, драчливо издерганный. Быстро у Толстой собрал вещи, быстро вышел, а сестра Шура с балкона кричит: «Прощай, брат!.. Брат, прощай!..»
* * *
Сегодня пишут: «Американская разведка подослала Айседору Дункан обворожить и увезти Есенина, гениального поэта, из России. Странно. Сейчас многие поэты добровольно, без обвораживания красавиц, бегут: Гангнус-Евтушенко, Коротич, Бродский, Губерман… Бегут за границу? И тогда бежали. Но почему же Есенина команда дана увезти? Да и являлся ли он в то время фигурой для «увезти»? И разве у старинного американского ЦРУ имелись лишь сорокалетние пьяные красавицы, а помоложе приобрести красавиц для ЦРУ не хватило у США капитала? В России же – выдры. Кого увезут?
Далее пишут: «Бениславская служила у Ягоды, и у Троцкого она была, можно сказать, „прикомандирована“ к поэту, как были „прикомандированы“ и некоторые друзья Есенина, например – Эрлих».
Но эти размышления смешны. Американская разведка не давала поручения Дункан увезти Есенина. Галина Бениславская и Эрлих не «служили» по заданиям ЧК вокруг Есенина. Фотография же Эрлиха в форме офицера ЧК – не в форме офицера ЧК, а в обычной военной мешанине. И форма – не доказательство.
Устинов, литератор, из секретариата Льва Троцкого, муж Устиновой, вечером 27 декабря чаевничавший у Есенина в номере «Англетера», утром 28 декабря в том же номере гостиницы осматривал труп Есенина.
Из петли Сергея Есенина снимал врач Казимир Маркович Дубровский, заметивший беспорядочно раскиданные вещи в номере «Англетера», но замкнувшийся… Отсидев двадцать лет по клевете, он, как недавно сообщила его дочь в письме Эдуарду Хлысталову, печально говорил: «Я сидел не за то, что я знаю о смерти Есенина, сидел я за другое, но сидеть еще и за смерть Есенина я не хочу!..» То есть предположения своего о насильственной смерти поэта Казимир Дубровский страшился: время его пугало, как пугало оно наших дедов и отцов.
Фотограф Нопельбаум и его юный сын помогали Дубровскому снимать поэта из петли. Сын Нопельбаума оставил точные описания впечатлений, оставил подробный образ мертвого поэта. Но, видно, когда читаешь, мозг его не «сверлила» мысль о насильственной смерти Есенина, хотя описания очень реальны и детализированы.
После, в компании, через время, Устинов вольно поведал о смерти Есенина и вскоре был сам найден мертвым.
Погибла Дункан. Погибла Бениславская. Погибла Райх. Погиб Мейерхольд. Дункан, есть якобы публикации за рубежом, раздобыла санкцию коммунистического правительства на умыкание тела Сергея Есенина из России и успешно осуществила скрытный порыв.
Настаивать на том, что провокатор Блюмкин крутился, жался, вился и реял около Есенина с умыслом подсадить его, рано или поздно подтолкнуть поближе к смерти – вялый исследовательский подвиг. И у провокаторов случаются привязанности к иному человеку, тем более – Есенин, не ординарный человек, а великий, и кто-кто, а провокатор Блюмкин учуял бы сей предмет…
Я не ограждаю, не защищаю, не отмываю Блюмкина. Но моя основная идея: Есенин не хуже нас разбирался в людях, действующих около него или же с ним рядом – тем паче. Могли или не могли «интернационалисты», ненавистники русского народа, уничтожители русского крестьянства, «планировать» в Есенине «опасную осечку» для себя? Могли. Но им, занявшим по-мышиному Кремль, русскую святыню, не за чем было снаряжать десятки убийц, комплектовать вагон и гнать из Москвы в Ленинград на гостиницу «Англетер» порешать Есенина.
Да еще и врача Гиляровского направлять в гостиницу вместе с палачами. В Ленинграде нашелся бы врач, раскромсал бы морговое тело поэта? «А, – возражают, – Гиляровский тело Фрунзе резал, имеет навык упаковывать преступление в „нормальные“ акты!..» Нет, друзья мои, известного негодяя среди негодяев стараются на громких кровавых скандалах использовать реже или же тише, а здесь? Есенин. Здесь – трагичнее Фрунзе, глобальнее Фрунзе: командармы и маршалы умирают, а гениальные поэты поднимаются к родному народу… И не упрекнет ли нас покойный Гиляровский?
Если Гиляровского «прикомандировали к палаческиму вагону» – показали глупость и чекисты, и троцкисты, и бред-интернационалисты. Кроме «Англетера», убрать поэта с пути имелось много мест: Америка, Франция, Германия, Грузия. Узбекистан, Персия – ой, сколько троп, где оборвалась доля и судьба бессмертных! Сколько душегубок в Бутырках, Лубянках, Лефортовых, Соловках, Турухансках, Магаданах, Певеках? Акулья пасть душегубок острожной проволокой не замотана.
Кто из «профессиональных» палачей застеснялся, устыдился, испугался молвы, огласки, кто? Щелкали затворы и курки до Есенина и при Есенине, щелкали они и после Есенина. Так? Щелкали они перед вагоном, в вагоне и за вагоном.
Про себя, не нажимая на «открытие», я размышляю: «Великие поэты наивными в крупных вопросах не были. Есенин, ощущая над собой „кровавый ком“, предпринимал обратные ходы. Абсолютно сознательно, как от электрического тока, он пытался заизолировать себя от палачей палачами– типа Блюмкина и кое-кого еще»… Подобные «ходы» я заметил, читая «Дело» Павла Васильева, младшего после Есенина казненного великого поэта. Заметил, и опять – к Есенину… Почему бы нам не заметить? О, за Христом на распятие – поэты русские! Кто с ними посоперничает в смерти?
Но мы прем напропалую: «Поселили в „Англетере“ и утюгом проломили висок, а потом, убитого, подвесили, ритуально „удушили“, как 3 – 4 октября 1993 года бейтаровцы, израильские снайперы, уничтожали свинцовыми пулями с московских крыш безвинных демонстрантов, милиционеров, солдат. Мертвые, сраженные пулями, падали, а живые набрасывались друг на друга, обвиняя и проклиная!..»
Уничтожить одного, даже великого, человека не надо вагонов с палачами, не надо верховных вмешательств. Бейтаровцев, сообщает газета «Завтра», приезжало из Израиля полтора десятка, но натворили они за тысячи и тысячи мародеров.
Появясь на Божий свет среди чужого народа и живя среди него, некоторые «мирные бейтаровцы» охмуряют наших «русских» лидеров, путаются у них под ногами, сюсюкают перед их трибунами, копотят чертовыми копытцами у трона – пока не угробят или не дискредитируют любимца. Рухнувший манекен – Брежнев. Протухающее чучело – Горбачев.
Вспомните умершего Алеся Адамовича: Господи, как он мел хвостом перед Горбачевым, как он заливался медовопатоковым визгом перед Ельциным, как он, подпрыгивая, прианцовывал на русских красно-коричневых костях демонстрантов, на костях инвалидов и старух, обманутых и оболганных сионистской прессой, захватившей русские «точки» боли. Гурман.
Могли убить Есенина? Могли. Повесить великого поэта могли? Могли. А могли Есенина ритуально унизить, казня русского гения? Могли. Но и заставить недремной травлей, вражьей клеветою, устрашительными судами, грядущими расстрельными приговорами, очевидной беззащитностью у себя, дома, заставить влезть в петлю – разве менее жестоко? Более ужасно. Ведь Сергей Есенин был весь впереди: тридцатилетний, сильный, собранный, умный, талантливый, красивый!
И – драка, если таковая случилась в номере гостиницы, не унесла жизнь поэта, и оскорбление, если оно ужалило поэта, не унесло судьбы гения, – Есенин перевидел, пережил, перешагнул не такие драки, не такие оскорбления: народ на его русских глазах истребляли, Россию, милую его сердцу, хоронили!
Наших пашен суровых житель
Не найдет, где прикрыть головы.
Мать Сергея Есенина, Татьяна Федоровна, Таня, молодая и свободолюбивая, боролась за свое счастье, за любовь и верность свою, а что ей досталось от счастья? Что ей досталось от красоты и свободы? Что ей досталось от верности и надежды? Сергей Есенин отлично знал, он наизусть выучил горе матери, ее девичество и ее замужество. Он повторил попытку матери – бросок, рывок окрыленного сердца за личной долей, за неумирающим голосом врачующего света. Читатель, не забыл?..
Хороша была Танюша, краше не было в селе,
Красной рюшкою по белу сарафан на подоле.
…… … ……… … … … … … … … … ……
Вышел парень, поклонился кучерявой головой:
«Ты прощай ли, моя радость, я женюся на другой».
…… … …… … … … … … … … … … ……
Не заутренние звоны, а вечерний переклик,
Скачет свадьба на телегах, верховые прячут лик.
Ища покоя, желая уюта, веря в единственный образ женщины, кланяясь терпению и ласке ее, Есенин наткнулся, напоролся, ударился душою о лукавство, обман и разорение, измену и подвох. Трагедия личная и трагедия его страны спрессовались и окаменели в сердце поэта. Тяжесть невыносимая. «Верховые прячут лик…”. Стыдно. Убили кистенем грубости любовь, кастетом палачества убили нежность:
Не кукушки загрустили – плачетТанина родня,
На виске у Тани рана от лихого кистеня.
Алым венчиком кровинки запеклися на челе —
Хороша была Танюша, краше не было в селе.
Верховым стыдно. А нам, «сегодняшним верховым», не стыдно за гибель патриотов – Владимира Бегуна и Юрия Иванова, Евгения Евсеева и Константина Осташвили-Смирнова, Игоря Талькова и Юрия Липатникова? Ненависти к нам, русским патриотам, у «бейтаровцев», у предателей не убавилось: ненависть их к нам – тяга к истреблению нас.
* * *
Сергей Есенин, я думаю, запомнил рассказ матери о своей недоле: как ей пришлось бежать за санями, увозящими Сашеньку по зимней ночной дороге, клятву ее запомнил – крик о сынишке. Проклятие ее запомнил – проклятие участи материнской. Запомнил он и окровавленное лицо с распущенными волосами!
На раздробленной ноге приковыляла,
У норы свернулася в кольцо.
Тонкой прошвой кровь отмежевала
На снегу дремучее лицо.
Это – лисица? Раненная охотником? А корова, потерявшая теленка, «удачливей» раненой лисицы? Друг мой, читатель мой, давай-ка разберемся:
Думает грустную думу
О белоногом телке.
Не дали матери сына,
Первая радость не впрок.
И на колу под осиной
Шкуру трепал ветерок.
О телке ли? И Максим Горький прослезился, слушая Есенина, стихи его о собаке, – хозяин щенят у нее отнял и потопил:
До вечера она их ласкала.
Причесывая языком,
И струился сиежок подталый
Под теплым ее животом.
А вечером, когда куры
Обсиживают шесток,
Вышел хозяин хмурый,
Семерых всех поклал в мешок.
По сугробам она бежала,
Поспевая за ним бежать…
И так долго, долго дрожала
Воды незамерзшей гладь.
Татьяна Федоровна, мать поэта, Танюша-гармонистка, Таня – дочь поэта: случайно? Никогда не соглашусь. Путь матери и путь ее сына, Сергея Есенина, путь величайшего русского поэта, не отдалился от материнского, а лег по великой русской равнине, равнине печали и трагедии, рядом, рядом лег, через кровь и клятву.
Не каждому дано дотерпеть до тех минут, когда тебя выведут или выволокут, или вынесут перед сытым судьею, палачом русского народа, убийцей твоей России, не каждому. Многие недотерпели, и еще недотерпят многие. Пора и об этом призадуматься нам, русским, на «пустяке» отчуждающимся от сестры и брата. Говорю, выстрадав, перед подлейшими наветами, не канув, говорю, как рыдаю:
Безумный пир, кошмарный сон,
А жизнь есть песня похорон…
Мы, русские, растеряли качества, давшие нам победу на Куликовом поле, над Берлином. Защищать Родину разучились, себя защищать и друга защищать разучились. Ждем нового Дмитрия Донского, нового Георгия Жукова? Но где Матросовы?