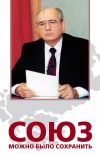Читать книгу "Крест поэта"
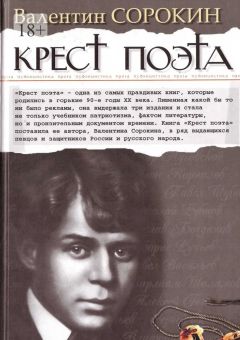
Автор книги: Валентин Сорокин
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Не так давно я внимательно прочитал довольно солидный том произведений Иосифа Бродского, изданный на западе. Удивительно: как все-таки иные наши газеты перевирали поэта! В стихах Иосифа Бродского нет прямой враждебности к «строю», нет «политики», банальной антисоветчины. Есть обычная чуж-досторонняя наблюдательность человека, много читающего, много думающего о себе, о жизни, о странах, где он временно останавливался, о народах, среди которых он временно находил приют.
Есть в творчестве Бродского некая туристская поспешность: сегодня интересуюсь этой зоной, а завтра переберусь в другую. Нет озабоченности о крае, о том, что кормит, поит, делает самобытным!..
* * *
Как-то я рассказал в журнале «Советский воин» о стихах, где автор, Бродский, сообщает про «интимно проведенную им» ночь с Пушкиной Натали во сне… Мне возразили: мол, кто-то «За Бродскую» подсунул тебе подобные стихи. Может быть. Но за Есенина есенинские стихи никто не подсунет. Да и за Павла Васильева тоже. Беда стихов Иосифа Бродского в том, что они похожи на отполированные кости. Есть фигуры из этих костей. Есть эротические ребусы. Есть хаотические изыскания. Есть почти «афористические» выводы. Но – кости. Сухие. Древние. Хранящие в себе мертвое состояние. Бескровная неподвижность. Песок. Камень. Слюда.
А когда слово – не слово, а археологическое вещество, тогда и любой замысел, пусть и очень новый, не способен обрести новую форму, новую страсть, новый ритм, новый облик, соответствующий духу языка, духу народа, облику народа. И все-таки до сих пор не могу смириться: Родина – прошлое! Слово – прошлое! Язык – прошлое! Прав, судя по его стихам, Иосиф Бродский, прав, именно так он и относится к России, умеренно-корыстный «дома» и в чужой обстановке:
Пленное красное дерево частной квартиры в Риме.
Под потолком – пыльный хрустальный остров.
Жалюзи в час заката подобны рыбе,
перепутавшей чешую и остов.
Далее – не менее оригинально, но мертво:
Месяц замерших маятников (в августе расторопна
только муха в гортани высохшего графина).
Цифры на циферблатах скрещиваются, подобно
прожекторам ПВО в поисках серафима.
Месяц опущенных штор и зачехленных стульев,
плотного двойника в зеркале над комодом,
пчел, позабывших расположенье ульев
и улетевших к морю покрыться медом.
Хлопочи же, струя, над белоснежной, дряблой
мышцей, играй куделью седых подпалин.
Для бездомного торса и праздных граблей
ничего нет ближе, чем вид развалин.
Да и они в ломаном «р» еврея:
узнаю себя тоже; только слюнным раствором
и укрепляешь осколки, покамест Время
варварским взглядом обводит форум.
Далее – опять не менее оригинально, но мертво:
Лесбия, Юлия, Цинтия, Ливия, Миткелина.
Бюст, причинное место, бедра, колечки ворса.
Обожженная небом, мягкая в пальцах глина —
плоть, принявшая вечность как анонимность торса.
Не будем останавливаться на созвучиях типа «какано», есть еще «точнее»: «И как книга, раскрытая сразу на всех страницах», «как-кни», не будем, их в одном стихотворении более чем достаточно. Но и вся книга, да и все разбираемое мною стихотворение – мертвые кости. А это стихотворение – лучшее у Бродского, и строки, приводимые здесь, – не худшие в нем…
Я не уличаю, не критикую Бродского, не считаю его стихи плохими, ненужными, бесталанными. Они – чужие. На русском языке сделанные. Смонтированные расчетливым инженером.
Слово для Иосифа Бродского – материал, найденный в слоях, в породах чуждой цивилизации, чужой культуры, дающей ему возможность твердо напомнить о себе, – мертвым для него словарем, языком. Если бы Иосиф Бродский творил на своем родном языке, он, вероятно, стал бы настоящим поэтом, зорким, обобщающим и живым, и не возникало бы самонадеянной причины у него, еврея, давать зарубежным изданиям и радиостанциям интервью от имени русского.
В них поэт поведал нам, живущим дома, в России: мол, эта страна – голодный слон. Она не знает, куда ей двинуться. А голод мучит. Пойдет назад – там уже побывали слоны и все, что можно съесть, съели, а остальное – вытоптали. Посмотрит вокруг – съедено и вытоптано. Пойдет вперед – там тоже побывали слоны… Эта страна-слон, по мнению Иосифа Бродского, должна взбеситься и накуролесить.
Разве могла Марина Цветаева с таким мертвецким равнодушием говорить об измученной России? А Есенин, и разве бы он так хоронил Россию? Но не надо нам хвататься за фразы, брошенные поэтом, хотя Иосиф Бродский долбит такое в уши планете, нам в уши. Долбит – как бы со стороны, не печалясь, не плача, не гневаясь. И он по-своему прав. Посторонний.
Пресмыкание же иных наших мелкотравчатых «вздоховедов» перед именем Иосифа Бродского, пресмыкание их перед Нобелевской премией – мышиная вакханалия на ниве отечественной литературной бесхозяйственности, где разбросаны не просто золотые зерна, а вороха золотых урожаев. На родине Павла Васильева, Николая Гумилева, Николая Клюева – ни музеев, ни усадеб, ни даже мемориальных досок, ничего нет. Равнодушие? Расчетливое забвение?
Александр Твардовский не получал Нобелевскую премию, но – автор «Василия Теркина», а Сергей Есенин?..
Неужели достаточно сбежать – очутиться талантливым? Читая стихи Галича, я испытываю все то же ощущение: человек со стороны. С чужим для него языком, с личной драмой в чужом народе. Он доказывает, что мыкался у нас, холодал, голодал, безвинно овиноватенный, непризнанный, и, видимо, острее, чем Иосиф Бродский, униженный. «Двадцать лет творчество Александра Аркадьевича Галича, да и само его имя находилось под запретом. 12 мая этого года Союз кинематографистов СССР восстановил А. Галича в правах, подчеркнув, что «это восстановление справедливости». Спустя два месяца и Союз писателей последовал доброму примеру, – давала аннотацию к подборке стихов Галича «Литературная Россия» в 1988 году.
В интервью радиостанции «Свобода» Бродский на вопрос, как оценивает он роман Рыбакова «Дети Арбата», изрек: «Макулатура!» Александр Галич не дожил до счастья оценивать нынешние бестселлеры, но песни его еще и сейчас кое-где популярны. Не в народе, в народе они никогда не были и никогда не будут популярны. Их, эти песни, возили в магнитофонах, в такси, в поездах, в самолетах заблатненные хмыри, интеллектуальные бездельники, умные алкаши, воспитанные ненавистники нормального образа жизни. Но человек, уважающий свою национальную поэзию, не возит песен Галича, не носит их за пазухой.
Был ли Галич запрещен? Нет. Его песнями забазарили, «проспиртовали» все вокзалы, пристани, аэродромы еще тогда, когда их автор жил в Москве, собираясь (или не собираясь еще) отчалить за границу. Кому же надо было замыкать песни Галича на «запрещенности», на «подпольности» и для чего, не для того ли, чтобы придать этой заблатненности окраску крамолы, тон социальной взрывчатости? Такой товар ходовее…
Но многие тюремные стихи, сочиненные сталинскими узниками, и сегодня трагичнее и долговечнее бродско-галических стихов, и блатные песни тех «железных времен» и сегодня блатнее песен Высоцкого. Да и запрещался ли Высоцкий? Высоцкий– актер, сыгравший десятки ролей на сцене и в кино, посещавший заграничные курорты. Галич и за границей не стал русским Иваном Буниным, Высоцкий не стал русским Шаляпиным.
А что дали они загранице? Ничего. Заграница моментально «немощь» их «усекла»… Нашему обывателю их отъезды тоже ничего не дали: ведь стихи и песни их распространялись в миллионных экземплярах, сам я покупал «ксерокопии», правда, читать долго не мог. А Высоцкого, после его знаменитых самоисполнений, читать вообще нет смысла. Не мог воспринять «чудо» вдохновения:
А у тебя самой-то, Зин,
Приятель был с завода шин.
Даже и «Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее» не воспринимаются как самостоятельные строки, они чужие, с чужого «плеча», и трагизм Высоцкого – наигранный, чужой, против истинного национального трагизма он распутно-забубенный, торговый, шумный.
Теперь Высоцкого сравнивают с Есениным, Галича – с Некрасовым, Бродского – с Пушкиным. Сравнивают каждый день – по графику…
Галича, Бродского, Высоцкого сделали «запрещенно-знаменитыми», у нас и у вас купили билеты на «смотр» в заграницу. А не будь этого спектакля? Присудили посмертно Высоцкому Государственную премию СССР – интерес к нему тут же заколебался. Уже на могиле свежие цветы не только у Высоцкого… Высоцкий лежит недалеко от Есенина, почти рядом, но между ними какое «НО», и это «НО» будет непременно расти. Высоцкий в том не виноват.
Если бы не было «запрещенности», «подпольности», то не было бы и сегодняшнего «дыма» у нас, не было бы тарабарщины по различным «Голосам» и «Свободам». Не было бы и недоумения у серьезных интеллигентов Запада: «Орут о русских писателях на каждом шагу, а читать у них нечего!»
Не надо Александра Галича путать и с Александром Солженицыным. Страдание страданию рознь. Галич, оказывается, еще в пионерском галстуке посещал литературные кружки, даже «при всех и вслух» отмечен самим Эдуардом Багрицким. Вот как! А мы-то, простаки, считали: Галич кайлил, голодал, кайлил, голодал, да и выплакал горе русскому народу:
Подстелила удача соломки,
Охранять обещала и впредь.
Только есть на земле Миссалонги,
Где достанется мне умереть.
Где, уже не пижон и не барин,
Ошалев от дорог и карет,
Я от тысячи истин, как Байрон,
Вдруг поверю, что истины нет!
Будет серый и скверный денечек,
Небо с морем сольются в одно,
И приятель мой, плуг и доносчик,
Подольет мне отраву в вино.
Упадет на колени тетрадка,
И глаза мне затянет слюда,
Я скажу: – У меня лихорадка,
Для чего я приехал сюда?!
И о том, что не в истине дело,
Я в последней пойму дурноте,
Я, мечтавший и нощно, и денно
О несносной своей правоте!
А приятель, всплакнув для порядка,
Перейдет на возвышенный слог
И запишет в дневник: «Лихорадка».
Он был прав, да простит его Бог.
Искренне как будто, стихи, а не веришь. Шибает псевдоромансом, будто – сыграно, с чужого «плеча», чужое. Или автор играл все время кого-то, понравившегося ему искренностью, наследственной естественностью? Игра удалась.
А чего стоят «и глаза мне затянет слюда», «где достанется умереть», «будет серый и скверный денечек», – взято «напрокат», не свое, не кровное, смахивающее на резюме Бродского: «пчел, позабывших расположение ульев и улетавших к морю покрыться медом». «Покрыться» – имеет тут более грубый «животный» смысл и назначение, нежели автор выбранному слову поручает. Опять обожженная пустыней желтая кость.
Трагедия Бродского, Галича – беда одинокого. Трагедия Есенина – кровь народа. Потому и не пришел великий язык великого народа к поэтам так называемой «третьей волны». А язык – душа и разум народа, внутреннее око человека. Не фотография времени, а внутреннее – лунное тоскующее око.
Галич не замечает безнравственности беллетризации народной трагедии. Там, где у Шаламова – скорбь, заставляющая отказаться от всех ухищрений литературности, у Галича – стихотворная беллетристика.
Галич – Галич. Начинается не скорбь, а пляска возле гроба, пляска скелета:
А там, в России, гае-то есть Ленинград,
А в Ленинграде том Обводный канал.
А там мамонька жила с лапонькой,
Назвали меня «лапонькой».
Не считали меня лишнею,
Да и дали им обоим высшую!
Ой, Караганда ты, Караганда!
Ты угольком даешь на-гора года!
Дала двадцать лет, дала тридцать лет,
А что с чужим живу – так своего-то нет!
Далее – повествуется, как «взял» он ее нахрапом:
А он, сучок, из гулевых шоферов,
Он барыга, и калымщик, и жмот.
Он на торговской дает, будь здоров! —
Где за руль, а гае какую прижмет!
Подвозил он меня —раз в Гастроном,
Даже слова не сказал, как полез,
Я бы в крик, да на стекле ветровом
Он картиночку приклеил, подлец!
А на картиночке площадь с садиком,
А перед ней камень с «Медным всадником»!
А тридцать лет назад я с мамой в том саду…
Ой, не хочу про то, а то я выть пойду!
Да и незвучное «с садиком» – ради с «Медным всадником», могло быть поприличнее, поскольку юродства хватает и так, но даже и юродство – подделка под юродство. Неискренность, а вернее, лжеискренность подводит Галича, лишает ситуацию достоверности, не вызывает естественного участия с несчастной.
А несчастная – дочь генерала, расстрелянного, дочь матери, расстрелянной, разрешит ли, сама пройдя через каторгу, играть с собою нахалу? Если и разрешит – пусть автор найдет психологические доказательства, а здесь – хмырь: шофер – хмырь, автор – хмырь. Разумеется, Галич не хотел такого плоского результата от «Песни – баллады про генеральскую дочь»…
Помню, в «Огоньке» я увидел фотографию: три женщины, крестьянки, держат в руках трех поросят. Женщины – лица добрые, славянские, озабоченные работой и нуждою. Поросята – ухоженные, ликующие, боевые. Под фотографией подпись: «Три богатыря – Илья Муромец, Добрыня Никитич, Олеша Попович». Ну, допустим, фотограф или журналист хотели хорошего, не намеревались оскорбить святыни, но мало ли они о чем думали, чего хотели, важен – расистский факт. И «факт» этот долго будет работать не в пользу журнала: расизм заметят…
* * *
И все-таки надо было их печатать. Надо было печатать Бродского, Галича, Высоцкого, Солженицына. Надо было печатать романы «Касьян Остудный» Акулова, «Кануны» Белова, «Мужики и бабы» Можаева, «Кончина» Тендрякова. Печатать полностью, не скребя по страницам, не выбрасывая. Я знаю, по работе в журналах, в издательствах, чего стоило – выдать на прилавок смелую книгу. И сколь многие соблазнились звучной имитацией правды – тоже знаю.
Ведь шел же в застойное время, да и тогда, при Сталине, Евгений Евтушенко парадом! Вот его «Строители Волго-Дона» (журн. «Смена», 1952, №13):
Я не был на трассе,
не рыл канал,
не управлял земснарядом.
На экскаваторе
я не стоял
С Иваном Ермоленко рядом.
Но сегодня,
когда взлетают ладони,
когда у всей страны торжество,
я говорю
от имени тех,
кто не был на Волго-Доне,
и все-таки
(я утверждаю!)
строил его!
Геолог,
искавший руду в Зауралье,
шагавший тайгою,
быть может, не знал,
что эта руда,
ставшая сталью,
скрепером
будет
строить
канал!
Московские верхолазы,
высотных домов строители,
перекрывая сроки,
строя
за домом дом,
не были на Волго-Доне,
трассу его не видали,
но сила их примера
строила Волго-Дон!
Я ходил недавно
с друзьями
в Дом-музей Маяковского.
Маяковский!
Здесь жил,
здесь работал он!
Под стеклом,
на столе его,
рядом с набросками,
чуть надорвана
пачка папирос «Волго-Дон».
О чем с папиросой
он думал долго,
мечтал о чем
в папиросном дыме?
На пачках синим —
Дон и Волга,
и красным —
линия между ними…
Я знаю:
на трассе,
у берега волжского,
свою мечту
одевая в бетон,
в первых рядах
стихи Маяковского
строители Волго-Дон!
У нас,
глядящих в завтрашний день
пристально,
зорко,
смело,
нету «больших»
или «малых» дел, —
есть общее наше дело!
И каждый,
кто Родиной нашей вызван
в дали грядущих времен,
каждый,
кто строит
в стране
коммунизм,
строил
Волго-Дон!
Задорные стихи. Но задор-то «фиктивный», неискренний, чужой и страсти чужие, и радость чужая, с чужого «плеча». А стихи написаны Евгением Евтушенко молодым, даже юным, они бы как раз должны были нести на себе отпечаток абсолютной искренности. Но трудно, особенно молодому, петь искренне, когда знаешь о миллионах людей, томящихся в лагерях, а Евтушенко знал, он сам не отрицает это в поздней вещи «Фу-ку», да и в других свои вещах. Прекрасно знал. Знал он и о Сталине кое-что из того, что стало известно широкому читателю только сегодня. Знал – и раболепствовал:
Слушали и знали
оленеводы-эвенки:
это отец их – Сталин
счастье вручил им навеки!
Равнодушие к тем, от чьего имени, жизни, языка, истории и страданий говоришь, равнодушие и безучастность позволили автору опуса о Сталине, восхваляемом, «перевернуться вокруг оси» и выдать иное – «Наследникам Сталина», где гробовой вождь мечтает до «неразумных» солдат, выносящих его саркофаг, «добраться». Вчера Евтушенко, буквально, аллилуйничал, сегодня, «высунувшись» в окно, как в деревне, бранится.
Сталина восхваляли многие: Симонов, Инбер, Рыбаков, Исаковский, Алигер, Катаев, Сурков, Безыменский, Маршак, Полевой, Щипачев, Эренбург, Твардовский, Пастернак обнародовал «посвящение» и не тайно переводил поэтов Грузии, – кормчий слышал. Пастернак ощущал, что кормчий слышит… Но – мучился Пастернак, замолчал после патетической симфонии вождю Исаковский, долго и тяжело «перебалевал» Твардовский. Даже дробящий колымские руды Борис Ручьев «перебалевал» сталинским временем до скончания дней. Шолохов унес любовь к Сталину с собою. А Евгений Евтушенко мигом сделался одним из самых чтимых поэтов у Леонида Ильича Брежнева, свежего вождя. В воспоминаниях Никиты Сергеевича Хрущева – «Женя хороший парень»… А Брежнев, до вставной челюсти, цитировал за дачным столом соратникам строки из Евтушенко. Пятизвездный малоземельский маршал и вождь наизусть запомнил две его строки:
Со мною вот что происходит:
Ко мне мой старый друг не ходит…
Две – и запомнил! Ведущие газеты при Брежневе щедро поставляли в народ стихи «хорошего парня», но «хороший парень», почуяв «жареное», лихо, когда разрешили, обрушился на «пятизвездное застойное время». Как всегда – с наигранной искренностью:
Трус неглупый,
вор неглупый
перестройку
под себя перестилают,
словно койку,
Трусы прежние
в герои суются,
словно трусы Советского Союза.
Все с компьютерами
жулики цифирные.
Перестроившийся вор —
квалифицированней.
И – далее, в том же крючковатом стиле!
А сам Евтушенко – герой? Ну я понимаю: нельзя было при Сталине ему, да и не только ему, храбриться. Но ведь сейчас-то быть смелым «задним числом» стыдно. Наверное, сейчас можно и поразмышлять, поплакать сердцем, погоревать над судьбой общей и своею, но откуда же эта личная «безвинность», эта самоуверенность «пророка», среди обманутых и обездоленных? Это и есть – чуждость.
В длиннющем стихотворении «Русские коалы» Евтушенко выговаривает русскому: «Мой современник-содременник, глаза спросонья лишь на треть ты протираешь, как мошенник, – боишься чище протереть. Нет, дело тут не в катаракте. Граждански слеп ты не один. Виной твой заспанный характер, мой дорогой согражданин. Почти нельзя прощупать пульса общественного на руке. Ты от «Авроры» не проснулся. Ты – в допетровском столбняке. Очухивался ты в кальсонах, когда пожар кровать глодал. Марксизм был для тебя как сонник: ты по нему не жил – гадал. Мартены, блюминги, кессоны – вот племя идолов твоих. Ты жил физически бессонно, а нравственно – трусливо дрых.
Когда ночами шли аресты и сам себе забил ты кляп, звучали маршево оркестры, как совести позорный храп. Такой сонливистый и зевкий, ты не проспать не мог войны. Ты прозевал шифровку Зорге под победительные сны. И членом армии чиновной всех носоглоточных капелл ты прохрапел во сне Чернобыль, «Нахимова» ты просопел. Нахальный аэрокуренок чуть Кремль не сшиб – все оттого, что был прошляплен он спросонок коалами из ПВО. А разве травлю Пастернака не ты проспал, бурча сквозь сон: «Я не читал роман, однако я им предельно возмущен»?.. Ты дал медальку не задаром, ведя и свой медалесбор, малоземельным мемуарам на всеземельный наш позор».
Верховный поклонник, не последний, будем надеяться, несгибаемого Евтушенко, Леонид Ильич Брежнев, тут лично заклеймен. Пристыдил автор и русский народ, указав ему на храпенье, лишь забыл – вокруг Брежнева, как вокруг Хрущева и Сталина, крутились не только русские люди. Злее осенних мух жужжали, прорываясь к ним из иного роду-племени… Если у Евтушенко одряхлела память, пусть включит телевизор, «интернациональные выходцы» и ныне на экране, и ныне в моде, как в моде и сам автор стихотворения «Русские коалы» Евгений Евтушенко, «хороший парень». Нравственно ли предъявлять счет народу, которым не менее чем другими народами заполняли тюрьмы Свердловы, бухарины, Каменевы, Сталины, Зиновьевы, микояны, Ждановы, маленковы, молотовы, ежовы, кагановичи, ягоды, берманы, коганы, френкели, берии?
Мимикрия, игра «под кого-то», имитация радости, героики, насильственное освоение языка – ведет ли этот путь к истине? Русского Пушкина от России не оторвать, а не русского Бродского к России не приставить.
Есть национальные черты и обязанности у слова, а совесть может потерять поэт, рожденный и в Рязани, где до сих пор звенит голос Есенина, как рыдание кукушки.
Как «интернационалисту» валить все промахи на один народ? Как сочинять стихи на русском, орать, что ты русский поэт, а ненавидеть русских? Умереть надо! Как неурядицы Пастернака сравнивать с трагедией Чернобыля? Чернобыль и Пастернак?!.
Неискренность, чуждость, игра порождают безнравственную ситуацию: сегодня хвалю – завтра откажусь, сегодня назначаю – завтра расстреляю, сегодня защищаю – завтра отрекусь. Конечно, у нас немало неподдельных писателей, идущих к народу, а не сюсюкающих перед ним, не огыгыкивающих его. Они возвращают нас из «творческого блуда» к дому на отчий порог. На наших глазах истаяли Федор Абрамов, Василий Шукшин, Олег Куваев, Василий Федоров, Владимир Чивилихин, Константин Воробьев, Юрий Селезнев, Анатолий Передреев, Иван Акулов, не смогли жить, видя беспощадное разорение России, удушение рек, лугов, убывание русских, да и не одних русских: посмотрите, что стало с народами Поволжья, Урала, Сибири, Севера!
Мы не забываем и тех, кто слепо восхвалял коллективизацию, слепо призывал к ликвидации «кулаков», расчетливо разрушал национальное – умное, проверенное веками, отобранное природой, взрывал храмы, оплевывал сказку, славу народа. Это они помогали строить лагеря, натягивать вокруг них колючую проволоку.
Не надо говорить за нас, за наш народ, не надо пытаться нас оттеснить, заменить. Мы сами за себя скажем, сами за себя ответим.
Слова великого русского поэта Александра Блока не устарели:
И у тех, кто не знал, что прошедшее есть,
Что грядущего ночь не пуста, —
Затуманила сердце усталость и месть,
Отвращенье скривило уста…
Было время надежды и веры большой —
Был я прост и доверчив, как ты.
Шел я к людям с открытой и детской душой,
Не пугаясь людской клеветы…
Сколько же тут взято «на себя, сколько же тут пережито, передумано о себе и других, о времени и Родине, о небе и Земле?
Вспоминаю 1984 год, осень… Кремль. Сверкающий зал. Нас, поэтов, прозаиков, публицистов, драматургов, критиков, – пруд пруди! Всех приглашают сесть. Садимся. Ждем. Долго, долго. Молчим. Возимся. Оглядываемся. Понемногу начинаем возмущаться. Долго ли так сидеть? Кого ждем? Себя ждем.
И, наконец, появляется маленький человечек с медленными жестами, медленной выправкой, медленным взглядом, медленным соображением: как быть? Маленький, хотя, говорят, в кабинете очень подвижный и решительный, иногда – даже большой. Серенький, в сереньком помятом костюмчике, вытаскивает из кармана пиджака серенький помятый платочек и медленно, медленно, в несколько затяжных приемов, начинает сморкаться. Сморкается минуту, две, три, четыре, пять. Зал чувствует насмешку, но, пораженный, еще боится отреагировать резкостью, еще не хочет верить, что над ним свободно, настырно, медленно издевается маленький, серенький человечек. Зимянин…
Вот он здоровается. Улыбается. Делает шажок по сцене. Зачитывает Указ о награждении «За развитие и выдающиеся успехи в советской литературе» огромного количества граждан. Писатели переглядываются, перемигиваются, кажется – лишь в эти минуты догадались, как всех их унизили серым списком, не имеющим границ и пределов.
Так нам и надо! Так с нами и следует обращаться: забыли свое достоинство, а собираемся укоротить чужую самонадеянность? Я никого не упрекаю. Не считаю себя лучше Бродского или Галича, не советую хихикать или восторгаться по поводу претензий к Евтушенко.
В моем времени я избежал соблазна клеветать, отказался доносить, не научился зубоскалить, а своих мучений за свое время не избежал: они – тяжелы и постоянны, к тому же – еще в самом начале, ягодки – впереди!..
Надо не стесняться башкиру быть башкиром, русскому – русским. Надо не давить чужой язык, чужую культуру, землю, а помогать им, тогда иссякнет чуждость, желание и необходимость играть кого-то отпадут, на их место явится искренность, естественность и доброта.
Зачем застить Есенина Пастернаком или Бродским, Галина – Мандельштамом или Высоцким, пусть каждый стоит там, куда подала знак встать судьба. Утверждать утверждение – смешно, утверждать в заурадном величие – бессмысленное занятие, можно надорваться. Нынешние литературные наши баи, отяжеленные медалями и орденами, – жалкое зрелище: недаром так нудно, так невоспитанно при них сморкался Зимянин, понимал, с кем имеет дело.
Лев Толстой говорит: «А как бы я мог быть хорош и счастлив, ежели бы шел по той дороге, которую, вступая в жизнь, открыл мой свежий ум и детское, истинное чувство! Не раз пробовал я выйти из колеи, по которой шла моя жизнь, на эту светлую дорогу. Я говорил себе: употребляю все, что есть у меня воли, и не смог. Когда я оставался один, мне становилось неловко и страшно с самим собой».
Вспомним Лермонтова:
Великий муж! здесь нет награды,
Достойной доблести твоей!
Ее на небе сыщут взгляды,
И не найдут среди людей.
Но беспристрастное преданье
Твой славный подвиг сохранит,
И, услыхав твое названье,
Твой сын душою закипит.
Хочется, чтобы наши дети кипели душою, когда того требует дело, требует время, не завидовали изворотливому и продувному, учась трудолюбию и терпению. И пусть Евгений Евтушенко остепенится: зачем так нервозно, так угрюмо ему поносить русских? А может, понося русских, Евтушенко не виноват, поскольку Евтушенко – Гангнус, а Евгений Александрович Ганг-нус, понося русских, не виноват, поскольку он – Евтушенко? Такие дела! Кто же виноват? Псевдоним?
* * *
Однажды, день за днем переваливая в автомобилях через впадины и хребты Гоби, оторванные от русской речи, мы въехали дружно в захолустную гостиницу, поймали «Маяк». По радио передавали для соотечественников, тех, кто за рубежом, специальную программу. Грузинская музыка – великолепно. Украинская – великолепно. Литовская – тоже. И вот зазвучала Россия… Приемник захлебывался, откашливался, хрипел, блеял, взбрехивал, кукарекал. Плясали. Выли. Дундели. Кто? Русские?
Возможно – русские. Но какие это русские?
Стыдно было перед монголами, сопровождавшими нас. Они молчали, понимая наше смущение. А хрипы, оры, улюлюкания сотрясали комнату. Что же в них было национального, русского? Но выступали-то артисты, если их так можно назвать, русские: они объявлялись в эфир под русскими именами и фамилиями, летели в пространство русские слова, но изуродованные и омерзительные.
Почему я, русский, должен принимать их, эти слова? Почему я, русский, должен выносить антирусскую шабашню?
Тимур Пулатов, узбекский прозаик, пишущий на русском языке, вздохнул:
– Сколько вы, русские, будете терпеть позор?
– Сколько вытерпим! – ответил ему русский писатель Анатолий Жуков.
– А сколько вытерпите, не триста же лет? – засмеялся переводчик, монгол.
Пишу я, а сам заранее вижу, как, сутулый и дремотный от бумаг, от аккуратных очерков, мой друг-редактор поправил очки:
– Опять нарываешься?
– На что?
– На скандал!
– На какой скандал?
– А на такой, позабыл? Русским о русском лучше не говорить!..
Правомерно ли, разумно ли, не неряшливо ли в наше время упрекать тот или другой народ в том, что он недостаточно ретиво изучил марксизм, недостаточно ретиво следует его канонам? Если мы пользовались марксизмом вяло, «как сонником», и виноваты за это, то что же, каких же упреков достойны англичане, среди которых несколько лет жил Маркс, а они так и не взяли его, Маркса, на ежеминутное вооружение?.. А что делать со шведами, американцами, израильтянами? Евтушенко разговаривает с русским народом, не соучаствуя, не сострадая, Евгений Александрович поучает и журит народ, как автонарушителя поучает и журит инспектор ГАИ. А народ – это народ. Он – то Стеньку Разина даст, то – Пушкина родит.
Народ терпит, но все видит и не нуждается ни в продажно-самонадеянной защите, ни в озлобленно-снобистской демагогии.
Стоило русским писателям объединиться против отравления Байкала, вместе не согласиться с поворотом сибирских рек, выразить возмущение разрушением русских памятников культуры, тут же – ярлыки: «националисты», «шовинисты», «фашисты». Как похожи они на те ярлыки, введенные в обиход при Троцком, Свердлове, Ягоде, Бухарине! Похожи и на более «современные» – «почвенники», «деревенщики», «славянофилы», «монархисты» и прочее. Стоило Бондареву, Белову, Распутину, Алексееву, Иванову, Проскурину повернуться в сторону русской тревоги, посыпались насмешки, оскорбления, клевета, наветы. Кроссворды – и те «разоблачают» Бондарева, так захвачено русское слово, а кем?..
Несчастное общество «Память» – общество «дураков, мракобесов, бандитов, идиотов, пьяниц, грабителей», стыдно читать! Такое впечатление, что провокаторов специально выставляют за общество «Память». Правда, нахальная и безразборная брань в адрес «Памяти» дает обществу новых и грамотных сторонников, а России – новых надежных тружеников, патриотов…
Все неразберихи, аварии, голод, холод тот же Евтушенко кладет на совесть русского человека – коала, ленивца, австралийского зверя, любящего поспать, повиснуть на чужом «хребте», но разве в армейских казармах, академиях, разве в творческих союзах, институтах, министерствах, на полях и заводах одни русские? Далеко не так!
Программы, научные революции, рекомендации, решения, обещания, даже концерты КВН делаются лишь русскими? А уезжают, диссидентствуя, выступают по радио, в газетах, телевидению только русские? Почему русский человек в стихах Евтушенко один отвечает за всех, виноват один во всем? Тенденция эта у нас то спадет, до невидимой грани, то вновь поднимается, когда находятся ее сторонники, прячущиеся за русскими именами, за русским болями…