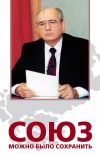Читать книгу "Крест поэта"
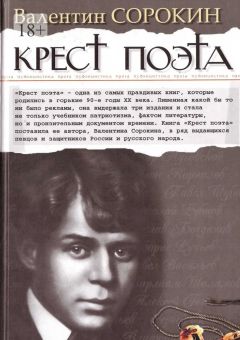
Автор книги: Валентин Сорокин
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
БЕЗ ДРУГА
Хорошо с другом в лугах. Если весною – зеленые травы светом серебристым плещут и убегают под ветром теплым за дымчатые дали, отороченные белым частоколом берез, наливающихся искристым и крепким, как горное вино, соком. Жизнь обнялась и переплелась в порыве обновления с природой, и приветствует нас, понимающих ее и воспевающих ее.
Хорошо с Иваном Акуловым, братом моим старшим, зимою, в сумерках лунных, в раздумиях звездных, часы и часы коротать, стихами и прозой потчуя его и себя, его и себя. А снег, Богом осиянный, поскрипывает и поскрипывает, а звезды голубоватыми лучами легонько, легонько сугробов неуклюжих касаются и касаются.
И луна – за окном слушает. Умная – как старуха. Верная – как собака. Вечная – как тайна. Знакомая – с рождения твоего. Понятная – с детства и до зрелости твоей. Над тобою – она. Над судьбою твоею – она. И над Россией – она, языческая, скифская, русская, близкая, близкая: погладить ее, одинокую, хочется, да занебесные меридианы в звездах и трепете, недосягаемы… А луна необъятностью вселенской правит… Царица дум человеческих!..
Хорошо на веранде, в холодке, согревающем тело твое и краткую радость твою, сесть с Иваном Ивановичем – поделиться неуловимым счастьем, похвастаться мелькнувшим авторитетом, славою друг друга намеренно известить и дух творческий выше луны, аж до звезд пушкинских, вскинуть гордо и непременно.
Мой первый друг,
Мой друг бесценный!..
Кто-кто, а я, я-то знаю – как без друга луна за облако прячется, а звезды – зажмуриваются и гаснут. Без друга – луга не зеленеют. Без друга памятью о друге держишься.
В аэропорту Челябинска, ожидая задерживающийся самолет, мы с Иваном Ивановичем пообедали на скамейке. Я завернул остатки своей еды в газету, мячиком завернул и, не целясь, швырнул точно в урну, каменную и широкозевую.
– И все у тебя так, с абсолютным попаданием, все, – глубоко вздохнул Иван Иванович, – а я, гляди, сверну, кину и промажу, и все, Валя, все у меня так, все!..
Акулов свернул, покомкал, завернул, потискал газетный мячик с остатками еды и, долго целясь, прищуриваясь и как бы в перестрелке ловя широкозевую урну на мушку, кинул, отсчитав до трех, и промазал безобразно. Газета расфасовалась – куриная обглоданная скелетина вывалилась и застряла, повисла на урне, а жидкий творог обрызгал гранитные ступени и мраморные колонны главного входа, усеяв асфальт шелухою.
Появился милиционер, юный и бравый:
– Кто грызет семечки, ест кур и творогом балуется?..
– Он, он!.. – показал на меня Иван Иванович.
Милиционер взял меня под локоть: «Пройдемте!» Объяснялись, объяснялись – впустую. Я сунул милиционеру трояк, и милиционер важно козырнул мне. А на скамейке Иван Иванович возмутился:
– Трояк ему, бездельнику, да я бы и горсть семечек ему не насыпал, горсть бы ему не насыпал, а ты, купец, трояк. Сегодня пропьет, а завтра тебя же и оштрафует, он же, Валя, свинья, аэропортовский хряк!.. Повозился, повозился на скамейке:
– А Зоя тебя любит, провожала!.. А прозаик-то она, не обижайся, Валя, баба и баба есть, ее ли дело литература? Но, Валя, талантливая она, талантливая, ты не ори, не ори, не меняй верного друга, фронтовика, на бабу, ты стал задиристый и занудный, как хохол!..
– А ты не занудистый и не задиристый?
– Бабник ты, Валя, куда бы ты ни прилетел – бабы, а я газету бросил в урну – и меня же милицейский боров готовился поймать!..
Автор неповторимых романов «В вечном долгу», «Крещение», «Касьян Остудный», «Ошибись, милуя» и пронзительных по своей страстности, содержательности и глубине рассказов, где каждая фраза – образ и тайна, каждая картина природы – живая, Иван Акулов так умело берег в себе отношение к людям, что лепил их щедро, по-хозяйски разбираясь в них и заботясь о них, как о родственниках, рядом творящих.
Они творили дело, а он творил слово. И слово его – дело. Язык произведений Ивана Ивановича Акулова – тайна. Как рыдание кукушки – тайна, как сверкание инея на березе – тайна, так и художественный мотив писателя– емкий, колоритный, текучий, веющий удалью остроумия, древним страданием и блеском вдохновенной воли мастера, тайна.
Я завидовал его начитанности, уму, уральской твердости духа и дерзкому достоинству. Он не одаривал осетрами критиков, не подпаивал коньяком редакторов, не лебезил в приемных делегатов и прочих литкаганов: их для него не существовало.
Идеал деятеля у Акулова – Столыпин. Ему посвящен роман «Ошибись, милуя»… Роман выточен затворнически, так тонко, так фактово, что затоптать роман нельзя было и в то, икающее кремлевскими буфетами время. А в наше – неувядаемая задача темы и ее классическое разрешение автором не дадут снизить значение романа в обществе, как бы опять воюющем и раскулаченном… Тренируют Россию.
«Крещение» – солдатская биография. «В вечном долгу» – биография колхозного рая… «Касьян Остудный» – уничтожение русской семьи: отца, жены, детей, выкорчевывание трудяги, пахаря и защитника. Романы – не спутать ни с какими и не затерять в библиотечных захламьях. Лишь А. Ананьев отверг «Ошибись, милуя». И потрепал равновесие Ивана Ивановича. Напечатал М. Алексеев…
Ветер – летит к ветру. А родник бежит к роднику. Зря ли?..
Сказал я об Акулове добро в «Литературной России», а Виктор Астафьев мне пишет: «Понравилось, хорошо!» А Борис Можаев звонит: «Удалец ты, и я о нем печатал!..» А Петр Проскурин замечает: «Акулов такой русский – замуруют!..» А Егор Исаев благодарит: «Завидую, сильно. Валя!..» А Юрий Бондарев, размышляя: «Акулов непременно один из самых честных ратных художников, непременно, но зависти остерегайся и ревности!..»
Юрий Васильевич прав: роман Акулова «Касьян Остудный» волочили, волочили по журналам, а мне пришлось, опираясь на свою наивность, провести роман через издательство «Современник», через ЦК КПСС и цензуру.
Наивность моя всегда меня уберегала от испужливости и неверности другу: чего хитрить простаку?.. И стихи эти я почти выплакал о нем, чувствуя приближение смерти к нему, а так – в быту я и не потерял его: то до калитки его подскачу, то телефон его наберу, а его уже давно нет и нет, да и никогда теперь не появится он передо мною…
Шорохи листьев и хвороста хруст,
Друг заболел мой и дом его пуст.
Тень у колодца и тень возле гряд,
Звезды угрюмо над крышей горят.
Шепчутся, думают, движутся в ночь,
А вот не могут бедняге помочь.
Яблоня юная, в чувствах светла,
Гроздь заревую к дверям принесла.
И отшатнулась, стоит на меже,
Значит, хозяин далеко уже…
И у тоскующих звезд на виду
Ветер поет, завывает в саду.
Ветер поет, завывает и сам,
Быстро уносится к стынь-небесам.
В новых поколениях к Арсению Ларионову деревенской болью примыкал он, к Эрнсту Сафонову тянулся, нежный и замкнутый, а меня беспощадно пытал:
– Где ты выследил масонов? Меня на войне изувечили, а я не встречал их, где?
– Встретишь, встретишь!.. А изувеченному здоровью не радуйся!..
Мы и на Высших литературных курсах, вместе учась, головами над масонами покачивали: я легче, а он тяжелее. Что молодость на лету поймет – старость ногтем поскрести желает, да ведь масоны не пентюхи, а мы, русские, в ущерб себе в злых подвохах сомневаемся, потому и успешно уничтожают нас.
Выйди на предпоследней остановке перед Сергиевым Посадом из электрички и зашагай налево по тропинке мимо елей, мимо низеньких домиков к пруду, а от пруда чуть в горку, и прямо перед тобою – деревенское кладбище, тихое, дремное. Еще пройди по центральной аллейке вниз и опять перед тобою, но с правой стороны – черная ограда, а в ней две могилки, две красноватые плиты: «И. И. Акулов. 1922—1988» и «Г. Г. Акулова. 1928—1988». Умер он вслед за женою… Обезынтересился в самом себе.
При жизни ему мало было дано места среди живых, умер – и среди мертвых. Но жизнь писателя Ивана Акулова – огромна: солдат, доброволец 1941-го, простреленный на блиндажной усадьбе Тургенева. Свинцовая капля фашистской ненависти прожгла легкие и через горло вышла в русский туман. Отливали ее в Берлине, а оплакивают ее в России.
Порою на Ивана Ивановича Акулова наваливался идеологический страх, загоняя его в мою избу рано, рано, едва успела блеснуть заря сквозь утренний туманец – он:
– Ты, Валентин, читал в очередном томе Брежнева: «Антисемитам нет места в СССР, среди братских народов СССР им нет места!..»
– Правильно, нет… Есть место не русским антисемитам, а еврейским антисемитам!.. Зашел ты в суд – еврей судит. Зашел в прокуратуру – еврей допрашивает. Зашел в театр – Гамлет, а еврей. Зашел в цирк – клоун в Израиль на гастроли сматывается.
– А русские? – интересовался Акулов.
– А русские Карла Маркса изучают, интернационалиста, и тоскуют, мол, когда же клоун из Тель-Авива приедет, мы хоть улыбнемся ему!
– Константин Симонов антисемит?
– Антисемит. Русский язык ему дороже материнского, еврейского.
– А Борис Полевой? Русский язык обожает больше своего, еврейского.
– Антисемит, Ваня, антисемит.
– Чаковский? Интернационалист, ленинец, патриот, еврей, Валя?
– Антисемит.
– Бродский?
– Антисемит. Русский классик, еврей питерско-римский.
– И Кобзон антисемит?
– И Кобзон!.. Не желает петь на еврейском, антисемит.
Иван Иванович веселел:
– И чиво они лезут за нас танцевать и сочинять, даже плакать согласны за нас, леший русские!.. Валя, мне сдается – и Арафат антисемит, Маркс, а? Что скажешь, антисемит Арафат? Взбадривает арабов, как нас, людей русских, взбадривают кобзоны и бродские? Арафат, Валя, замечательный антисемит, и еврей изумительный, драчливый!
Иван Иванович замыкался:
– Ну, поговорили-то как мы с тобою удачно, Валя, поговорили-то! Значит, Брежнев антисемит, хы-м-м!..
Идеал прозаика у Акулова – Бунин. Идеал поэта – Клюев. Мне кажется, все они и натурами не чужие: истязание себя ради правды и русского молитвенного оздоровления – в их творчестае. Иван Иванович просиживал над ними сутками, восхищаясь:
– Бунин колдун и Клюев колдун!..
– Ты сам колдун, почище Клюева!..
– О, молодец, говори, говори, говори, молодец!.. – приветствовал Акулов.
* * *
С двумя орденами Великой Отечественной он вошел в сельский магазин. Хмельной верзила ткнул пальцем в ордена: «Дед, не надоело?» Иван Иванович, бледный и оскорбленный, попытался, на цыпочках, достать кукишем по носу двухметрового амбала, но тот мотал башкою и ржал, издеваясь. Тогда Иван Иванович схватил березовую задвижку и погнал быка во двор. Во дворе бык хотел упереться, но, заслышав: «…я фронтовик, я тебя по хребетине орясиной поглажу, идиот!..» – трусцой, озираясь, за складами скрылся. Из-за стены высунулся – и ощерился. «Я т-те!» – топтался Акулов.
Второй-то орден искал Акулова долго. Его и омыл Акулов юною щедрою кровью, а получил спустя эпоху. Акулов не тот, кто цепляет на грудь заслуги. Нашли – и происшествие?.. К смерти Иван Иванович готовился. Цитировал мне Христа, Плутарха, Сократа, Платона. И все касающееся необъяснимой смерти. Сокращая расстояние между собою и смертью, чаще и чаще слушал Шаляпина, Смирнова, Штоколова, Лемешева…
Нытик и озорник. Ноет, ноет – взорвусь. Сощурится, ссутулится, завьет челочку. «Леонид Ильищ, по-отещиски, по-отещиски нас благослови на идеологищиский пленум!..» – Зимянина пародирует. И негодует: «Шесть месяцев у них разница в возрасте, и „по-отещиски“, тьфу!..»
Ценил П. Краснова, В. Карпова, 3. Прокопьеву, И. Уханова, В. Машковцева, Л. Фомина, В. Лаптева, уральцев. Ненавидел, когда вылупившаяся на экране знаменитость, мурло, цинично поносила отчие веси, ненавидел и обобщал: «Эх, Валя, раньше-то в России рождались, жили и умирали около материнской избы, ну кроме войн там, бед и стихий разных, а теперь? В общежитие Нурекской ГЭС русских девушек Карла Маркса любить командируют, подонки!..»
Хохотал, как ребенок, наблюдая важных витий в соцгеройских утюговых пиджаках, важно дующихся в президиумах возле важного и надутого президента Горбачева: «Фазаны, оголтелые, закормленные фазаны, и все, как старый пионер Андрюша Дементьев, на симпатичного Генриха Боровика смахивают, прорабствующие упыри».
…Невероятно стеснялся женщин. Если женщина не замаскировала к нему меркантильного интереса, сокрушался и, скрепя сердце, мозговал: за сколько же рублей он должен ей купить шкатулку?.. Советские «песенники» содрогали его до омерзения. А чем их забавишь?
Пытался проникнуть в аппарат Горбачева и вздрючить мордастых оглоедов за травлю Бориса Николаевича Ельцина: «Бориса, Валя, травит завистливый торгаш, уральца травит сиропник, лавочник. Вот я доберусь до лысого фирмача и шмякну его, адепта мафии, вцепился в мужика!..» Да, спасибо Господу – не добрался. Каялся бы, сострадающий!.. Декламировал:
Лидер в шайке утонул,
Только тапкой болтанул,
Мураховский иль Бодюл, угадай за поллитру,
Чарку налью и полотенцем тубы вытру!
Я дружил с ним четверть века. Наши семьи дружили четверть века. В Москве и в деревне мы с ним – друг около друга. Иван Акулов сожжен заезжей ложью, русским бесправием и демагогическими лозунгами преступных вождей. Не выносил их. Даже в хвори и суете восклицал: «Валя, на Горбачеве-то лица нет, лица нет, Валя! О, этот все продаст, все продаст! Какие же он подписал протоколы. Валя?! Его приватизировали!..»
Так Иван Акулов реагировал на «итоги переговоров» Горбачева и Регана в Рейкьявике. Не случайный человек в медицине, считал: «Он марксистский параноик, еще и фазан, разорит, завербованный, государство самодовольством, невежеством и заседательным зудом!» Намой иредупредигельные шпильки пророчил: «Он последний ленинец, дальше – кровавая бойня солидарных по классу, да, да, кровавая бойня, и надолго!»
Крепкий, подвижный, заболел внезапно и неотступно. Я думаю: от ржавчины пули – накопилась во времени. У меня отец умер от «инородного тела в организме» – от мелких свинцовых частиц. Или Иван Акулов «схватил дозу» в октябре 1986 года на Урале, в Свердловске и Челябинске, – выплеснулась в атмосферу атомная зараза. А он тогда ездил по прадедовским бурьянным околицам…
Я не встретил пока человека, который бы так обнаженно скорбел о русской земле, униженной и обобранной. Занимался статистикой – подсчитывал миллионы сгасших в карательных сражениях правительства против нас, сгасших в раскулачиваниях подсчитывал, в тюрьмах и расстрельных подвалах. Занимался геноцидом – катастрофой, полуистреблением, распылением русских интернациональными ордынцами. Скажу об этом после, надеюсь. Картина жуткая. Раскроили нас и раззаплатили… Не чувствующий это – юродив, а трусящий говорить про это – подлец. Но приветствующий русскую погибель – поплатится!..
Личная дисциплина его, целеустремленность, решительность и беззаветность – безмерны: тяжело было с ним, до взрыва, но гнев у нас был минутный, а дружба – два еще человека, ему равных: старший брат мой, погибший у меня на глазах, и отец мой, такой же неодолимый и деспотичный в обязательствах, нравственных и гражданских.
За романы Акулова, изданные в «Современнике», меня допрашивали в КПК:
– Почему Кадушкин, герой его романа, в колодец бросился?..
– Так легче. Захлебнулся, и все. Сколько же терпеть грабителей?
– Не грабителей, а строителей новой деревни. Термины не те. Ясно?
Мать моя с колхозных полей возвращалась ночью, брала меня, и мы шли на кладбище помянуть трех моих братиков, ее сыновей, – вот я и привык ходить на могилки ночью, когда там никого нет. Вырос – начал трусить, а потом – опять привык, как в детстве. А мама, бывало, сидит посреди могилок и, как седая сова, головою во мгле вертит…
Есть ли разница – вчерашний райком и нынешняя префектура: лгут одинаково – цинично и жестоко. Выкормыши интернациональной орды, хищные усмирители сердец возмущенных наших, грабители в демократических креслах.
Болота поглотили гать,
А засуха взяла болота.
Вы ж продолжаете мне лгать
И в нищете винить кого-то.
И в прошлом ищете пример
Или ответ на тьму вопросов,
Главнодержавный инженер,
Законодатель и философ.
Пустуют ваши трактора.
Дома подслепы и горбаты.
Отишурмовали на ура
Европу красные солдаты.
Горит над кладбищем звезда.
Стучат, стучат за ветром шалым
По людям бронепоезда,
А не по выпиленным шпалам…
Не научусь я понимать
Вас, говорящих с пьедестала,
Когда измученная мать
Рожать и плакать перестала.
Россия, отчая страна,
В глазах тоска,
в плечах сутулость,
И нет дороги, чтоб она
В могилу братскую не ткнулась!..
Дороги, дороги, но действительно, где же, где такая дорога?
* * *
И, когда невыносимо, я беру фонарик и ночью, ночью, под свист метели, нахожу могилку Ивана Ивановича, разгребаю ладонями первый робкий сугроб и, помолчав, к себе возвращаюсь… Камень опадает с души. И войди сейчас ко мне Иван Иванович, я спокойно, как старшего брата или же отца, приму его: ни испуга, ни забвения – запоздалая награда.
Везти дружбу в гору жизни тяжело. Тяжелее, чем везти тачку с песком. Как-то я осветил фонариком, вечером, могилки в Челябинске, а памятничек отцу не найду. Ищу, ищу – не найду. Могилки свидетелей бойни в Афганистане отцову загородили. Дети безвинные наши…
Акулов, помню, телефоном разбудил меня и Михаила Львова на заре: «Конец, верховные жрецы войска в Афганистан загнали!»
Распад великой своей страны, захваченной одряхлевшими бандитами, Иван Акулов определил с точностью врача и математика. В литературном процессе выбирал талант, а не фигуру. Постоянно его поддерживали Борис Можаев, Феликс Кузнецов, Юрий Прокушев, Анатолий Ланщиков, Николай Сергованцев, отметили его книги.
Едем на скорости на «Ниве» в Москву, взлетаем на холмы Радонежья. Два собора с боков. Золотоглавые. Крестами огненными реют в голубое утро марта. Земля в зеркальных искрящихся разводьях. И теплый ветер, тугой и родниковый, в стекла бьет. А над дорогой – свежее, ширококрылое колокольное солнце звенит и простор окликает.
– Останови машину! – Вышли. – Красота-то какая, Валь, а я умираю… рак…
Я пытаюсь тормознуть катящуюся на него хандру:
– Рифма есть к этому слову, знаешь ее?..
Грустно улыбается:
– Дурак, да?..
Едем дальше. И снова:
– Не ставь мой гроб в ЦДЛ, запомни, кто придет – тот и придет, понял? И хоронить – здесь!..
Резкий, а нежный. Мученические глаза и думающие о чем-то непостижимом и отнятом у народа, у его несчастной России. Нежность он проявлял к писателю Владимиру Богатыреву. И меня приучил беречь дружбу с ним. А однажды я привез в дом лихого композитора. Тот оказался типичным фазаном, заносчивым, глупым и наглым. Надоел мне и Акулову: все – о себе, о себе, о себе и о своем таланте…
Вдруг обращается к Акулову:
– Иван Иванович, а что вы скажете о моих глазах?
Иван Иванович прицелился и с сожалением промолвил:
– А ничего не скажу, пустые и водянистые! – Я провалился под стал, а он гостю:
– А вы плюньте на обиду, выпьем за фронтовиков, отец-то у вас убит, вижу!..
Заминка. Пауза. Покашливание.
– Почему? – насторожился композитор.
– А вы собою заняты лишку, как модная женщина. Беда ребят, комсомольских барчат, выросших на партийных шницелях без отцовской хворостины!..
Композитор вспыхнул и обнял Акулова…
Впечатлительно читал Иван Иванович книги Эрнста Сафонова, Арсения Ларионова, подчеркивая в них, авторах, то, чем сам жил и мучился, – русскую обманутую душу интернациональными прохвостами: «Не охмурят их ни должностями, ни медалями, гляди, какие независимые, русские и честные!..» Коряво и трогательно афишировал их в официальных беседах. Рафинированный дипломат, эстет.
С поста Главного редактора художественной литературы Госкомитета по печати РСФСР Акулова выдавил ЦК КПСС, Беляев и Севрук, и кривозубые инструкторы, небрежно разводя, как у старой няни, руки Михалкова и СП СССР, выдавили Сема-нова, Куняева, Поливина, Родичева, Мамонтова, Никонова, Ганичева, Палькина. Да только ли их?.. А Чалмаев, Петелин, Селезнев?
Когда капековские быки бодали и пропарывали рогами в «Современнике» мои ребра, Акулов помогал Николаю Воронову и другим писателям заслонять русское издательство. В моем архиве – черновики веские защитительных документов, составленных Иваном Ивановичем и отправленных им, Акуловым, на высочайшие имена державных бурдастых быков. Он как бы хватал березовую задвижку, орясину, отгоняя их. Но просто ли отогнать агрессивных животных? У магазинов – быки, и в ЦК КПСС – быки.
Бездарный сын бездарного классика, соцгероя, разгромил рассказы в рукописи и вернул Акулову. Я позвонил отпрыску: «Зачем вы лезете туда, где вы чужой и вредный?..» Николай Воронов сообщил о подлости директору «Советского писателя», отпрыска отстранили.
Редко знал похвалу Иван Иванович. Друзей, близких у него почти не было. Очень одинокий, суровый и нежный. Но суровый с виду, а копни – золотая нежность, свет совести, как на тех огненных крестах, затрепещет. Да, большой человек – собор, в нем отогреваются людские обиды и воскресают радостью, как сам он: радовался и мелочи, лишь бы не мешала…
Выкосил траву на участке, покрасил забор, подфортил наличники и на струганой липовой скамеечке, уже переодетый в белую рубашку, белые брюки и на голове – белая фуражка, сел. А я намалевал трафарет: «Дом образцового содержания». И несу:
– Иван Иванович, поссовет обязал прибить у тебя под карнизом!..
– Что ты делаешь! – забегал он вокруг. – Что ты делаешь, ты меня убиваешь!..
А сам разыгрывал – до скандала. Или – гладит собаку Шевцова: «Породистый, не шавка, серьезный!..» А собака легонько цап его за палец. Промолчал. Вытерпел. А дома мне деликатно жалуется:
– Ты объясни Шевцову, собаку ему надо держать порядочную, а не такую дуру, он известный человек, а бобик у него – шалопай шалопаем, лучше кормить дворняжку, чем этого распутного охламона!..
– Зажрался!.. Занянчил его Михалыч…
– Вот, вот, – утешался Иван Иванович.
В сентябре ему исполнилось бы семьдесят пять лет. Умер в конце декабря 1988 года, перед Новым годом. А для меня – живой, нужный, надежный. Бывало, приедем и за лопаты – разгребаемся: он ко мне, я к нему, пока не сомкнем стежку… Теперь летом кладу дикий шершавый цветок на его могилку, а зимою ладонями с плиты снег разгребаю – крошки хлеба сыплю. Столько птиц изголодавшихся караулят меня и сразу слетаются на могилку!..
Борис Можаев утверждает: «Акулову, Валентин, все народ додаст, и почета додаст, и славы!..» Не сомневаюсь. Да где он, почет-то, и где она, слава-то? А может, слава – скромная могилка на бедном русском кладбище? А может, слава – молчаливое уважение народа к его книгам, бескомпромиссным и нежным? И, может, слава – редкий полевой цветочек, положенный неизвестным, внезапно уколовшимся о почти солдатскую пирамидку Ивана Акулова под Москвою?.. Может, но обида гложет.
Спи, мой любимый друг. Живому не хватило тебе ласки, а мертвому – покоя: в крови и в слезах русская земля!.. Но я благодарю Бога за то, что он позвал тебя раньше, чем ты увидел проклятый ад, организованный изменниками Родины в последней революционной перестройке. Их имена сгинут. А слово твое воссияет, и муки твои земные светом прольются небесным!..
Обреченность нашей медицины перед грозной болезнью угнетала Акулова, а лечение убежденностью и травами требовало величайшей осторожности и навыка. Как Галина Григорьевна его выхаживала – ей одной известно. А ее не стало – не стало его.
Сегодня русские писатели в экономической блокаде. В десять – пятнадцать раз возросла их смертность. Ленин и Сталин были приличнее: расстреляют – и забудут. Хрущев и Брежнев – гиганты: честных голодом не уничтожали, а лакействующих звездами увешивали. Издавали. Читали… А эти – себя и жен издают и только эссе Коротича о СПИДе читают. Привередливые.
Разве мы, победители, с побежденными так расправлялись, как расправились горбачевцы с нами: в четырнадцати республиках нас растащили, русских, разъединили и колючей пограничной проволокой опоясывают. То ли с фашистами нас перепутали, то ли сами они – геббельсовцы, а нам красно-коричневый ярлык приклеивают. Помесь рынка и робота.
Сегодня защитить русского друга – подвиг. Разве русские никого не защищали? Но не смейте впадать в уныние. Нас гнут к родной земле вместе с родным народом. И когда мы распрямимся – тетива терпения лопнет, стрела возмездья долго петь будет в скифских просторах… Держитесь. Каждый поезд привезет нас – к русскому городу, каждая лесная тропка приведет нас – к русской могилке. Не надо отчаиваться!
В небесах грядет Георгий Третий
На победном княжеском коне!..
Иван Иванович весьма прохладно смотрел на верующих, но разорение наших русских храмов не переносил: страдал и возмущался извергами. Поддавался знамениям и символам. Подробно рассказал мне историю летчика, упавшего в самолете под Новгородом в озеро во время боя с немецкими «мессершмиттами». Много лет летчик сохранялся в герметической кабине. А вскрыли – прах рассыпался. Но невеста, старуха, успела угадать парня.
«Русский народ – летчик, идущий на таран, он весь рассыплется, как его страну вскроют, весь!..» – заключал Акулов. А история этой драматической была такова – лучше не слышать.
Иван Иванович грустно делился итогами бессонниц: «Понимаешь, Валентин, террористы и зэки, революционеры, дорвавшись до власти, навоздвигали памятников себе и, породив миллионы, изобретя миллионы преступников, обрекли их, в грядущем, на амнистию, а теперь памятники, воздвигнутые теми, первыми, сносятся, а памятники амнистированным – возносятся: жуткая суть?
Памятники, столько по стране
Их натыкали на пьедесталах,
О, колючек меньше на стерне,
Чешуи на рыбе, мглы в кварталах..
Памятник ввинтился в наши дни.
Мертвый, бронзовый
и неуемный, —
Подойди к нему и пальцем ткни,
Рухнет и расколется, огромный.
Реки высохли, погиб Арал,
Не найти работы дровосеку.
Люди требуют мемориал
Главному герою века – зэку.
Не обида в них, не гневный форс,
По чумным пескам, буранам вязким
От Москвы
и на Магнитогорск
Зэк прошел и сгинул у Аляски.
Красные знамена Калымы
Меж сугробами оттрепетали,
Будем ставить памятники мы
Тем, кому и жить у нас не дали..
Памятник воздвигнул не народ,
Потому горбат, как за пургою,
В шар земной пинающий урод
Нервною, нетвердою ногою!..
Акулов воспринимал мир в единстве, в неразъемной зависимости: как ночь – и луна, день – и солнце… Рожденный трудиться, творить и праздновать удачу, он скорбно поднимал огромные глаза Христа, натыкаясь на гнусную ложь, на безжалостный обман негодяев. Реформаторов.
* * *
В детстве мне казалось: слишком расту я медленно, потому что видел нищету нашу деревенскую и несправедливый натиск районных начальников на семью нашу – то налог плати, то картошку и молоко сдавай, то шкуру коровью срочно вези, а корова на дворе у нас одна, и шкура на ней одна, – некому оттолкнуть, так оттолкнуть, чтобы налоговый агент носом борозду прочертил, а районный председатель – взвизгнул по-бабьи и прыгнул бы в распахнутую легковушку… Надоели. Жандармы патологические.
Быстро я вырос, а порядка нет и нет.
«Вот под Новгородом рыбаки, – начинал Иван Акулов, – сети в озеро закинули, и не могут вытащить. Суетятся лодками вокруг, моторчиками дымят, а сети закоченели. Еще с берега мужики бригаду пополнили. Еще лодки свежие подскочили по воде осенней. А ветер легко серебрит волнами и легко разгоняет их по сизовеющему простору. Сети завязли в глубине, о себе заявившей.
Седые старухи, невесты военной поры, толпятся на высоте, песчаную горушку ветхими пестрыми запонами и платками усеевая, вздыхают: беда, сети на дне озера за чудовище зацепились – дергают их рыбаки, а сети лишь натягиваются и струнно дрожат. Но не лопаются.
И в самой середине седых старух – самая седая бабушка: не стоит, не сидит, не прохаживается, а ладонь о ладонь трет и трет, хотя до снега далеко и холода за горизонтом еще не заворочались. Бабушку никто не приглашал на озеро, да и никого не приглашали. Зачем она волнуется и пальцы перебирает пальцами, в синюю мглу очи уставя?..
– Взяли!..
– А ну, взяли!..
– И… раз… взяли!.. – стараются рыбаки.
Сети затрепетали и по илу, по илу заскользили, заскользили, помогаемые рыбаками, и к берегу, к берегу с уловом страшным устремились, а на отмели прибрежной в сетях капроновых белый истребитель забился и засверкал, не проржавевший, крыльями соколиными, и даже тина, упокойная тина, его не затронула, огнем войны яростно крещенного, и теперь – в рыбацкие сети пойманного…
К трактору на трос прикрючили, рванули, а на суше, вольной и домашней, стекло и кабину вымыли, вытерли и слаженно хором неземно ахнули, побежав нехорошо в стороны разные.
В кабине – летчик за штурвалом. Пилот. Солдат небесный. Защитник русский. Белочубый. И глаза не закрыты – голубые, русские, огромной тоскою приостановленные, замерли и не мигают. А толпа старух, седых и всклокоченных, напирает и напирает на кабину, сдержать невозможно. Сколько из-под облаков попадало в годы войны их сыновей, их братьев, мужей, отцов их? Как вытерпели старухи русские это?
И вдруг бабушка седая, седее седых, пальцы теребить прекратила, да как закричит с берега, с холмика песчаного:
– Мой, мой Саша!.. Саша мой, Саша!.. Уйдите, отойдите, дайте мне к нему пробиться!.. Мой, мой Саша!..
Старухи расступились. Креститься принялись… Поворачиваются туда и сюда, туда и сюда, а белая бабушка, покачиваясь с плеча сутулого на плечо сутулое, бредет, сандалиями стежку пошоркивая, кривые руки вытянула, на кабину нацеливаясь:
– Сашенька, Саша, милый ты мой, где же ты от меня скрывался? Я ведь и замуж без тебя не вышла, я ведь и детей без тебя родить не решилась!..
Жертвенность и покорность.
И на колени опустилась бабушка. И вздрогнул истребитель, боевой и серебристый. И летчик, жених бабушкин, зашевелился, зашевелился в кабине, за стеклом бронированным, а узнать невесту свою, подружку хуторскую новгородскую, не в состоянии: кровавая тина зрачки ему отяжелила, а победное время далеко, далеко в глубину его отодвинуло, и память молодого сокола, защитника русского, притупилась, не слыша на дне ни рыданий матери, давно умершей, ни окликов невесты, сейчас на коленях растерянно закаменевшей, и только голос ее узнает храбрый летчик, ее голос, зовущий и беспощадный:
– Саша, Саша, Саша!..
Но дзенькнула, но хрустнула источенная слезами и тьмою кабина, и вспыхнул как бы куст сирени огненной, и растворился, мигом исчезнув, пилот смелый, Саша, жених русский, пятьдесят лет ожидаемый красивою девушкой русской, бабушкой седою и грузною… Исчез».
Иван Иванович замолкал.
Воздух и камень. Вода и небо. Снег и ветер. Земля и время. Годы и люди. А что вечно? А кто вечен? Вечна верность, любовь и верность. Вечны отвага и правда. Вечна Россия, и подвиг сынов ее вечен, как подвиг ее вдов, невест и жен русских, и у смертного порога все еще ожидающих не вернувшихся любимых с войны: как измерить и рассказать про такое сверхбиблейское страдание и боль? Не измерить и не рассказать.