Текст книги "Крест поэта"
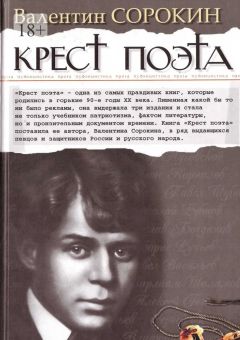
Автор книги: Валентин Сорокин
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 37 страниц)
* * *
Альберт Беляев вызвал на ковер отдела культуры ЦК КПСС Воронова Николая Павловича:
– Когда прекратишь оборонять «Современник»?
– Никогда, лучшее издательство у нас.
– Партии дорог покой Шолохова, советского классика, понял?
– Понял. А покой других писателей?
– Вы все, считает партия, одного Михаила Александровича не стоите!
– Покой классика нарушает дочь классика.
– Молчи! – прикрикнул Беляев.
В те времена не только Беляев, но и мелкий цэковский клерк мог вести диалог с рядовым коммунистом от имени партии. Кто в ЦК – тот и партия. Но отлучая нас от партии повелеваниями и одергиваниями, они отлучали от нее себя, а ее – от народа, от жизни отлучали. Готовили ей, умники и службисты, горбачевскую гильотину…
Шолохова же оставили «тет-а-тет» с ЦК, потом – с бронзовым бюстом, с отлитым идиотом из чугуна и железа, идиотом, каких они отливали себе. Бюсты, бюсты, а партия и страна дышали кончиной, мафии и кланы рассеивали и утверждали по кремлевским и министерским кабинетам воров: торжище на могиле великой державы разогревали Горбачев, Яковлев, Шеварднадзе, Ельцин.
Банда, отняв у великого народа великую Родину, разбежалась по губерниям и республикам делать «независимые государства», продолжать идею бюстов —увековечиваться на слезах и смертях людей:
Время мое приспело,
Не страшен мне лязг кнута.
Тело, Христово тело.
Выплевываю из рта.
Веру, Бога скормили взбешенному голоду, охваченному расстрельным ужасом. Новый Троцкий грядет. Новый предатель Горбачев маячит… Что завтра нас ожидает? Есенинское страдание – в народе.
Пытанные жестокостью – немилосердны. А спасенные внимательной добротою – забывчивы. Мне ли оправдываться перед Шолоховым? Мне ли низгу на его памятник насылать? Свет «Тихого Дона» вечен, если вечна Россия.
Мы с Машей молоды были – себя насмешили, а близких осерчать принудили. В Москве, на суде КПК, сердце мое медным колоколом гудело, на Урале мать моя, Анна Ефимовна, стон его в полночь ловила. Свечку за меня Богу теплила. Свет, свет добывала, да на святой старинной воде воском плавленым тоску мою замуровывала. Показала чью-то, напущенную на меня, язву, и в белых всполохах зимы утопила.
Оперся я на обшарпанные отцовские костыли, оперся, пораженный, и заново приподнялся. Здравствуй, улыбка!.. Слез-то и без моих – море. Оно шумит, как вьюга, и, как мать моя причитает. Но плакать поздно: журавли мои откурлыкали, а цветы мои в туман лепестками сыпались. И Шолохов не виноват!
Вьюга. Вьюга. Завоет – грустная луна спрячется. Мороз ударит – месяц монгольским ятаганом на острие задрожит. И желтая конница хлынет из киргизских степей к рязанским березам. Сизый иней опалит золотые кудри Сергея Есенина. Света, света ему не хватало:
Я тоже рос,
Несчастный и худой.
Средь жидких,
Тягостных рассветов,
Но если б встали все
Мальчишки чередой,
То были б тысячи
Прекраснейших поэтов.
Где они, изувеченные временем и жестокостью, мальчишки? Чья доброта спасла их? Сизый иней, холод сизый не к медному колоколу, а к сердцу моему прикипел…
Литература – индивидуальная стезя. А поэтическая глубина на житейских перекатах не родится. Что дала мать, то в тебе, что перечувствовал, перестрадал, то в слове. И если ты в народе, а не в антинародной конституции – и жена, может, не загуляет, и стихи твои, может, напечатают, и евреи тебя, может, не затравят…
В дни горбачевского переворота священник Глеб Якунин, благословляя на подвиг Бориса Ельцина, намекнул на Сергия Радонежского и Дмитрия Донского. Но Сергий Радонежский и Дмитрий Донской собрали рать на Куликовом поле сразиться с полчищами чужеземцев, а Якунин и Ельцин на распре внутри единого народа, единой России, к славе пристегнулись: оба – кожзаменители. И никто из русских бодрствующих корифеев не отверг прозвучавшего срама, никто.
Судить пора не партию, а лидеров – от Ильича до Ильича, и далее – до Горбача, включая каскоголового палача. Судить партию, а была она? Рядовые ее солдаты – под обелисками, под безымянными холмиками, под колымской мерзлотою. Рядовые ее солдаты – в мартене, на пашне. Рядовые – и есть рядовые: вкалывай и давай лидерам взносы: Горбачев, известно, вокруг ее валютной «карты» не зря отирается. Лидер партии – предатель и палач партии.
Я, мятущийся, не вышел из КПСС. Пусть меня обыскивали шакалы Пельше, хлопая по ушам: «Ничего, ничего, положено у нас, положено!»… Пусть моих детей выкинули, ради мультимиллиардерши Онассис из квартиры ленинцы, не вышел. Пусть выговор с занесением у меня, не вышел. И встань на трибуне не Ивашко, не Горбачев, из породы «бессмысленно и тупо мигающих жаб», а Минин или Пожарский – вернутся тысячи и тысячи. Но пока – ивашки, пока – горбачевы…
Надо утишать всеобщую грызню. Примиряться надо. Прощения просить: земля поседела, осатанели мы. Колос пригнувается, ромашка в крови, села и города рассыпаются под минометом. Дети бегут от войны, а война настигает их. Родители умирают на грядке утлой усадьбы… И опять – могилы под окнами, под окнами, ну сколько же так?
Кляузы Сергея Смирнова ни в райкоме, и в ЦК КПСС не приняли серьезно, хотя следователь Комитета партийного контроля Соколов и зачитал их на суде КПК над нами. Принял серьезно кляузы Смирнова, Понкратова, Целищева и Горбунова Шолохов. В телеграммах «наверх» Михаил Александрович их имена называл «известными», пристегивал к их вялым именам победоносные эпитеты в наступлениях на меня.
А чего было на меня наступать? Меня бы и без его наступлений вскоре сняли, и не за «взносы», не за «аттестат», а за позицию «Современника», осмысленно-русскую.
Взносы я переплатил, нарушая последовательность, квартиру получил, подарив государству кооперативную, аттестат выдали новый, а Сергея Смирнова с пятой книгой, о Ленине и Брежневе, чуток подзадержали – ЦК КПСС не скис бы, не слег от инфаркта? Кляузы калек ничего серьезного не сыграли бы в моей судьбе, кроме, разумеется, телеграмм Шолохова и писем Шолохова Брежневу, Пельше, Тяжельникову, на КПК и т. д.…
В дни «демократического переворота» распаковывались «Дела», вскрывались сейфы, и «случайно» мне в руки передали протокол КПК – суда над нами, сданный «на вечное хранение» в министерскую контору, назначившую меня главным редактором «Современника», но вышвырнутый из сейфа за ненадобностью. Вчитываясь в протокол КПК, я хохочу: партподлецы сдали «на вечное хранение» потрясающее саморазоблачение. Нарочно не придумать.
Хохочу теперь, а тогда? Тогда за мной ползло обозначение погибели из трех обычных букв. Обозначение – унижение. Обозначение – страх. Обозначение» кара: КПК!.. Некоторые, заметив меня на площади или на тротуаре, спешили свернуть и пропасть за трамваем или за котлетным киоском, а некоторые – набрасывались в диспутах и дискуссиях, прочно зная: ничего за меня им не будет – прокаженный: КПК!..
Поднимался я из-под КПК долго и трудно. Сердце мое кричало. Казалось, тяжкие бетонные плиты сбрасываю, сбрасываю с себя, а плечи дрожат и гнутся, дрожат и гнутся. Ухари, долбившие меня или насмехающиеся тогда надо мною – ликующие неврастеники: где им понять – чего мне стоило после железных ударов Шолохова подняться, выжить и вновь начать выступать в газетах и журналах? Недаром же меня обыскивали перед кабинетом Пельше: опасный? Прости меня, Шолохов. Прости меня, Маша.
Обжорство и надменность, неравенство и цинизм погубили Революцию и КПСС. В июле 1991 года Ю. Бондарев, В. Солоухин, М. Годенко, Ю. Прокушев, мы, собрались у могилы Василия Федорова на Кунцевском кладбище. Не очередной прижизненный бюст нахально открывали, а запоздалое надгробие великому русскому поэту, сибиряку.
Приехал В. Бакатин, его земляк, освобожденный с поста министра МВД СССР, тускловатый. И приехали цекисты. Их я отлично знал по ссорам с ними. Один – лохматый и сонный, другой – облезлый и сонный, а третий – юркий, умеренный чубчик, движения оптимистичные: косой, глухой и горбатый, тютелька в тютельку!..
Поговорили, Бакатин подошел к нам и попрощался со мной и с моей женою. А к цекистам приблизились мы: «Неужели не чувствуете, ведь порохом крушения веет?» – Лохматый обиделся на меня: «Не надо учить нас! Учить нас не надо!» – И те, облезлый и оптимист, те кивнули в такт лохматому: «Не надо учить нас!..»
Я жене говорю: «Гляди, сейчас они заберутся в персональные „Волги“ и ни тебя, ни меня не пригласят, а мы ведь утомленные люди!..» Точно. Цекисты разместились, поерзали, как в «Чайке» Полозков, и отвернулись. А «Волги» их, вот уж настоящие-то чиновничьи собаки, показалось мне, гавкнули на Иру: «Гипертоник, а по кладбищам шляешься!..»
Цекисты сталкивались со мною по «преступлению» моему и по моей поэме о Г. К. Жукове, «Бессмертный маршал», запрещенной ими на тринадцать лет. Они имели представление о моем «русофильском» характере, а тут я еще и поучить их надумал. Оскорбление нанес деятелям. Сморщились.
Когда же Горбачев заложил их, КПСС и страну с потрохами – они перестали дремать на совещаниях и грызться при встречах, а заявили: «Мы теперь вместе будет сражаться за Россию!..» Борцы эти вчера меня, «шовиниста», топили, а сегодня меня уверяют в совместной принципиальной борьбе за Россию.
Разные они по виду и по натуре, но одеты были одинаково: в темных костюмах, в темных галстуках, с красными папочками. Папочки – суть. Вспомните Горбачева? Без папочки, как дама без сумочки, ни секунды: в папочке, уверял Иван Акулов, завещание на предательство Родины ему от тайных лидеров, разрешение на подлость…
«Иди и впредь
Не греши!»
Ивашла моя умерла. Убили ее налогами и геноцидом. Такие предатели, как дьявольский разрушитель Горбачев, Ельцин за Ивашлой добивает все живое. Не только соловья и кукушки – медведи онемели перед Гайдаром.
И теленка австрийского нет. Побеседовал бы, наставил бы меня на ум-разум, как наставил Ивана Ивановича Акулова, самого бесстрашного из писателей, близких мне, и, пожалуй, самого русского. Да и «Мерседес» с орденом – русским по боку: об истине скучают… Кроме Горбачева. Его наградили за комбайнерство еще в пионерах.
Из России Ельцине, как при Ленине, Сталине, Хрущеве, Брежневе, Андропове, Черненко, Горбачеве, воруют эшелонами, через чиновника – золото, серебро, медь, алмазы, свинец, уголь, пшеницу, лес, мясо, сахар, сливки, теплые: австрийский телок пьет, а мы? ас на митингах каскоголовые караулят. Мы в голодном плену у демофашистов.
Столкнулся я с жарообразным романистом у ЦДЛ:
– Застал жену?..
– За-за-астал, в п-постели на-а-крыл, п-подписку с нее и с него в-взяли!..
– Бригадой дружинников!.. Милицией?..
– С-со-седей по-д-нял! – тупо мигал «рогатый», – Косого, Глухого и Горбатого».
– А дальше?..
– Я-я ю-рист, а она п-партийная, выдерну на-а КПК!..
Но не суждено было выдернуть свою жену Миколе Фасонову на КПК, не суждено.
А что же – поэзия? Что же – позиция писателя? Считаю: лучше умереть, повторяю, лучше погибнуть под дубинками за отеческий край, за мамину молитву, за родную русскую речь, чем слышать из гундявой телебашни унижения и клички, населенные в русский народ. Да, лучше погибнуть. Это – и есть поэзия!
В 1993 году мне, коли доживу, исполнится 57 лет, а трудовой стаж мой будет равняться 40 годам, не считая детского труда в колхозе. Мне стыдно. Я бесправная лошадь, на мне ехали КПСС, ЦК, Политбюро, КПК, Соколов, а последним —обверхал Горбачев, как плут Чичиков, скакал в Европейский дом, к общечеловеческим ценностям, обагрив кровью меня и мою Родину.
Потому 3 сентября 1991 года я твердо написал в партбилете: «Генсек Горбачев доразложил, предал и уничтожил КПСС, а президент Горбачев доразложил, предал и уничтожил СССР!» И это —настоящая высокохудожественная поэзия…
Страшно. Генсеки ЦК КПСС и Предсовмины СССР, министры и академики на своих партсъездах в Кремлевском Дворце всерьез патриотично укрепляли с трибун вражескую мысль: «Повернем реки Сибири в советскую Азию!»… А зачем? Дотекут ли реки до советской Азии?.. Не дотекли ведь, расплескалась большевистская энергия вожаков по рытвинам и ухабам предательской горбачевской перестройки.
Реки не удалось повернуть – Чернобыль взорвали. Атомной заразой попотчевали нас. Кто за реки ответил, за тот подлый проект? Никто. А кто за атомный взрыв реакторов ответил? Никто. Кто за развал СССР ответил? Кто за расстрел русского народа у Дома Советов ответил? Кто? И за гибель русских молоденьких ребятишек в Чечне никто не ответит. Даже за кастрирование синеглазых юных пленников у озверелых наемников никто не ответит. Русский народ – не народ, а коли следовать за цинизмом антирусской прессы, русский народ – быдло!..
Разве Горбачев меньше Гитлера принес беды русскому народу? Почему же их, «беловежцев», не пустить под трибунал? Сионистсая пресса над Лениным и Сталиным ореол воссиянила. Брежнева и Горбачева сионистская пресса в главные архитекторы планеты произвела. Сионистская пресса руководила СССР, она же и добивает теперь измученную Россию, уничтожив СССР и дружественные страны вокруг.
Господи, даже Сергей Ковалев ныне – гигант. За неделю на русской крови и на русских слезах перхотный человечек возносится наглой прессой до звезд, до подобия космической фигуры. Из Олега Попцова, семенящего по телевизионным закоулкам, антирусская пресса нарисовала, состряпала политика, крупного деятеля… Возвеличенная бездарь – не чудо ли двадцатого века? С бездарями и дрался Борис Можаев.
И литературный Ленин —не житейский Ленин. В литературного я верил и надеялся на него, а распознав житейского —отвык и от литературного, почти презирать начал. Обидно и стыдно…
Рыдайте, вьюги, над пропавшим хутором моим – Ивашлою. Гляди, гляди и леденей, луна, в мертвых просторах уральской ночи.
Завистники – Чингисхан и Батый, Наполеон и Гитлер, Рейган и Буш, Горбачев и Кравчук, Ельцин и Шушкевич. Лютые завистники – ненавистники, душители – сокрушители России, СССР. Зависть у президента клеймо на совести выжигает. Зависть скорпиону-неудачнику температуру и крови нагнетает… Кому – территорию оттяпать. Кому – на трон влепиться. Кому – Пушкина извести.
В Новый 1995 год на экране шелушащиеся ваучеры заползали: политики, паралитики, артисты, аферисты, певцы, стервецы. Яковлев, Попцов, Эльдар Рязанов, Ковалев. Вылинялые ящеры хвостами стукаются. А перед ними – сексуальная курва. Разжалованному патриархом Глебу Якунину:
Хочешь меня, хочешь?..
Только не сегодня, только не сейчас!..
Задницей мухлюет, импотентов очаровывая. Дергаются туловищами Боннэр и Старовойтова, Раиса Максимовна и Панфилова. Как импотентом не сделаешься? Эх, ты, Россия Кутузова и Пушкина, Жукова и Есенина!
Мать моя, Богородица.
Заступница пресвятая,
В одеждах огненных,
С двенадцатью девами небесными
Шесть слева и шесть справа,
И все в одеждах заоблочно-огненных,
Подними крест православный,
Защити невест русских,
Жен русских и сестер русских
От карликов кудлатых,
Бесов рогатых,
Зверей клыкатых!..
Сверкни, грозный крест русский, над ворогами и захватчиками, пронзи их, дьяволов ощеренно-завистливых, русским светом звеняще-сияющим в просторах скифских! Аминь.
Искусство – народ. Поэзия – любовь и Родина. И «Слово о полку Игореве» – родник. Еще повторю: мы, поэты, непременно обязаны «закрывать амбразуры», если гибнет русский народ. Седой и горький, я завидую Матросову, завидую Есенину, завидую Бояну:
За землю Русскую,
За раны Игоревы!..
Топор интернационального ордынца отколол от империи Финляндию и Польшу, а у России только ли Порт-Артур, КВЖД и Крым?.. Где статистика?.. Отколол, а Горбачев, через острова в Беринговом море, опустил топор на герб СССР.
И у нас от СССР – у Большого театра цементная голова Карла Маркса маячит. Если раскрошить на ее плацу несколько буханок хлеба – слетятся голуби и начнут тесниться и клеваться. Доворковались?.. За крохами гоняемся.
А топор перехватил свежий предатель, ведь ни одного из них не было, кто бы не разорял Россию, ни одного! Русских за империю —судили, теперь за КПСС —допрашивают. А кто допрашивает? Картавые бесы. Хвосты под столом прячут и допрашивают, допрашивают. Не хватит ли? Не их ли остепеняет Клюев?
Слава нетленному чуду,
Перлам, украсившим свод.
Скоро к голодному люду
Пламенный вестник придет.
К зрячим нещадно суровый,
Милостив к падшим в ночи,
Горе кующим оковы,
Взявшим от царства ключи!..
Горе нам, подпавшим под иго, но горе и полонившим нас. Нас, русских литераторов, судили в день рождения Сергея Есенина, 3 октября 1978 года. И Дом Советов, Россию, начали расстреливать в день рождения Сергея Есенина, 3 октября 1993 года. Случайно ли? А за Есениным – русский народ. За Есениным – Христос.
* * *
В России великие поэты родятся по вздоху судьбы народа, по зоркой воле Бога. И Николай Алексеевич Некрасов, как Сергей Есенин, рожден по зову прошедших и грядущих поколений, по голосу русской жизни и русского горя:
Где вы – певцы любви, свободы, мира
И доблести?.. Век «крови и меча»!
На трон земли ты посадил банкира,
Провозгласил героем палача…
Ярославская земля. Русская холмистая равнина. Ярославль – город великий. Князь Ярослав Мудрый. Князь Александр Невский. Украинская, польская, русская – славянская родословная поэта. Река Волга – главная улица России. Если Александр Пушкин – наша русская поэтическая даль, то Николай Некрасов – наша русская поэтическая боль: к Пушкину идем, а есенинским сердцем Некрасова слышим:
Прочь, о, прочь! – сомненья роковые,
Как прийти могли вы на уста?
Верю, есть еще сердца живые,
Для кого поэзия свята.
Терпение и грусть. Терпение и тоска. Терпение и верность Отечеству, народу, русской доле. Сколько же топтали и утрамбовывали имя Некрасова разношерстные деятели, маститые и немаститые, умные и неумные, но по единому образцу воспитанные в ненависти к русскому духу, к русскому дому?
Не от некрасовского ли терпения и мои строки терпеливы?
Смотрю в глаза усталые жены
Или сестры страдающие очи…
И внуки наши, ой, поражены
Трагедией смыкающейся ночи.
Она легла от неба до земли
Над тысячами всходов и цветений,
Мы, русские, уже не проросли
Через бурьяны инородных теней.
Прищурюсь я, а сын – в крови моей,
А я—в крови отца, отец мой – деда,
Все это приползло из-за морей
С тобой, золотозобая победа!..
Но под великим сводом высоты,
Надеждою излечивая близких,
Мы, русские, оперлись на кресты
И выдвинули к звездам обелиски.
Так встанем же теперь, богатыри,
Раскинем взмахом тучи над собою,
Ты русскому о скорби говори,
Готовь его к терпению и к бою!
Вздох матери – земли отцовской горсть,
А кто не верит, для страны родимой
Не только – лишь чужой незваный гость,
Не только – лишь Иуда нелюдимый.
Да вспыхнет перед ними трын-трава,
Кого и впрямь не трогают до боли
Понятные и вечные слова:
Москва!..
Россия!..
Куликово поле!..
У Некрасова учился Есенин. У Некрасова и мы учимся:
О, Волга!.. колыбель моя!
Любил ли кто тебя, как я?
Разве это ослепленное самозабвение? Это неодолимая любовь, человеческое призвание, распахнутые глаза нации – и есть полководчество разума, власть все подчиняющей доброты, власть державного таланта.
Некрасов собиратель. Редактор. Политик. Гражданин. После-пушкинская классика девятнадцатого века вынянчена и выпестована работой Некрасова. После Некрасова не было у нас на Руси поэта с подобной государственной биографией: каждое великое литературное имя – через него, через него сверкало и сверкало в народ. Даже молодой Плеханов на похоронах Некрасова кричал Достоевскому, сурово требуя вместе со студентами означить уровень дарования Некрасова – выше уровня дарования Пушкина…
Вот уж захлёбно по-русски!.. Сойдясь, двое русских начинают выяснять, кто качественнее генетически, а, сойдясь, трое русских тут же начинают выяснять, кто из них гениальнее. А это – давняя братская могила наших русских свобод, чаяний и устремлений:
Ты и убогая, ты и бессильная,
Ты и могучая, ты и обильная,
Матушка-Русь!..
Сегодня бранят русский народ, бранят Россию, натравливают на русских и на Россию другие народы и страны. Но стреляет в Чечне не русский народ, не Россия и не ее народы. Стреляют мафии руками несчастных, мафии и кланы обвязывают их жгутами законов.
За Горбачевым на Россию кровавая муть опустилась.
Вполз в столицу ваучер с Кавказа,
А потом забрался в президенты.
Потекла вокруг него зараза,
Зажужжали мухи-диссиденты.
Ваучер о перестройке вести
Нес в орду грабежного набега,
Ну а Буш его по морде съездил:
«Замолчи, ставропольский Норьега!..»
И покуда шлепал он губами,
С пленума до шулерского бала,
Ваучериха,
в грызне с рабами,
Ластами алмазы выгребала.
Стачивались зубы от усердья.
Над Кремлем якутский ветер гикал.
У Арбата, в Фонде милосердья,
Хромоногий ваучер хихикал.
Мы зверей не скоро переселим:
В Белом доме ваучер напился,
Съел последний крендель у России
И, урча, за рельсы зацепился.
Но не лег, хоть водочная смута
До луны нагромоздила шпалы…
В кабинетах, разных почему-то,
Выли одинаково шакалы.
Память ударяла в колокольца:
«Драка с ваучером!..»
«Лоб пятнистый!..»
То свивался на асфальте в кольца,
То взмывал стрелою серебристой,
Даже на мосту не удержался,
Прыгнул вниз, и ловкости хватило,
Под волной с чудовищем сражался,
Гнал по трезвой суше крокодила.
А в душе терзанья не померкли:
Сколько присосалось паразитов?
Ваучеры ваучера свергли.
Родина сошла с колес транзитов.
И теперь село в село стреляет,
Город рвется в город с нелюбовью.
Ваучер хвостом не управляет,
До Бишкека брызжет грязной кровью.
Ваучер могилы продал наши,
Обелиски, —
боль земного шара,
И детей русоволосых мажет
Пеплом азиатского пожара.
Потому и в мире климат грустный.
Не питайте радостных идиллий.
Ваучер, бесспорно, самый гнусный
Изо всех известных нам рептилий!..
Ползли, ехали, двигались, маршировали, скакали и катились на русский народ и на Россию варвары. Из русской памяти Чингисхан еще не выветрился, а Гитлер в памяти русской не обернулся голубем сизым. Ни Бжезинский, ни Киссинджер нами не запамятованы.
В двадцатом веке традиция некрасовской верности не прервалась в русской поэзии, а усилилась. Александр Блок и Андрей Белый, Владимир Маяковский и Сергей Есенин, Александр Твардовский и Владимир Луговской, Виктор Боков и Василий Федоров, Николай Тряпкин и Сергей Викулов, Виктор Кочетков и Федор Сухов, Станислав Куняев и Николай Рубцов, Егор Исаев и Виктор Коротаев, Иван Савельев и Станислав Золотцев. А уничтоженные – Павел Васильев и Борис Корнилов? А Дмитрий Кедрин и Алексей Недогонов? А Павел Шубин, Алексей Гранин, Петр Комаров?.. А Михаил Исаковский, Александр Прокофьев, Борис Ручьев?
В Москве – тоска тяжелее. А под Москвой – русская земля сиротливее. Выйду я из своей трухлявой избы, под Сергиевым. Посадом, в зимнее поле – снег, снег. Избы, избы…
Вновь я приник душой
К тропке, неторной, узкой,
Снег-то какой большой
Лег на равнине русской.
Избы стоят, пусты,
А посреди селений
Холмики и кресты
Выбитых поколений.
Лозунгов нам и гроз
Вдоволь ссудил диктатор.
Ныне – гнетет колхоз,
Завтра – кооператор.
Запад опережать
Все еще не устали,
Только детей рожать
Женщины перестали.
Видите, гарь летит
В бездну поземкой рваной,
Это – в Москве бандит
Мчится, прикрыт охраной.
Мчится клейменый вор
В сваре страстей недремных,
Мчится, на петли скор,
От преступлений темных.
«ЗИЛов» шальных дымы
Вытянулись хвостами,
Чтобы скорей и мы
Сгинули под крестами.
И за бедой напасть
Движется бесконечно,
Мало – его проклясть,
Мало – и помнить вечно!..
Некрасов над безвинно погибшим рыдал, как мы рыдаем, а над помятомордым палачом, как мы, Некрасов поднимал проклятие поэта. Нам ли по-сыновьи не завидовать Некрасову? Нам ли не завидовать неподкупной смелости Есенина?
Русские поэты – эхо. Заболит, заноет душа поэта – криком слово у него к народу родному запросится. Запросится – эхом возвестится, эхом пролетит от края до края России. Сейчас закрывают русские газеты и журналы, закрывают – ценою на бумагу, судами над редакторами, даже убивают тех патриотов, кто эхом тоски, эхом боли своей стучится к нам и стучится.
Сколько мы дорогих сыновей похоронили?
О, Муза! я у двери гроба!
Пускай я много виноват,
Пусть увеличит во сто крат
Мои вины людская злоба —
Не плачь! завиден жребий наш,
Не надругаются над нами:
Меж мной и честными сердцами
Порваться долго ты не дашь
Живому, кровному союзу!
Не русский – взглянет без любви
На эту бледную, в крови,
Кнутом иссеченную Музу…
Не беги стыдливо от прошлого. Не зажмуривайся робко перед настоящим.
* * *
В русское православие, в русскую философию, в русский быт, в русские края вторгается наглее и наглее, повелительнее и повелительнее «мировое пространство», мировая масонско-сионистская мафия, планетарный «культурный» рэкет… Русская обитель под оптическим прицелом масонско-сионистских тузов.
Религии мира наворачиваются на «колодезный ворот» мировыми воротилами, а пойло, приправленное их космополитическим чесноком, искусно предлагается изнуренным жаждою и растлением гоям.
Столпы, апостолы, наместники Бога изменяют заповедям и молитвам, отрекаются от нареченного храма и вечного Христа. И я не потрясен сыскными трофеями «Мещанской газеты», выпущенной в Симферополе 4 июня 1994 года, номер 41:
«Наш нью-йоркский корреспондент со ссылкой на достоверные источники сообщает, что в синагоге Пентагона состоялся тайный обряд обрезания папы римского. В связи с секретностью церемонии на ней присутствовало только минимально допустимое, по иудаистским канонам, число лиц мужского пола – так называемый «миньян» или кворум.
Вот полный список участников мероприятия: верховный раввин США Шиндлер, Генри Киссинджер, Александр Яковлев, Говард Фаст, Майкл Дуглас, Симон Визенталь, Грегори Пек, Эли Визель, Бруно Крайский и Георгий Арбатов.
Процедуру осуществлял сам раввин Шиндлер. Обнаженного папу римского на коленях держал Генри Киссинджер. Шиндлер подал римскому первосвященнику бокал красного вина с примесью крови христианских младенцев. Когда папа римский блаженно заснул, Шиндлер оттянул крайнюю плоть и отрезал хирургическим скальпелем, продезинфицировав рану спиртом.
Рана между тем продолжала кровоточить. Тогда Георгий Арбатов, склонившись перед спящим папой на колени, стал зализыватъ рану. Минут через пятнадцать кровотечение прекратилось. Все присутствующие выпили по бокалу красного вина. Обрезанный папа римский продолжал спать.
Те же достоверные источники сообщили корреспонденту, что спустя месяц в городе Чарльстон, в главном масонском храме всего мира папа римский совершил черную мессу перед алтарем сатаны. В Чарльстон он был доставлен в обстановке глубочайшей секретности на борту самолета американских ВВС. На черную мессу в Чарльстон прибыли все члены американского правительства, ведущие сенаторы и конгрессмены, а также виднейшие масоны всего мира. Среди них – Лех Валенса, Вилли Брандт, Андрей Синявский, Генрих Белль, Эжен Ионеско и другие.
Кульминационным пунктом мессы явилось низложение римским первосвященником своей папской тиары к подножию статуи Люцифера, на три ступеньки ниже костей и черепа гроссмейстера тамплиеров Якоба де Молз. На обнаженную голову папы раввин Шиндлер сразу же надел ермолку. Затем папа на коленях подполз к черепу Молэ и трижды поцеловал его.
Черная месса явилась заключительным актом официального подтверждения главой римской католической церкви ее безоговорочного подчинения престолу Великого Архитектора Вселенной, то есть Люциферу – Сатане».
В Тель-Авиве надели на лобяное пятно Горбачеву, архитектору перестройки, ермолку. А ползал он, вчерашний Генеральный секретарь ЦК КПСС, перед статуей Люцифера или не ползал, – демократический экран не показал… А ведь ползал, ползал?.. И не обрезали?!..
Гитлер, Гиммлер, Геринг, Геббельс за мучения немецкого народа и народов СССР, народов Европы – осуждены. Осудят ли Горбачева, Яковлева, Шеварднадзе, Ельцина, Кравчука, Шушкевича за истязания над великой державой, разворованной и растасканной ими? Осудят ли их, членов ЦК КПСС, членов Политбюро ЦК КПСС, внуков и правнуков запломбированных в вагонах ленинцев и вытолкнутых к нам из Берлина?
Гитлер и папа римский – малютки перед ними… Фашизм – не «красно-коричневый фашизм», а их фашизм, масонско-сионистский, их, их, выблядково-упырий, со статуей Люцифера в телецентре… Народный суд приговорил к вечному проклятию и позору Люцифера, но даже пятно на его алюминиевом лбу не покраснело.
Отец мой, Сорокин Василий Александрович, в Челябинске лежит, в каменной уральской могиле. А друг мой, Иван Иванович Акулов, здесь, на Радонежье, зарыт – снег над ним вьется, вьется и белыми вспышками в полночь уносится. Троице-Сергиева лавра куполами горит.
Четырнадцать комиссий, включая КРУ – и ни рубля растраты в издательстве, и никаких улик, но суд над ними цекисты организовали. Арвидт Янович Пельше, седенький, колючий, ежик и ежик, постукивающий лапками по роскошно-громадному столу, а за столом – упитанные, блинно-балычные хари, мужчины и женщины, яростью классовой щепетильности накачанные.
Пельше:
– Мирнев, парторг, становись к стенке!..
Хари:
– Расстрелять их!..
– Расстрелять их!..
– Писсааки!..
Возникает перепалка, потасовка устная: стоянка такси или очередь за минтаем?.. Допрашивают. Философствуют. Измываются. Оскорбляют – кому как взбредет.
АрвидтЯнович:
– Прокушев, директор, становись к стенке!..
Хари:
– К стенке его!..
– К стенке, писсааку, есенинца, к стенке!..
Прокушев докладывает. Хари следят за Арвидтом Яновичем. Арвидт Янович завозился, завозился и помиловиднел – хари завозились, завозились и помиловиднели.
Пельше:
– Строгий выговор им!.. Занести в учетную карточку!..
Хари:
– Писсааки!.. Не Толстые!.. Не Шолоховы!.. Вон их!.. Вон их!..
Арвид Янович:
– Сорокин, главный редактор, становись к стенке!..
И дернулся ежик в кресле, и по роскошно-громадному столу мелко, мелко лапками заморзил, взвизгивая, как шестнадцатилетняя чувственная купальщица:
– Не задавайте ему вопросов!.. Не задавайте ему вопросов!..
Хари:
– Ассарокин, бельгийский шпион!..
Я, конечно, шпион. И шпион не бельгийский, разумеется, а русский – покорный, покорный, добрый, добрый, но… И заплескалась кровь русская моя!.. Сейчас я, сейчас я взорвусь и назову их достойными именами, и награжу их достойными эпитетами, сейчас!..
Но Пельше:
– Сорокин, садись, выговор тебе с занесением!.. С работы тебя не снимем!.. Набирайся опыта!..
Старуха подкатилась, таратаистая и провонявшая убойными сигарами, гаванскими, интернациональными, кукиш мне:
– Шпиен, не промахнулась бы, между бровей всадила бы тебе, и-и-и!.. – Старуха вздулась и впала в идиотскую марксистскую медитацию.
Потом я узнал: судили нас амнистированные Хрущевым ленинцы. Иосиф Виссарионович Сталин кого из Совмина, кого из ЦК, кого из золото-алмаз-нефтетреста за воровство, блуд, предательство и прочие достижения в строительстве социалистической экономики упрятал за решетку, а демократичный Никита в судьи их произвел.









































